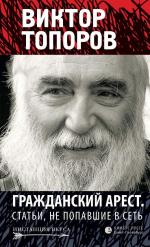- Николай Мельников. О Набокове и прочем: Статьи, рецензии, публикации. — М.: Новое литературное обозрение, 2014. — 424 с.: ил.
В книгу вошли исследования различных аспектов жизненного и творческого пути Владимира Набокова, «комбинированное интервью» писателя, собранное из газетных и журнальных публикаций 1950–1970-х гг., разбор трудов набоковедов и исследователей русского зарубежья, а также произведения современников Набокова, ведущих зарубежных писателей, без которых немыслима история мировой литературы ХХ века: Джона Апдайка, Энтони Бёрджесса, Марио Варгаса Льосы, Ивлина Во, Вирджинии Вулф, Лоренса Даррелла, Айрис Мёрдок, Уильяма Стайрона, Мартина Эмиса и др.
ВЛАДИМИР НАБОКОВ И ВЗБЕСИВШИЕСЯ ЛОШАДИ ПРОСВЕЩЕНИЯ
При взгляде на толстенный том «Полного собрания рассказов»1
Владимира Набокова
сердца пылких набокофилов наверняка преисполнятся восторгом и умилением: «благодаря
многолетней работе исследователей Набокова», широковещательно гласит рекламная аннотация, впервые под
одной обложкой «удалось собрать все шестьдесят восемь рассказов, написанных им в 1920–1951 годах в европейской эмиграции и Америке».Правда, книгочеи со стажем, с перестроечных времен составившие
целую библиотеку набоковских и набоковедческих изданий, со скептической усмешкой могут заметить: из шестидесяти восьми рассказов
и новелл, вошедших в книгу, шестьдесят четыре неоднократно перепечатывались, в том числе и в двух собраниях сочинений — «огоньковском» четырехтомнике 1990 года с его баснословным тиражом
170 тысяч экземпляров и в «симпозиумовском» десятитомнике, —
а поскольку «Полное собрание рассказов» является точным аналогом
сборника «The Stories of Vladimir Nabokov» (1995), выпущенного под
редакцией Дмитрия Набокова, возникает законный вопрос: в чем же
заключалась «многолетняя работа» не названных в аннотации «исследователей»? И имеет ли смысл приобретать, причем за немалые
деньги, книгу, в которой содержится только три рассказа, ранее
неизвестные российскому читателю? (Рассказ 1924 года «Наташа»,
не опубликованный при жизни Набокова и не входивший в названные
собрания сочинений, был напечатан в «Новой газете»2, при желании
его без труда можно выловить в Сети; три другие новинки — «Говорят
по-русски» (1922), «Звуки» (1923) и «Боги» (1923) — до сего времени
были доступны только в переводах на английский, выполненных сыном писателя для «The Stories of Vladimir Nabokov»; представляя несомненный антикварный интерес, они явно не блещут художественными
достоинствами: не случайно взыскательный автор так и не решился
напечатать их при жизни — ни по-русски, ни по-английски.)Может быть, книгу стоит приобрести ради набоковедческого обрамления? Тем более что оно здесь не только отличается многослойностью, но и сдобрено изрядной долей веселого абсурда. Судите сами.
«Итоговый конволют» (воспользуемся словечком составителя)
открывается переводом предисловия Д.В. Набокова к упомянутому
изданию 1995 года. В начале этого забавного текста перечисляются все
прижизненные англоязычные сборники набоковской «малой прозы».
Затем Набоков-младший садится на своего любимого конька и горько
сетует на «колоссальных масштабов пиратство» в СССР и постперестроечной России, лишающее его кровных роялти (скромно умалчивая
о том, что Россия присоединилась к Бернской конвенции о правах лишь
в 1995 году, да и то — с определенными оговорками3, так что советские
и российские издатели, благодаря которым произведения некогда запретного автора стали доступны миллионам читателей, строго говоря,
действовали в рамках существовавшего на тот момент правового поля).
Излив душу, автор предисловия сообщает потенциальным покупателям
«The Stories…», что «короткий роман» («short novel») «Волшебник»
не включен в сборник, потому что уже был издан в Америке отдельной книгой в 1991 году, зато «одиннадцать из публикуемых впервые
тринадцати рассказов прежде не переводились на английский язык»
(информация чрезвычайно важная и актуальная для нас!), и за их перевод на английский «несет ответственность» только он, Д.В. Набоков,
и никто другой. (На 694-й странице набоковский наследник вновь
повторяет — для непонятливых: «Если почти все из пятидесяти двух
рассказов, включенных в предыдущие сборники, переведены мною
под руководством моего отца, то за переводы этих тринадцати, выполненные после смерти Владимира Набокова, ответственен я один».)Порадовавшись за англоязычных читателей середины девяностых
и оценив вклад переводчика предисловия в жанровую терминологию
(вообще-то «короткий роман» — чистой воды оксюморон, вроде «крохотной эпопеи»; «short novel» применительно к «Волшебнику», конечно
же, означает «повесть»), спросим составителя «конволюта»: стоило
ли так рабски копировать англоязычное издание 1995 года, снабжая
книгу, предназначенную современным русским читателям, малосодержательным опусом Набокова-младшего (между нами говоря, никак
не проявившего себя в области критики и, тем более, литературоведения) — текстом, писавшимся именно в расчете на англоязычную
аудиторию? И так ли уж было необходимо перепечатывать рассказы
«Mademoiselle O» (1936) и «First Love» («Первая любовь», 1948), коли
их русские версии стали главами «Других берегов»? И не странно ли,
что на 584-й странице нас ждет еще одно мини-предисловие: «предуведомление переводчика» англоязычных рассказов Набокова? В отличие
от предисловия № 1 «предуведомление» хотя бы обращено к русскому
читателю (его автор извиняется за свои прежние переводы, которые
составили сборник «Быль и убыль» (СПб.: Амфора, 2001), и уверяет
нас в том, что свежеизготовленные версии «при всех своих недостатках» (о коих скажем чуть позже) «во всех отношениях» превосходят
предыдущие). Однако и этот текст, как и заметка Набокова-младшего,
конечно же, не тянет на полноценное введение в мир «малой прозы»
двуязычного гения.Зато в книге есть целых три разновидности примечаний. Переводы английских рассказов снабжены глоссами и краткими пояснениями
переводчика (не столько информирующего читателя, сколько навязывающего ему собственное истолкование того или иного рассказа),
а в конце издания нас ожидает знакомство с «двуглавой невидалью»:
двучленным разделом «Примечания», по своей структуре напоминающим сиамских близнецов. Сначала идут переводы мини-предисловий,
которыми писатель снабжал англоязычные версии довоенных рассказов,
опубликованные в книгах семидесятых годов: «A Russian Beauty and
Other Stories» (1973), «Tyrant Destroyed and Other Stories» (1975), «Details
of a Sunset and Other Stories» (1976) (эти метатексты, где скучные, да и
не всегда точные, библиографические справки украшены блестками авторских пояснений и автоинтерпретаций, логичнее было бы поместить
в основной корпус книги, а не убирать на ее задворки); вперемежку с
ними даны библиографические заметки его сына Дмитрия — к произведениям, не включенным в прижизненные авторские сборники, после
чего следуют куцые примечания составителя, который вновь потчует
читателя сведениями о том, когда был написан и где издан тот или иной
набоковский рассказ. На десерт предлагается «Приложение», составленное из библиографических заметок Владимира Набокова к упомянутым
изданиям, где снова перечисляются названия рассказов, «удостоившихся
англизации», и в очередной раз даются полные выходные данные его
англоязычных сборников (видимо, чтобы их выучили наизусть).Конечно, повторение — мать учения, однако хотелось бы, чтобы
читатели, впервые открывающие для себя «малую прозу» Владимира
Набокова (на которых, вероятно, в первую очередь рассчитана книга),
были снабжены полноценным комментарием — своего рода путеводителем по миниатюрным набоковским лабиринтам. Увы, в «Полном
собрании рассказов» нет хоть сколько-нибудь полного комментария,
где, в частности, пояснялись бы архаизмы и экзотизмы, которыми
писатель инкрустировал словесную парчу своих произведений (знаете
ли вы, дорогие друзья, что такое «терпентин», «плесницы», «било»
или «гратуар»?), указывались возможные прототипы персонажей, наконец, выявлялись многочисленные аллюзии и реминисценции, порой
дающие ключ к авторскому замыслу, — сведения, без которых едва
ли возможно адекватное понимание многих набоковских рассказов.Например, кто из неискушенных читателей догадается, что заглавие рассказа «That in Aleppo Once» («Что как-то раз в Алеппо»,
1943) — цитата финального монолога Отелло, прозрачно намекающая
на неизбежное самоубийство измученного ревностью набоковского
протагониста? Так же как и фраза из последнего абзаца (в оригинале она
выделена курсивом), представляющая собой реминисценцию из четвертого действия шекспировской трагедии: «[But] yet the pity of it[, Iago!]»За подробными комментариями автор примечаний № 3 отправляет любознательных читателей «к комментированному собранию
сочинений Набокова в издательстве „Симпозиум“, а также к примечаниям Д. Набокова» (С. 714). Последние, прямо скажем, не отличаются
информативностью и не блещут историко-литературными находками.
Помимо библиографических данных там можно найти разве что такие
вот «малодоступные» для нас сведения: «Упомянутый в тексте Майн
Рид — это Томас Майн Рид (1818–1883), автор приключенческих романов. „Господин Ульянов“ — это Владимир Ильич Ульянов, вошедший в
историю под сценическим псевдонимом В.И. Ленин. ГПУ, первоначально именовавшаяся ЧК, а позднее НКВД, МВД и КГБ, — большевистская
охранка» (С. 694).Достойно сожаления и то, что в примечаниях составителя практически ничего не говорится о рецепции «малой прозы» писателя
в современной ему русской и англо-американской критике, как это
и положено в книгах, претендующих на статус серьезных научных
изданий, а не массовых лотошных поделок. Лишь один раз автор примечаний № 3 разражается пространной цитатой из восторженного
отзыва Георгия Адамовича на журнальную публикацию рассказа «Лик»
(1939) — не приводя при этом десятков разноречивых суждений, которыми одаривала набоковские рассказы сначала эмигрантская, а затем
и англоязычная критика.Любопытно, что в отзывах на книжные и журнальные публикации рассказов Владимира Сирина многие критики русского зарубежья, даже из числа его недоброжелателей, как правило, ставили их
чрезвычайно высоко, порой даже выше романов. Так, капризный и
переменчивый Адамович, попортивший Сирину немало крови, назвал «прелестный» рассказ «Пильграм» эскизом к «Защите Лужина»
и пришел к выводу, что он «лучше романа, острее и трагичнее его»;4;
Петр Балакшин, раздраконивший «Камеру обскуру»;5
и весьма неприязненно отзывавшийся об ее авторе в письмах, по прочтении «Весны
в Фиальте» (1936) был вынужден признать, что это — «пожалуй,
один из лучших рассказов В. Сирина. Во всяком случае, значительнее
некоторых его больших вещей»6; С. Нальянч (С.И. Шовгенов) в рецензии на сборник «Возвращение Чорба» (1930) утверждал, что «большие
полотна Сирину меньше удаются, чем малые <…>; автор небольших
рассказов сборника «Возвращение Чорба» несравненно выше автора
романов «Машенька», «Защита Лужина», «Король, дама, валет». В больших произведениях Сирин слишком увлекается эффектами внешнего
свойства; мастерство, словесная виртуозность становятся самоцелью;
писатель превращается в раба мелочей, подробностей. Этого нельзя
сказать о стихах и рассказах Сирина. Здесь блестящие технические
приемы являются не самоцелью, а служебной частью повествования»7.А вот англоязычная критика реагировала на набоковские рассказы куда более сдержанно. Согласно библиографии Джексона
Брайера и Томаса Бёргина8, «Nine Stories» (1947), первый сборник
«малой прозы» Набокова, вышедший в Америке, удостоился лишь
шести тусклых откликов в американской прессе (главным образом,
в периферийных малотиражных изданиях вроде «New Mexico Qarterly
Review» и «Nashville Tennessean»); «Набокова дюжина» («Nabokov’s
Dozen», 1958) привлекла внимание семнадцати английских и американских рецензентов. (Поверьте, это не слишком много по меркам
пятидесятых годов прошлого века; для сравнения отметим: число
критических эссе, упоминаний в обзорных статьях, рецензий, вызванных к жизни набоковскими романами, исчисляется десятками,
а в случае с «Лолитой» — сотнями.)Правда, широкая читательская аудитория, что эмигрантская,
что англоязычная, в первую очередь интересовалась романами, а не
рассказами писателя. И не верьте рекламной аннотации, голословно
заявляющей, будто многие набоковские рассказы «стали событием
еще при жизни автора». Не стали — ни в литературном мире русской
эмиграции, ни тем более в англоязычных странах, где воспринимались
критиками в лучшем случае снисходительно — как любопытный,
но необязательный довесок к его романам, как предтеча, предзнаменование его художественных свершений 1950–1960-х годов.Некоторые зоилы, нехотя отдавая должное прогремевшей на весь
мир «Лолите», отыгрывались на рассказах Набокова, объявляя их
вторичными по отношению не только к его романам, но и различным
литературным образцам. Например, английский прозаик Энгус Уилсон
в своем желчном отзыве на «Набокову дюжину», куда, между прочим,
вошли переводы таких жемчужин, как «Пильграм» (1930), «Весна
в Фиальте» (1936), «Облако, озеро, башня» (1937), уличал писателя в
отсутствии оригинальности и беззастенчивом использовании «старых
формул», опробованных в творчестве Чехова, Мопассана и Пруста,
причем не зрелого, а раннего Пруста, автора «Утех и дней», «еще не
освободившегося от условностей литературы fin de siècle»9.Допустим, ревнивый британец был пристрастен и, противопоставляя автора «Набоковой дюжины» Мопассану и Прусту (а также
сравнивая с Марией Башкирцевой и Гарольдом Николсоном — причем
не в пользу Набокова, разумеется), пытался принизить потенциального конкурента. Но ведь и близкие Набокову литераторы часто пренебрежительно отзывались о рассказах, которые он не без оснований
причислял к своим лучшим созданиям. Так, Эдмунд Уилсон (везло же
Набокову на Уилсонов!), до сенсационного успеха «Лолиты» — один
из ближайших набоковских приятелей, весьма прохладно отозвался
о русскоязычном шедевре «Весна в Фиальте» (в письме от 22 мая
1942 года): «…ему не хватает интриги. От истории, действие которой
происходит в Фиальте, ждешь большего»10. А редактор журнала «Нью-
Йоркер» Кэтрин Уайт, с которой у Набокова сложились весьма приязненные отношения, наотрез отказалась печатать рассказ «The Vane
Sisters» (в переводе Г. Барабтарло — «Сестры Вэйн», 1951).Много позже, в интервью 1971 года, именно эту вещь (вместе
с «Весной в Фиальте» и «Облаком, озером, башней») Набоков отнес к
«тройке» своих любимых рассказов:«Они точно выражают всё, что
я хотел, и делают это с тем величайшим призматическим очарованием,
на которое способно мое искусство»11.В том же интервью писатель указывал на изоморфизм произведений «малой» и «большой» формы, назвав «Весну в Фиальте», равно
как и особо почитаемые им рассказы — «Даму с собачкой» Чехова и
«Метаморфозу» Кафки, — «романами в миниатюре»: «Многие виды
бабочек, широко распространенные за пределами лесной зоны, производят мелкое, но вовсе не обязательно хилое потомство. По отношению к типичному роману рассказ представляет собой такую мелкую
альпийскую или арктическую разновидность. Отличаясь внешне, он
принадлежит к тому же виду, что и роман, с которым связан несколькими переходными формами»12.В самом деле, едва ли возможно воспринимать рассказы и новеллы
Набокова отдельно от его романов. Помимо стилевого изящества и
языкового богатства, их сближают сквозные темы и мотивы; в их основу положены общие композиционные приемы и повествовательные
принципы: варьирование лейтмотивов, складывающихся в изящные
«тематические узоры»; утонченная авторская игра с читательскими
ожиданиями и пародийное переиначивание литературных условностей и стереотипов; парадоксальные на первый взгляд развязки,
в тщательной мотивировке которых можно убедиться только при
внимательном перечитывании произведения; введение «ненадежного» повествователя, чьи мнения и оценки противоречат логике изображаемых событий, благодаря чему создается атмосфера смысловой
зыбкости и амбивалентности, которая позволяет с равной степенью
убедительности предлагать взаимоисключающие версии относительно
описываемой действительности (среди набоковских рассказов в этом
плане особенно показателен «Terra incognita» (1931), где прошлое
и настоя щее, явь и галлюцинации сливаются в единое целое).Порой между большими и малыми формами набоковской прозы прослеживается прямая генетическая связь. Хорошо известно,
что рассказ «Круг» (1934) отпочковался от романа «Дар», рассказы
«Mademoiselle O» и «Первая любовь» были инкорпорированы в набоковскую автобиографию, а прославленную «Лолиту» писатель не
без основания называл «развитой окрыленной формой» повести «Волшебник» (1939). Иные «мелкие разновидности» набоковской прозы
оказались более живучими, нежели их крупные собратья. В частности,
лирические этюды «Благость» (1924) и «Письмо в Россию» (1925) изначально были фрагментами так и не состоявшегося романа «Счастье»,
а рассказы «Solus Rex» и «Ultima Thule» (1940) — главами незаконченного романа, который, по словам автора, должен был «решительно
отличаться» от всей его русской прозы.Как и прославленные романы Набокова, его «малая проза» поражает широтой тематического диапазона, богатством эмоциональной палитры, своим жанровым и стилевым разнообразием. Избегая шаблонов и
самоповторов, писатель с равным успехом обращался и к исполненным
ностальгической грусти бессюжетным «стихотворениям в прозе» («Благость», «Письмо в Россию»), и к изысканным психологическим этюдам
(«Музыка», «Ужас»), и к пародийным новеллам с острой сатирической
начинкой («Подлец», «Уста к устам», «Забытый поэт»). В лучших набоковских рассказах психологизм и реалистическое жизнеподобие
уживаются с гротескной фантастикой и пародийно-игровой стихией, лирические медитации — с черным юмором, анекдот и фарс — с трагедией.Но даже самые мрачные, самые трагические рассказы («Возвращение Чорба», «Памяти Л.И. Шигаева», «Облако, озеро, башня», «Посещение музея») одухотворяет, как верно заметил один эмигрантский
критик, «радость творческого воссоздания мира», которая «покрывает
его реальную печаль»13
и заставляет чуткого читателя вновь и вновь
припадать к благодатному источнику набоковской прозы, «большой»
и «малой».Лишний раз в этом можно убедиться, прочитав подряд «Полное
собрание рассказов», которое, при всех изъянах справочного аппарата,
будет полезно тем читателям, кто в своем познании одного из крупнейших писателей прошлого века ограничивался его романами.
1
Набоков В. Полное собрание рассказов / Сост. А. Бабиков. СПб.: Азбука,
Азбука—Аттикус, 2013.2
Новая газета. 2008. 20 июня (№ 22–23).3
«Действие Бернской конвенции об охране литературных и художественных
произведений не распространяется на произведения, которые на дату вступления
этой Конвенции в силу для Российской Федерации уже являются на ее территории
общественным достоянием». Эта поправка была отозвана только в 2012 году.4
Адамович Г. Рец.: «Современные записки», кн. 43. Часть литературная //
Пос ледние новости. 1930. 15 мая (№ 3340). С. 3.5
См.: Классик без ретуши. С. 105–107.6
Балакшин П. Рец.: «Современные записки», кн. 61. Париж, 1936 // Земля
Колумба (Сан-Франциско). 1936. Кн. 2. С. 123.7
Цит. по: Классик без ретуши. С. 50–51.8
Bryer J., Bergin T. Cheklist: Essays in Periodicals. In: Nabokov: h e Man and His
Work / Studies edited by L.S. Dembo. Madison; Milwaukee and London: h e University
of Wisconsin press, 1967. P. 231–276.9
Wilson A. Nabokov’s Basement // Spectator. 1959. № 6821 (March 20). P. 412.10
Цит. по: «Хороший писатель — это в первую очередь волшебник…» Из
переписки Владимира Набокова и Эдмунда Уилсона / Сост. и пер. с англ. А. Ли-
верганта. Вступ. статья и коммент. Н. Мельникова // Иностранная литература.
2010. № 1. С. 105.11
Parker S.J. Vladimir Nabokov and the Short Story // Russian Literature Triquatery.
1991. № 24. P. 68.12
Op. cit. P. 69.13
Г.Х. <Герман Хохлов> Рец.: Возвращение Чорба. Берлин: Слово, 1930. Цит.
по: Классик без ретуши. С. 48.
Рубрика: Отрывки
Виктор Топоров. Гражданский арест
- Виктор Топоров. Гражданский арест. Статьи, не попавшие в сеть. — СПб.: Лимбус Пресс, 2014. — 660 с.
Виктор Топоров был не только знаменитым переводчиком и литературным критиком, но и ярчайшим политическим публицистом современности. В книге «Гражданский арест» собраны статьи, написанные им в досетевую эпоху, в основном – в девяностые годы. Его оценка политической ситуации и характеристики высших должностных лиц государства шли зачастую вразрез с общепринятым мнением. Тогда. И только сейчас становится понятно, что Топоров был во многом прав.
ТЕЗКА ТАМЕРЛАНА
(Независимая газета. 04.12.1996)Вот история, смысл которой неясен мне самому. Не говоря уж о морали. Поэтому просто перескажу все, как знаю.
Стоят в самом центре Петербурга две школы. Обыкновенная и престижная. Или, как у нас теперь говорят, бандитскоэлитарная. Обе, что характерно, формально бесплатного обучения. Во вторую, понятно, ломятся, в первую идут (родители), стиснув зубы.
В престижную школу можно попасть только за деньги. Мальчику или девочке из еврейской семьи — только за большие деньги. Мальчику или девочке из семьи «кавказской национальности» туда не попасть. Директриса откажет, сославшись на то, что классы переукомплектованы, — и будет права: классы действительно переукомплектованы. Зато в обыкновенной школе — хронический недобор.
В единственном первом классе обыкновенной школы учатся всего шестнадцать детишек. Девять русских, шесть евреев и маленький чеченец Тимур. Тезка великого Тамерлана.
Тимур на фоне класса даже в обыкновенной школе выглядит замухрышкой. И на занятиях по физкультуре он второй по росту с конца. Первый (с конца) еврейский мальчик Боря.Имена подлинные, фамилии и номер школы я опускаю.
Тимур — гроза класса. Он приходит в школу с металлической линейкой, одно из ребер которой заточено на манер перочинного ножа, и чуть что приставляет ее к горлу одноклассникам и одноклассницам: сейчас зарежу. Учительница вызвала в школу папу Тимура. Папа Тимура сказал: «Вах! Иначе его будут обижать самого».
Папа Тимура — художник. Мама Тимура — официантка в кафе. Они из Грозного. Беженцами себя не считают. Петербуржцами, впрочем, тоже. Так, купили квартиру, решили пересидеть в Северной Пальмире тревожное время. Потом собираются вернуться на родину, а квартиру всегда можно будет не без навара продать.
Папа Тимура слушает Радио «Свобода», пьет горькую и бормочет себе под нос чтото грозное. Тимур слушает папу, укладывает книжки и линейку в ранец, отправляется в школу. Линейку он — как выяснилось или, по меньшей мере, начало утверждаться позднее — заострил сам.
От Тимура достается всем. Но больше всех — еврейскому мальчику Боре. Часто он возвращается домой с царапинами на шее. Наконец отказывается идти туда вовсе.
Борин папа вскипает. Вообще-то он демократ, выборосс и горячий поклонник Сергея Адамовича — но не до такой же степени!
Борин папа — инженер на заводе. Он уже который месяц в неоплачиваемом отпуске. Борина мама библиотекарь. Здесь, если так можно выразиться, платят. Борины дед и бабушка убыли в Германию, Борины родители сдают их квартиру, на что и живут. И — едва ли не последними во всем городе — читают толстые журналы: их пачками приносит домой со службы мать Бори.Все воскресенье Борин папа провозился у домашнего верстачка. Истомился, должно быть, по родному КБ. Изготовил же он вот что: взяв учебник «Родной речи», вырезал в нем тайник, поместил в тайник массивный слиток свинца, окантовал и обшил свинцом весь учебник.
Иди в школу, сын мой, и если этот чеченский… — Тут он, должно быть, запнулся. — И если этот маленький бандит опять пристанет к тебе, дай ему прямо по голове этой штукой!
Что и произошло в понедельник на первой же перемене. Тимура отправили в больницу и наложили ему восемь швов. Дело не возбудили: в школе предпочли историю замять, а папа Тимура сказал, что разберется с этим племенем сам. Или при помощи друзей. И, наверное, разберется.
Тимур в школу не ходит — лежит дома. Боря в школу не ходит — папа и мама боятся, что его подкараулят. Папа Тимура пьет горькую, мама Тимура работает в кафе и старается приносить сыну всякую вкуснятину. Борин папа читает журналы, Борина мама работает в библиотеке. Радио «Свобода» не умолкает в обоих домах.
В классе — в отсутствие Тимура и Бори — тоже не все спокойно. Кое-кто из семилеток, можно сказать, распоясался. Учительница отмечает и легкие вспышки бытового антисемитизма. «Начать хоть с меня», — простодушно поясняет она.
А в бандитско-элитарной по соседству — тишь да благодать. Ну убьют у кого-нибудь папу на разборке или, того хуже, со службы в мэрии выгонят, а в остальном все в порядке. Родители шестилетних из этого микрорайона (а он в городе самый центральный) сейчас продают последнее, чтобы какнибудь да пропихнуть своих детей на следующую осень в благополучную бандитско-элитарную школу.
Питер Акройд. Кентерберийские рассказы
- Питер Акройд. Кентерберийские рассказы. Переложение поэмы Джеффри Чосера / Пер. с англ. Т. Азаркович. — М.: АСТ: Corpus, 2014. — 608 с.
«Кентерберийские рассказы» Джеффри Чосера (1343—1400)— это мозаика из религиозных, бытовых, романтических историй, поведанных средневековыми паломниками по пути из Лондона в Кентербери, людьми разных возрастов, социального положения и темперамента. Переложение этого произведения со староанглийского на современный язык писателем Питером Акройдом в очередной раз доказывает вневременной характер подлинной литературы.
Рассказ Врача Здесь следует рассказ Врача Жил некогда, как поведал один римский историк, рыцарь по имени
Виргиний. У этого достойного
и честного человека было много
денег и много друзей. А вот дочь
у него была одна-единственная — красавица, равной
которой не сыскать в целом свете. Госпожа Природа создала и вылепила ее с таким старанием, словно желала
заявить: «Взгляните на мою работу! Я, Природа, сотворила совершенное создание в точности так, как сама
задумала. Кто смог бы подделать такую красоту? Кто
сумел бы ей подражать? Даже Пигмалион не изваял бы
и не нарисовал бы лучше, сколько бы ни трудился с молотком или кистью. У Апеллеса и Зевксида вышло бы
намного хуже, как бы они ни усердствовали карандашом или кистью. Ни один скульптор не в силах со мной
состязаться. Это Всевышний Бог наделил меня властью
создавать и уничтожать все живые твари на свете. Я —
его представительница на земле. Я могу рисовать и играть как мне вздумается. Всё под луной подчиняется моему могуществу. Разумеется, я ничего не прошу за свой
труд. Я не ссорюсь со своим верховным владыкой. Я делаю все в честь Него, царящего на небесах. Потому
я и сотворила эту безупречную красоту». Такие слова,
наверное, сказала бы эта дама.Этой девушке, которой так гордилась Природа,
было всего четырнадцать лет. Та же самая дама Природа,
что красит лилию в белый цвет, а розе дарит пунцовый
румянец, телу ребенка умело придает форму еще до его
рождения. Солнце позолотило ей волосы, уподобив
их своим утренним лучам. И все же добродетель этой
девушки превосходила ее красоту. У нее не было ни одного недостатка — все заслуживало только похвалы. Она
была чиста и телом, и душой. Она была невинна и плотью, и душой, скромна и терпелива и ни разу не сбилась
с пути добродетели. Она всегда разумно и почтительно
вела беседу и, хотя умом могла сравниться с Афиной
Палладой, оставалась умеренной в речах. Она не манерничала и не задавалась. Она никогда не пыталась
умничать. Иными словами, она была безупречной девушкой, неизменно выказывая скромность и изящество. Она всегда занималась какими-нибудь подобающими женщине делами, потому что не переносила лени
и праздности. Вакха же она чуралась. Она знала, что
вино, да еще в сочетании с юностью, может вызвать возбуждение. Зачем подливать в огонь масло или бросать
в него сало? Временами она даже сказывалась больной,
лишь бы избежать легкомысленных гуляний; ей бывало
неуютно на пирушках или вечеринках с танцами, где
вечно затевались интрижки и амуры. Ведь там юным
душам, едва расставшимся с детством, грозит опасность
слишком быстро повзрослеть. А опыт говорит нам, что
ничего хорошего от этого ждать не приходится. Пусть
дева повзрослеет, когда станет женщиной и женой.
Но не раньше.Быть может, среди вас найдутся пожилые дамы,
наставницы юных девушек. Не упустите ничего! Я говорю вам только правду. Вас взяли наставницами для
дочерей знатных родителей по двум соображениям, как
вам известно. Или вы сохранили целомудрие и можете
служить хорошим примером, или вы поддались греху и,
следовательно, знаете все признаки слабости. Вам известен этот старый танец, и вы от него навсегда отказались.
Итак, ради бога, учите ваших подопечных держаться подальше от беды. Как-никак, лучший лесник — бывший
браконьер. Вор лучше других знает, как уберечь дом
от взлома. Поэтому берегите девушек. Кому, как не вам,
должно быть известно, как это сделать. Не заигрывайте
со злом, чтобы вас не проклинали как злодеек. Иначе
вы предадите всю семью, которая вас пригрела. Из всех
грехов на свете худший — предательство невинности.
Он недостоин прощения.Послушайте и вы, матери и отцы, я и к вам тоже
обращаюсь. Вы обязаны стеречь и оберегать всех детей,
вверенных вашим заботам. Берегитесь: не подавайте им
дурных примеров. Наказывайте их за проступки. Иначе
их ждет гибель. И вы дорого заплатите за их грехи, это
я вам точно говорю. Беззаботный пастух теряет овец
одну за другой: из леса выходит волк и режет ягнят.
Я мог бы привести и другие примеры, но мне нужно
продолжать рассказ.Эта юная девушка, Виргиния, не нуждалась в наставнице, которая учила бы ее добродетели. Ее собственная жизнь походила на учебник добродетели,
на книгу о добронравии, каждая страница которой
могла служить примером для скромных девственниц.
Она была так честна и благоразумна, что слава о ней
разошлась по всей стране, и все были наслышаны о ее
красоте и доброте. Все, кто любил добродетель, любили и ее. Конечно, как всегда, находились и завистники, которые ей пеняли за ее счастье и желали ей
несчастья или беды. Таких злодеев хорошо описывал
Блаженный Августин.И вот однажды Виргиния отправилась в город вместе с матерью, чтобы посетить один из храмов. Таков
был обычай. И случилось, что городской судья, который был к тому же правителем той области, заметил
девушку, когда она проходила мимо. Он просто не мог
не обратить на нее внимания. У него даже сердце заколотилось. Он мгновенно влюбился в ее красоту и сказал
себе: «Я хочу ее! И я заполучу ее!»Так в судью вселился злой дух и стал нашептывать
ему, что нужно обманом и хитростью завладеть этой
девушкой. Ни силой, ни деньгами ее нельзя было получить. От них никакого проку не будет. Ведь у нее
было много друзей. К тому же девушку эту защищает
ее собственная добродетель, так что она никогда не предастся ему. И вот, после долгих раздумий, судья послал
за одним худородным горожанином. Этот человек был
коварным негодяем, готовым на любую низость. Под
строжайшим секретом он рассказал этому человеку
о своей похоти и доверил ему свой замысел.«Если ты откроешь это кому-нибудь, — пригрозил
судья, — то поплатишься головой».Когда негодяй согласился помочь ему, судья обрадовался и осыпал его подарками.
И вот коварные заговорщики придумали такую хитрость, которая помогла бы судье похитить у Виргинии
девство. Это был искусно состряпанный замысел, суть
которого я сейчас вам объясню. Судью, кстати, звали Аппием — его имя хорошо известно в исторических трудах.
Я не выдумываю это все из головы. А его приспешника
звали Клавдием. И вот Клавдий отправился восвояси,
в свое бедняцкое жилище, а Аппий принялся предвкушать будущие удовольствия. Ему очень не терпелось.День или два спустя этот лживый судья сидел в зале
суда и выносил приговоры по разным делам. Тут вошел
Клавдий и остановился посреди зала.«Я ищу правосудия, — заявил он. — У меня прошение. Я возбуждаю дело против Виргиния. — Напомню,
что так звали отца девушки. — Если он отвергнет обвинение, то я приведу свидетелей, они подтвердят мою правоту. Рассудите дело, сударь. Правда на моей стороне».Судья сделал вид, будто раздумывает об услышанном.
«В отсутствие ответчика я не могу вынести решения.
Призовите его в суд. Тогда я разберу вашу тяжбу», —
сказал он.И вот Виргиния привели в суд и зачитали ему следующее обвинение:
«Ранее и отныне я надлежащим образом покажу
вам, господин судья, что ответчик злонамеренно
и предумышленно нанес ущерб вашему истцу, Клавдию. А именно, вопреки всякой справедливости, всякому закону и всякому чувству, ответчик украл у меня
под покровом ночи и темноты одну из моих рабынь,
связанную со мной долгом и обязательством. В ту
пору она была совсем еще юной. Я также утверждаю,
что ответчик злонамеренно и предумышленно объявил эту молодую девушку своей законной дочерью.
Господин судья, я приведу свидетелей, которые подтвердят мою правоту. Что бы ни говорил ответчик, эта
девушка — не его дочь. Верните мне ее, сударь, и поддержите закон».Виргиний с ужасом смотрел на этого негодяя. Разумеется, он был готов поклясться, что Виргиния — его
родная дочь. Он мог бы доказать это в судебном поединке, как и полагается рыцарю. Он тоже привел бы
свидетелей, которые доказали бы, что этот подлец лжет.
Но ему никто не дал этого сделать. Судья наотрез отказался еще что-либо слушать. Ведь этот старик очень торопился. Он оборвал Виргиния на полуслове и сразу же
огласил приговор:«Я постановляю, что истец в прошлом понес ущерб,
и теперь рабыня должна вернуться к нему. По каковой
причине вы, господин ответчик, не имеете более права
удерживать ее у себя в доме. Приведите ее и поместите
под мою опеку. Правосудие должно восторжествовать
любой ценой».Так это произошло. Неправедный судия состряпал
дело, оклеветал благородного рыцаря — и вот Виргиний должен передать родную дочь в руки распутника!
Судья вот-вот растлит невинную деву. После оглашения приговора Виргиний вернулся домой и, понурив
голову, сел у себя в зале. Потом он позвал дочь. У него
было пепельное лицо и померкший взгляд. Он чувствовал к ней такую жалость, что просто не мог выразить ее
словами. Но он уже твердо решил, чтó делать.«Дочь моя, — обратился он к ней. — Дорогая моя
Виргиния. Тебя ждет ужасная участь. Ты должна выбрать между смертью и вечным позором. О, если бы
я никогда не рождался на свет! Ты не заслужила такой
судьбы. Неужели ты родилась для того, чтобы пасть
от ножа или клинка? О милая дочь, погубительница
моя, я старался растить тебя в мире и в нежности. Ты
всегда царила в моих помыслах. Ты была моей первой
радостью, но теперь станешь моим последним горем.
Ты — жемчужина целомудрия. А теперь, моя дорогая,
ты должна терпеливо принять смерть. Таков мой приговор тебе. Я выношу его из любви к тебе, Виргиния,
а не из гнева или ненависти. Но ты должна умереть.
Я отрублю тебе голову, чтобы спасти от более ужасной
участи. Я проклинаю тот день, когда этот лживый судья,
Аппий, впервые увидел тебя!» — И отец рассказал ей
о том, что произошло в зале суда. Мне нет нужды повторять вам все это.«О дорогой отец, пощади! — Таковы были первые
слова Виргинии, обвившей ему руками шею. А потом
она разразилась слезами. — Дорогой отец, неужели
я умру? Неужели нет другого выхода? Нет никакого
средства?»«Никакого, любимая моя дочь. Выхода у нас нет».
«Тогда дай мне хоть небольшую отсрочку, чтобы
я оплакала свою участь. Ведь Иеффай дал своей дочери
время поплакать, прежде чем убил ее. Видит Господь,
она не совершала никакого греха. Ее единственная вина
состояла в том, что она первая вышла навстречу отцу,
когда тот с победой возвращался домой с войны. Он поклялся, что если одержит победу, то принесет в жертву
того, кто первым выйдет из дверей его дома. И первой
оказалась его родная дочь. — Тут Виргиния лишилась
чувств и рухнула на пол. Потом, придя в сознание, она
взглянула на отца. — Благодарю Бога, — сказала она, —
за то, что я хотя бы умру девственницей. Убей меня,
пока меня не осквернили. Во имя Бога, скорее!»Так она сама молила отца взять меч и милосердно
убить ее. Потом она упала в обморок. Со скорбным
сердцем Виргиний схватил меч и одним ударом снес
ей голову. А потом, если верить историку, взял ее
голову за волосы и принес в судилище. Там он положил ее на стол перед судьей. Когда Аппий увидел
отрубленную голову, он приказал немедленно повесить Виргиния. Но тут собралась тысячная толпа, все
скорбели и жалели рыцаря. Все эти люди знали, или
подозревали, что судья сам нарушил и опозорил закон. Они давно заметили подлое поведение смерда
Клавдия, который выступал истцом. А Аппий давно
славился своим распутством. Никто ему не верил.
И народ выступил против него, обвинил его в обмане
и бросил в тюрьму; там, в камере, он покончил с собой. Клавдия приговорили к казни и хотели вздернуть
на ближайшем дереве, но Виргиний так убедительно
вступился за него, что негодяя не стали казнить, а отправили в изгнание. Жаль, конечно. А иначе этого
злодея непременно повесили бы. Все остальные виновники, замешанные в этом деле, были схвачены
и немедленно казнены.Вот как воздается за грехи. Мы все должны вести себя
осмотрительно. Никто не знает воли Господней. Никто
не знает, как и куда Он нанесет Свой удар. Червь совести может долго питаться неправедной жизнью, а затем
внезапно ужалить. Однако, сколь бы ни скрывали зло,
порок всегда будет наказан. Вот что объединяет и простеца, и ученого: им не ведомы ни время, ни природа
собственной кончины. Так что остерегайтесь. Отвернитесь от греха, пока грех не выдал вас с головой.Здесь заканчивается рассказ Врача
Макс Фрай. Мастер ветров и закатов
- Макс Фрай. Мастер ветров и закатов. — М.: АСТ, 2014.
Книга «Мастер ветров и закатов» входит в цикл «Сновидения Ехо». На этот раз писательница Светлана Мартынчик, которая творит под псевдонимом Макс Фрай, расскажет, каково это – споткнуться с утра о собственный труп. Насчет ангелов есть сомнения, но ветры и люди (и не только) точно ждут вас на страницах нового романа талантливой сказочницы.
Утро началось с того, что на пороге спальни я споткнулся о собственный труп.
То есть, поймите меня правильно. Я не самое изнеженное существо на обоих берегах Хурона. Нервы мои всё ещё отличаются от металлических тросов, но разница постепенно перестает быть существенной. К тому же трупы вызывают у меня скорее симпатию, чем негодование: обычно они смирно лежат на месте и жизнь окружающим особо не портят. Козней не строят, интриг не плетут, убегать не пытаются и даже над душой, требуя безотлагательно заняться их делами, не стоят. Все бы так себя вели.
Поэтому труп на пороге спальни — вовсе не тот предмет, который способен всерьез выбить меня из колеи. Но только при одном условии — если мне сперва дадут выспаться, а потом кружку камры. Или кофе, или крепкого чаю, да чего угодно — когда регулярно меняешь место жительства, перебираясь из одной реальности в другую чаще, чем с квартиры на квартиру, поневоле сделаешься неприхотлив. Лишь бы напиток, с которого начинается утро, был горячим и ароматным, а его вкус умело балансировал между сладким и горьким, как сама жизнь, очередной день которой только что начался.
После нескольких неторопливых глотков жизни, данной мне в приятных ощущениях, я готов окончательно продрать глаза и встретиться лицом к лицу с любым количеством трупов, в том числе похожих на меня как две капли воды. Двойники, кстати, даже лучше, чем незнакомцы, собственная рожа меня умиротворяет и успокаивает, как всякое привычное зрелище. Особенно если ее не надо вот прямо сейчас брить.
Однако этим утром обстоятельства сложились не в пользу раннего визитера. Поспал я всего пару часов, а это, на мой вкус, гораздо хуже, чем ничего. Потому что тот, кто не спит вовсе, по крайней мере избавлен от мучительного момента пробуждения. Жаль только, что этот аргумент совершенно не действует на меня в тот сладостный миг, когда голова касается подушки, лживо бормоча: «Я на секундочку». Впрочем, по ощущениям всегда выходит именно что «секундочка», и это обидней всего.
К тому же, кое-как продрав глаза, я не нашёл у себя в спальне тонизирующего бальзама Кахара, который способен не только поднять мертвеца из могилы, но даже разбудить меня. Специально для подобных случаев я и держу его под рукой. Надо понимать, бутылку с бальзамом вероломно вынули из старого домашнего сапога, который я остроумно приспособил под ее хранение, и поставили, как говорят в таких случаях «на место» — например, на одну из кухонных полок, или в кладовую на другом конце дома, или вообще унесли на чердак. Главное, чтобы владелец как можно дольше не смог добраться до нужного предмета и использовать его по назначению. В этом, надо понимать, и состоит тайный мистический смысл «наместа».
Всегда считал, что от уборки вреда больше, чем пользы. Чистота сама по себе штука приятная, но за наведение так называемого «порядка», на мой взгляд, следует отдавать под суд. Был бы я в Ехо, когда мои друзья вовсю развлекались поправками к Кодексу Хрембера, непременно внес бы соответствующее предложение. Однако возможность была упущена, и теперь уборку время от времени устраивают даже в моей спальне — в надежде, что я просто не замечу. Обычно я и правда не замечаю, но порой наступает момент, когда я оказываюсь лицом к лицу с ее трагическими последствиями. Как, например, сегодня.
Поприветствовав столь прекрасное начало дня приличествующими случаю трудновоспроизводимыми сочетаниями малоупотребительных слов, я побрел в бывшую Малую Летнюю кухню, а ныне подсобное помещение, куда обычно стаскивают остатки наших аскетических ночных пирушек в гостиной и прочие собранные по всему дому съестные припасы. Надеялся обрести там если не павший жертвой наведения порядка волшебный бальзам, то хотя бы холодные остатки вчерашней камры. От чашки кофе сейчас было бы больше толку, но добыть кофе в этом Мире можно только колдовством -сунув руку в Щель между Мирами, откуда лично я способен извлечь абсолютно всё что угодно, по крайней мере, теоретически.
Вообще-то этот фокус уже давным-давно перестал казаться мне сложным. В нормальном состоянии я проделываю его почти машинально. Но спросонок, да ещё и не в духе в Щель между Мирами мне лучше не лазать, это я твердо уяснил несколько лет назад, когда как однажды после очередной бессонной ночи извлек оттуда ядовитую жабу. Ещё и ловить её потом пришлось по всему дому. И руку от ожога лечить. И ощущать себя конченым придурком — тоже не сахар, особенно прямо с утра.
И спотыкаться о собственный труп с утра тоже не следует. Об одеяло, подушку или свернутый в рулон ковер — ещё туда-сюда. Но труп — явный перебор. Невыспавшийся человек, лишенный единственного утешения в виде вкусных тонизирующих напитков, совершенно не способен оценить комическую сторону подобного происшествия. И какой тогда, скажите на милость, смысл всё это затевать?
Ну, по крайней мере, я устоял на ногах. Ухватился за стену и остался в вертикальном положении. Поэтому неожиданно возникшее на моем пути препятствие разглядывал с высоты своего роста, а не лежа с ним в обнимку на полу. Что, в общем, к лучшему. Потому что вид собственного мёртвого тела не вызвал у меня теплых чувств. Он, впрочем, и холодных чувств у меня не вызвал. Вообще никаких. Только сонное недоумение: «Зачем?» Поработав ещё несколько секунд на предельной мощности, мой горемычный мозг осторожно уточнил: «Зачем это здесь?» Потом он вошёл во вкус и породил несметное множество вопросов в диапазоне от: «Откуда оно взялось?» — до: «Ох, мамочки, делать-то что?!»
Приступить к выработке ответов бедняга не успел, потому что труп исчез, как это обычно случается с некачественными, наспех состряпанными наваждениями под пристальным взглядом любого мало-мальски сносного колдуна. А я как раз и есть сносный. Мало-мальски.
Сразу мог бы сообразить, в чем дело, и быстренько отвернуться, приберечь редкое зрелище для других желающих поглазеть на мой труп. Жестоко лишать ближних такого удовольствия. Но что взять с невыспавшегося человека.
Поэтому я даже сердиться на себя не стал. Бесполезно. Сперва кофе. То есть, тьфу ты, камра. И бальзам Кахара, если удастся его найти. А потом уже внутренний конфликт. Всё хорошо в своё время.
Аккуратно переступив место, где только что лежал мой труп, я отправился дальше.
В последнее время Малая Летняя кухня стала одним из моих любимых убежищ, чем-то вроде дополнительной гостиной, которая выгодно отличается от настоящей тем, что о ее новом предназначении знаю только я. Никому кроме меня в голову не придёт проводить здесь время. И уж тем более завтракать. Никто из уроженцев Ехо, включая портовых нищих, безбашенных провинциальных студентов и отставных мятежных Магистров, ни за что не станет есть в кухне, пусть даже бывшей. Это считается не просто проявлением невоспитанности, но варварством, деревенским дурновкусием и чуть ли не самым вопиющим попранием общественных устоев. Леди Меламори, в детстве последовательно нарушавшая все мыслимые запреты, рассказывала, что застукавший ее за поеданием пирога под кухонным столом отец в отчаянии воскликнул: «Лучше бы ты кого-нибудь убила!» А ведь Кима Блимм совсем не кровожадный человек, да и на правилах этикета помешан куда меньше, чем прочая столичная аристократия. Однако вот как его проняло.
Таким образом, завтракая в Малой Летней кухне, я убиваю сразу двух зайцев: получаю гарантированное одиночество, жизненно необходимое мне по утрам, и тешу анархическую часть своей натуры, требующую время от времени восставать против правил — всё равно, каких. Для государственных переворотов и продолжительных оргий в публичных местах я слишком ленив, поэтому завтрак в кухне, пусть даже давным-давно не использующейся по прямому назначению — именно то что надо.
Стоило мне добраться до кухни, как жизнь начала налаживаться. Во-первых, я сразу нашёл там бутылку с бальзамом Кахара. Просто увидел ее на полке, даже к заклинанию, призывающему потерянные вещи, о котором вспомнил, пока брел по длинным коридорам Мохнатого Дома, не пришлось прибегать. Во-вторых, после глотка тонизирующего зелья я обнаружил на кухонном столе почти полный кувшин камры, оставленный для меня не то одним из ангелов-хранителей, не то кем-то из поклонников наведения порядка, стаскивающих в Малую Летнюю кухню всё, хотя бы отдаленно похожее на еду, чтобы — совершенно верно! — её там никто не ел. Однако счастливчикам вроде меня иногда и чужое злодейство идёт на пользу.
Убежище мое хорошо ещё и тем, что окна его выходят не на улицу, а во внутренний двор, куда, похоже, никто кроме меня никогда не выбирается. Думаю, о нем вообще забыли. От улицы и соседских палисадников двор отгорожен высоким забором, даже без намека на калитку. И из дома сюда можно попасть только через одно из окон Малой Летней кухни. Других выходов я не обнаружил, сколько ни искал. Друг мой Нумминорих, изучавший когда-то историю архитектуры, говорит, такие дворы называются «поварскими» и иногда встречаются в очень старых домах, построенных в те давние времена, когда полезной считалась только еда, приготовленная под открытым небом; в закрытых помещениях в ту эпоху варили исключительно яды. Черт его знает, почему. Нынешние ученые считают, что всё дело то ли в целительных свойствах некоторых местных ветров, то ли напротив в тяжелом характере камней, из которых строили дома предки нынешних угуландцев. Я же думаю, древние жители Ехо просто предвидели мое появление. И любезно приспособили свою архитектуру к моим будущим нуждам, в надежде, что у меня хватит ума поселиться в доме, достаточно старом, чтобы там был двор, заросший высокой травой, и толстое, в два обхвата дерево вахари, под которым можно поставить кресло. Спасибо им, что тут ещё скажешь. Почему-то именно в поварском дворе у меня на удивление неплохо работает голова.
Наверное я — мыслящий омлет.
Вот и сейчас. Кувшин с камрой не опустел ещё и наполовину, а у меня уже появились целых две версии, объясняющих как неожиданное появление моего трупа на пороге спальни, так и его быстрое исчезновение. Вторая нравилась мне гораздо больше, зато проверить первую было проще — достаточно консультации грамотного специалиста. Поэтому я послал зов Джуффину. Кому же ещё.
Безмолвная речь, в общем, гораздо больше похожа на телефонный разговор, чем на какой-либо другой вид коммуникации. Только слова проговариваешь не вслух, а про себя. И реплики собеседника слышишь не то чтобы именно ушами. Сложно сказать, чем именно, но с собственными мыслями захочешь не перепутаешь — и на том спасибо.
Всё это, как ни крути, требует очень высокой степени концентрации на разговоре. Поэтому я до сих пор терпеть не могу Безмолвную речь. Но пользуюсь ею по любому поводу, с упорством старательного троечника. И не только потому, что не люблю сдаваться. Просто внезапно обнаружил, что разговаривая таким способом, начинаю мыслить более ясно и логично — вероятно потому, что вынужден быть предельно лаконичным и не отвлекаться на пустяки.Именно поэтому я не стал откладывать разговор, хотя дело перестало быть спешным сразу после исчезновения моего трупа. Показывать-то теперь всяко нечего. А обсудить причины происшествия можно и пару часов спустя, это ничего не изменит.
Но чего не сделаешь в борьбе за превращение своей глупой головы в хотя бы условно умную.
«Несколько минут назад на пороге спальни валялось мое мёртвое тело, — не здороваясь, сказал я. — Сходство полное. Исчезло от пристального взгляда. Я спросонок вовремя не отвернулся, и сделанного уже не воротишь. Вопрос, собственно, такой: это может быть чья-то шутка? Теоретически? В смысле, кто-нибудь из моих знакомых умеет насылать такие наваждения? Это сложно? Или любому школьнику по плечу?»
«Не то чтобы очень сложно, — отозвался Джуффин. — Но довольно хлопотно и одновременно настолько бесполезно, что мне даже в голову не пришло бы кого-то специально этому учить. Ладно, давай подумаем. Ясно, что устроить тебе этот сюрприз вполне мог бы я сам. Но вряд ли мое наваждение исчезло бы так быстро. Сперва тебе пришлось бы побегать за ним по всему дому. И выслушать всё, что оно при этом скажет. А некоторые пассажи, возможно, даже законспектировать на будущее. Я считаю, развлекаться — так уж развлекаться».
«Вот и я так подумал. Поэтому ты почти вне подозрений. А есть ещё умельцы?»
«Кофа, безусловно, умеет и не такое. Но браться за хлопотное колдовство ради нелепого розыгрыша не станет, ты его знаешь. Если бы Кофа вдруг захотел испортить тебе настроение, он, можешь мне поверить, отыскал бы более эффективный способ, чем какой-то нелепый труп».
О да.
«Сэр Шурф тоже способен смастерить сколько угодно качественных наваждений, — продолжил Джуффин. — Чем только ни забивали головы талантливой молодежи в Эпоху Орденов. Но до состояния, в котором это можно счесть хорошей шуткой, он на моей памяти в последний раз напивался ещё в Смутные Времена. Так что, при всем моем уважении, вряд ли».
Если бы мы говорили вслух, я бы сейчас заржал. А потом сказал бы: «Так может быть он наконец-то устроил инвентаризацию Орденских погребов?» И Джуффин, несомненно, с удовольствием подхватил бы мое предположение. Или напротив, опроверг. В любом случае, мне нашлось бы что ему ответить. И разговор надолго ушёл бы в сторону. А сейчас я даже не попытался развить столь благодатную тему — вот вам ещё одно преимущество Безмолвной речи. Ну или недостаток, это как посмотреть.«То есть, вероятность, что мой труп — просто милая дружеская шутка, невелика?» — спросил я.
«Совсем невелика, — согласился Джуффин. — И дело, честно говоря, не в наших умениях. Просто это как-то очень уж глупо — и в качестве шутки, и, тем более, как злодейство. Надо совсем тебя не знать, чтобы запугивать каким-то дурацкими мёртвыми двойниками — а то ты ничего хуже в жизни не видел».
«Тогда хорошо, — сказал я. — Значит это всё-таки послание. Ответ на мою последнюю реплику, отправленную наудачу, практически в никуда. Неужели диалог продолжается? Это такая прекрасная новость, что я оказался к ней не готов. Отсюда дурацкие расспросы. Спасибо, что развеял мои сомнения».
«Шикарно, сэр Макс, — отозвался Джуффин. — Вот и ты дожил до такого дня, когда собственный труп на пороге спальни может оказаться прекрасной новостью. От души тебя поздравляю. И жду через полчаса, как договаривались».
И исчез из моей головы, оставив меня наедине с блуждающей по роже растерянной ухмылкой и вопросом: «Как я дошёл до жизни такой?»
Вопрос, конечно, риторический. В какой момент его себе ни задай, ясно, что правильным ответом следует считать всю предыдущую биографию. Впрочем, в моем случае вполне можно ограничиться самым последним этапом, этакой финишной прямой протяженностью в две с небольшим дюжины дней, минувших с тех пор, как мы с Джуффином сидели у распахнутого окна его кабинета в Доме у Моста и смотрели на улицу, где, не обращая на нас ни малейшего внимания, творился восхитительный осенний день, теплый, пасмурный и немного чересчур яркий, как рисунок внезапно исцелившегося слепца.
Карина Добротворская. Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже
- Карина Добротворская. Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже. — М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной. — 352 с.
Автобиографическая книга Карины Добротворской написана в эпистолярном жанре и посвящена ее первому мужу кинокритику и сценаристу Сергею Добротворскому, ушедшему из жизни семнадцать лет назад. «В этих письмах нет никаких претензий на объективный портрет Добротворского. Это не биография, не мемуары, не документальное свидетельство. Это попытка литературы, где многое искажено памятью или создано воображением. Наверняка многие знали и любили Сережу совсем другим. Но это мой Сережа Добротворский — и моя правда», — сказано в предисловии книги.
1.
8 января 2013
Привет! Почему у меня не осталось твоих писем?
Сохранились только несколько листков с твоими смешными стишками, написанными-нарисованными рукотворным печатным шрифтом. Несколько записок, тоже
написанных большими полупечатными буквами.
Сейчас я понимаю, что почти не помню твоего
почерка. Ни мейлов, ни смс — ничего тогда не было.
Никаких мобильных телефонов. Даже пейджер был
атрибутом важности и богатства. А статьи мы передавали отпечатанными на машинке — первый (286-й)
компьютер появился у нас только спустя два года после
того, как мы начали жить вместе. Тогда в нашу жизнь
вошли и квадратные дискеты, казавшиеся чем-то инопланетным. Мы часто передавали их в московский
«Коммерсант» с поездом.Почему мы не писали друг другу писем? Просто
потому, что всегда были вместе? Однажды ты уехал
в Англию — это случилось, наверное, через месяц или
два после того, как мы поженились. Тебя не было
совсем недолго — максимум две недели. Не помню,
как мы тогда общались. Звонил ли ты домой? (Мы
жили тогда в большой квартире на 2-й Советской,
которую снимали у драматурга Олега Юрьева.) А еще
ты был без меня в Америке — долго, почти два месяца.
Потом я приехала к тебе, но вот как мы держали связь
всё это время? Или в этом не было такой уж безумной
потребности? Разлука была неизбежной данностью,
и люди, даже нетерпеливо влюбленные, умели ждать.Самое длинное твое письмо занимало максимум
полстраницы. Ты написал его в Куйбышевскую больницу, куда меня увезли на скорой помощи с кровотечением и где поставили диагноз «замершая
беременность». Письмо исчезло в моих переездах,
но я запомнила одну строчку: «Мы все держим за тебя
кулаки — обе мамочки и я».Жизнь с тобой не была виртуальной. Мы сидели
на кухне, пили черный чай из огромных кружек или
кисловатый растворимый кофе с молоком и говорили
до четырех утра, не в силах друг от друга оторваться.
Я не помню, чтобы эти разговоры перемежались поцелуями. Я вообще мало помню наши поцелуи. Электричество текло между нами, не отключаясь ни на секунду,
но это был не только чувственный, но и интеллектуальный заряд. Впрочем, какая разница?Мне нравилось смотреть на твое слегка надменное
подвижное лицо, мне нравился твой отрывистый
аффектированный смех, твоя рок-н-ролльная пластика,
твои очень светлые глаза. (Ты писал про Джеймса Дина,
на которого, конечно, был похож: «актер-неврастеник
с капризным детским ртом и печальными старческими
глазами».) Когда ты выходил из нашего домашнего
пространства, то становилась очевидной несоразмерность твоей красоты внешнему миру, которому надо
было постоянно что-то доказывать, и прежде всего —
собственную состоятельность. Мир был большой — ты
был маленький. Ты, наверное, страдал от этой несоразмерности. Тебя занимал феномен гипнотического
воздействия на людей, который заставляет забыть
о невысоком росте: «Крошка Цахес», «Парфюмер»,
«Мертвая зона». Ты тоже умел завораживать. Любил
окружать себя теми, кто тобой восторгался. Любил,
когда тебя называли учителем. Обожал влюбленных
в тебя студенток. Многие из твоих друзей обращались
к тебе на «вы» (ты к ним тоже). Многие называли по
отчеству.Я никогда тебе этого не говорила, но ты казался
мне очень красивым. Особенно дома, где ты был
соразмерен пространству.А в постели между нами и вовсе не было разницы
в росте.2.
22 января 2013
Я так отчетливо помню, как увидела тебя в первый раз.
Эта сцена навсегда засела у меня в голове — словно
кадр из фильма новой волны, из какого-нибудь «Жюля
и Джима».Я, студентка театрального института, стою со
своими сокурсницами на переходе у набережной
Фонтанки, около сквера на улице Белинского. Напротив
меня, на другой стороне дороги — невысокий блондин в голубом джинсовом костюме. У меня волосы
до плеч. Кажется, у тебя они тоже довольно длинные.
Зеленый свет — мы начинаем движение навстречу
друг другу. Мальчишеская худая фигурка. Пружинистая
походка. Едва ли ты один — вокруг тебя на Моховой
всегда кто-то вился. Я вижу только тебя. По-женски
тонко вырезанное лицо и голубые (как джинсы) глаза.
Твой острый взгляд меня резко полоснул. Я останавливаюсь на проезжей части, оглядываюсь:— Это кто?
— Ты что! Это же Сергей Добротворский!
А, Сергей Добротворский. Тот самый.
Ну да, я много слышала про тебя. Гениальный
критик, самый одаренный аспирант, золотой мальчик,
любимец Нины Александровны Рабинянц, моей
и твоей преподавательницы, которую ты обожал за
ахматовскую красоту и за умение самые путаные мысли
приводить к простой формуле. Тебя с восторженным
придыханием называют гением. Ты дико умный. Ты
написал диплом об опальном Вайде и польском кино.
Ты — режиссер собственной театральной студии,
которая называется «На подоконнике». Там, в этой
студии на Моховой, в двух шагах от Театрального
института (так написано в билете), занимаются
несколько моих друзей — однокурсник Леня Попов,
подруга Ануш Варданян, университетский вундеркинд
Миша Трофименков. Туда заглядывают Тимур Новиков,
Владимир Рекшан, длинноволосый бард Фрэнк, там
играет на гитаре совсем еще юный Максим Пежемский. Там ошивается мой будущий лютый враг и твой
близкий друг, поэт Леша Феоктистов (Вилли).Мои друзья одержимы тобой и твоим «Подоконником». Мне, презирающей подобного рода камлания,
они напоминают сектантов. Андеграундные фильмы
и театральные подвалы меня не привлекают. Я хочу
стать театральным историком, азартно роюсь в пыльных
архивах, близоруко щурюсь, иногда ношу очки
в тонкой оправе (еще не перешла на линзы) и глубоко
запутана в отношениях с безработным философом,
мрачным и бородатым. Он годится мне в отцы, мучает
меня ревностью и проклинает всё, что так или иначе
уводит меня из мира чистого разума (читай —
от него). А театральный институт уводит — каждый
день. (Недаром театр на моем любимом сербском —
«позорище», а актер — «глумец».)Театральный институт был тогда, как сказали бы
сейчас, местом силы. Это были его последние золотые
дни. Здесь еще преподавал Товстоногов, хотя жить ему
оставалось недолго, несколько месяцев. Ты называл его
смерть счастливой — он умер мгновенно (про смерть
говорят «скоропостижно», больше ведь ни про что так
не говорят?), за рулем. Все машины поехали, когда
включился зеленый свет, а его знаменитый «мерседес»
не двинулся с места. Так умирает герой Олега Ефремова
за рулем старой белой «волги» в фильме с невыносимым названием «Продлись, продлись,
очарованье» — под тогдашний истерически-бодрый
хит Валерия Леонтьева «Ну почему, почему, почему
был светофор зеленый? А потому, потому, потому, что
был он в жизнь влюбленный».Мы ходили на репетиции к Кацману. Его предыдущий курс был звездным курсом «Братьев Карамазовых» — Петя Семак, Лика Неволина, Максим
Леонидов, Миша Морозов, Коля Павлов, Сережа
Власов, Ира Селезнева. Кацман любил меня, часто
останавливал на институтских лестницах, задавал
вопросы, интересовался, чем я занимаюсь. Я болезненно стеснялась, что-то лепетала про темы своих
курсовых. Вместе с Кацманом на Моховой преподавал
Додин и именно тогда выпустил «Братьев и сестер»,
на которых мы ходили по десять раз. Лучшие педагоги
были еще живы — студентки-театроведки млели
от лекций Барбоя или Чирвы, в аудиториях витали
эротические флюиды. Студенты-актеры носились
со своими невоплощенными талантами и неясным
будущим (про самых ярких говорили: «Какая прекрасная фактура!»); студентки-художницы носили длинные
юбки и самодельные бусы (ты называл эту манеру
одеваться «магазином Ганг»); студенты-режиссеры вели
беседы о Бруке и Арто в институтской столовой
за стаканом сметаны. Так что и ленинградский театр, и ЛГИТМиК (он сменил столько названий, что
я запуталась) были еще полны жизни и притягивали
одаренных и страстных людей.Тогда, на Фонтанке, когда я остановилась
и обернулась, то увидела, что ты тоже обернулся.
Через несколько лет все запоют: «Я оглянулся
посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть,
не оглянулся ли я». Мне показалось, что ты посмотрел
на меня почти презрительно. При твоем маленьком
росте — сверху вниз.Ты потом говорил мне, что не помнишь этой
встречи — и что вообще увидел меня совсем не там
и не тогда.3.
26 марта 2013
Так обидно, что сегодня тебя не было рядом со мной.
Я ходила на выставку «Дэвид Боуи» в лондонском
музее Виктории и Альберта. Я о ней столько слышала
и читала, что казалось, я там уже побывала. Но, оказавшись внутри, почувствовала, что сейчас потеряю
сознание. Там было столько тебя, что я эту выставку
проскочила почти по касательной, не в силах впустить
в себя. Потом сидела где-то на подоконнике у внутреннего музейного дворика и старалась удержать
слезы (увы, безуспешно).И дело не в том, что ты всегда восхищался Боуи
и сам был похож на Боуи. «Хрупкий мутант с кроличьими глазами» — так ты его однажды назвал. И не
в том, что твои коллажи, рисунки, даже твой полупечатный почерк так напоминали его. И даже не в том,
что для тебя, как и для него, так много значила экспрессионистская эстетика, так важны были Брехт и Берлин,
который ты называл городом-призраком, исполненным
пафоса, пошлости и трагизма. Дело в том, что жизнь
Боуи была бесконечной попыткой превращения себя
в персонаж, а жизни — в театр. Сбежать, спрятаться,
изобрести себя заново, обмануть всех, закрыться
маской.Я нашла твою статью о Боуи двадцатилетней
давности. «Кинематограф по определению был и остается искусством физической реальности, с которой
Боуи долго и успешно боролся, синтезируя собственную плоть в некое художественное вещество».Помню, как ты любовался его разноцветными
глазами. Называл его божественным андрогином.
Как восхищался его персонажем — ледяной белокурой
бестией — в умозрительном и статичном фильме
Осимы «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс»,
который ты любил за нечеловеческую красоту двух
главных героев. Как говорил, что вампирский поцелуй
Боуи с Катрин Денев в «Голоде» — едва ли не самый
прекрасный экранный поцелуй. Тогда меня всё это не
слишком впечатляло, но теперь неожиданно ударило
в самое сердце. И в той же твоей статье я читаю:
«Кинематограф так и не уловил закон, по которому
живет это вечно изменяющееся тело. Но кто знает,
может быть, именно сейчас, когда виртуальная реальность окончательно потеснила физическую, мы все-таки узреем истинный лик того, кто не отбрасывает
тени даже в ослепительном луче кинопроектора».Ну почему, почему у меня текут эти глупые слезы?
Ты умер, он жив. Счастливо женат на роскошной
Иман, остепенился, обрел вполне себе физическую
реальность — и как-то живет со своим виртуальным
мифом.А ты умер.
Роберт Хьюз. Рим
- Роберт Хьюз. Рим. История города: его культура, облик, люди. — М.: АСТ: CORPUS, 2014. — 576 с.
В издательстве Corpus вот-вот выйдет научно-популярная книга известного арт-критика Роберта Хьюза «Рим», в которой он без лишнего педантизма разбирает более чем двухтысячелетнюю историю культуры города, эпоху за эпохой. Автор показывает, как римские архитектура, живопись и другие искусства развивались под воздействием исторических потрясений, политических интриг и меняющейся психологии его жителей. Must have для тех, кто без ума от Италии или собирается ее посетить.
XII РИМ ОСВОБОЖДЕННЫЙ
Чтобы вырвать столицу Италии из рук фашистов, потребовалась длительная подготовка. Это нельзя было сделать прямой атакой с севера. В прошлом, начиная еще со времен галлов, все, кто собирался напасть на Рим, приходили именно оттуда, но теперь это было невозможно из-за немецких войск. К 1943 г. постепенно стало ясно, что в первую очередь именно немецким, а не итальянским силам предстоит удерживать союзные войска за пределами Италии, пытаясь не допустить (в конце концов это оказалось невозможно) морского и воздушного вторжения из Северной Африки через Средиземное море.
Союз Муссолини и Гитлера вынудил Италию разделить судьбу Германии во Второй мировой войне. Нет сомнений, что эти два вождя были очарованы друг другом. Это взаимное восхищение росло и крепло начиная с 1937 г., когда Муссолини прибыл с государственным визитом в Германию, где на него обрушилась вся мощь нацистских постановочных эффектов. Ни один человек, отличающийся таким нарциссизмом, как у Дуче, не смог бы устоять перед подобным зрелищем: целый проспект был увешан его собственными портретами вперемежку с портретами римских императоров.
И все же у Италии не было никаких шансов на равноправные отношения с Германией во Второй мировой войне. Итальянская экономика могла оплатить только десятую часть военных расходов Германии (в 1938 г. — $ 748 млн против немецких $ 7415 млн). Военная промышленность Италии тоже едва ли могла соперничать с немецкой, несмотря на все бахвальство Муссолини и его пропагандистов. Между 1918 и 1938 гг. из Италии в США хлынул поток эмигрантов, тем самым боеспособное население значительно сократилось, и эту проблему, очевидно, невозможно было разрешить в короткие сроки никакими призывами увеличить рождаемость. А самая серьезная проблема стран «оси»1, заключалась в том, что оказалось трудно привить рядовым итальянцам ненависть к американцам и англичанам. В начале 1943 г. союзники вступили в бой с итальянцами в Северной Африке, и результат был не слишком обнадеживающим для Италии: к маю 1943 г., согласно Кигану, количество пленных итальянцев, захваченных союзниками в ходе африканских войн против «империи» Муссолини, перевалило за 350 тысяч, превысив тем самым изначальную численность всего африканского гарнизона. Победа союзников в Северной Африке была полной и необратимой, и это значило, что все побережье Италии оказалось лицом к лицу с вражескими силами, развернувшимися по ту сторону Средиземного моря от Касабланки до Александрии. Регион, который Черчилль назвал «мягким подбрюшьем Европы», оказался открыт для атак с моря и с воздуха, как еще никогда в истории.
Более того, королевский дом Италии и, по большей части, правящие аристократические и военные круги уже не были уверены в своей преданности Дуче. Гитлер был хорошо осведомлен об этом и справедливо полагал, что «в Италии мы можем положиться только на Дуче. Существует сильное опасение, что его устранят или каким-то образом нейтрализуют <…> широкие слои гражданского населения настроены по отношению к нам враждебно или недоброжелательно <…> Народные массы апатичны и лишены руководства».
Так оно и было, и ситуация еще усугубилась, когда пришли неприятные новости об операции «Хаски» — под таким кодовым названием проходила высадка союзников на Сицилии, которая стала прелюдией к полному захвату материковой Италии (операция «Лавина»). Это событие стало поворотной точкой для итальянского правящего класса, который перешел после этого на сторону противника, не уведомив об этом Германию. Итальянские войска потерпели поражение, и главнокомандующий Бадольо вступил в переговоры с союзниками, все время подчеркивая, что как премьер-министр (поскольку Муссолини подал в отставку по требованию Большого фашистского совета2,) он непоколебимо верен Гитлеру. После неприятной встречи с королем Виктором Эммануилом, потребовавшим его отставки, Муссолини был отправлен в ссылку: сперва он жил последовательно на разных островах у западного побережья Италии, затем оказался в отеле на пике Гранд Сассо в Апеннинах. Оттуда несколько недель спустя его «спас» по приказу Гитлера грозный, покрытый шрамами диверсант из СС по имени Отто Скорцени на крошечном разведывательном самолете «шторх». Дуче воссоединился с Гитлером, а затем отправился в своего рода убежище в городке Сало. Там Муссолини недолго возглавлял марионеточное правительство — Итальянскую Социалистическую Республику. Так завершилась политическая карьера Дуче.Первый этап вторжения союзников в Италию увенчался успехом. Основной целью их огромной флотилии был древний портовый город Гела, где, по легенде, аттический драматург Эсхил был убит падением черепахи, выскользнувшей из клюва орла. Однако совсем не черепах обрушили на защищавшие Гелу силы «оси», удары бомбардировщиков, воздушный десант и морские орудия тем кристально ясным июльским утром, когда 7-я армия Паттона развернула тройное наступление. Всего за 38 дней подразделения «Хаски» отбили 25 тысяч квадратных километров Сицилии у войск «оси», сражавшихся, по большей части, в отчаянно неблагоприятных условиях. К концу операции полмиллиона немцев были мертвы, а союзники дошли до Мессины на северо-восточном конце залитого кровью острова; как писал военный корреспондент Алан Мурхед: «когда мы смотрели отсюда на другой берег, на европейский материк, виноградники и сельские хижины охватила полная тишина и весь берег, казалось, сковал ужас перед тем, что неизбежно должно было случиться».
И это действительно случилось: в первых числах сентября 1943 г. началась операция «Лавина», массовая высадка союзных войск у Салерно. К тому времени итальянские силы отступили, предоставив сражаться немцам, которые держались с отчаянной решимостью, с которой могла сравниться только решимость наступавших союзников.
После огненного смерча, охватившего Южную Италию во время переправы союзников с Сицилии, ожесточенных боев за каждую пядь «сапога» Италии по пути к Риму, после длинного и смертоносного штурма Салерно, после взятия плацдарма Анцио, который солдаты прозвали «сучьей головой»3, и ужасов долгих атак и контратак у Монте-Кассино, почтенной крепости и аббатства, основанного в vi в. святым Бенедиктом, сдача Рима в июне 1944 г. стала для союзников чуть ли не разочарованием. Когда армия подошла к городу, прозвучало всего несколько выстрелов. В Риме почти не оставалось немцев, зато было полно римлян, которые все как один чудесным образом перестали быть фашистами, едва первые американские танки въехали на мосты через Тибр; враг отступил на север, чтобы укрепиться выше по течению Тибра.
Если бы союзники спустили на город бомбардировщики, они произвели бы там безграничные разрушения: учитывая их воздушное превосходство, им не составило бы труда сделать с Римом то же самое, что британцы уже сделали с Дрезденом. Но американскому высшему командованию приходилось учитывать реакцию миллионов американских католиков в случае, если американские войска начнут бомбить папу римского, пусть даже целясь в Муссолини. В конце июня 1943 г. генерал Джордж Маршалл признал, что «если бы собор Святого Петра оказался разрушен, это была бы трагедия», тем не менее Рим был мишенью первостепенного стратегического значения не только как столица фашизма, но и главным образом из-за расположенных там огромных сортировочных станций Литторио, через которые проходило большинство поездов, направлявшихся на юг.
Соответственно, пилотам и бомбардирам католического вероисповедания было разрешено отказаться от участия в налетах на станции. На навигационных картах отметили Ватикан и другие исторические места, хотя, конечно, аккуратность, возможная при массированном авиационном налете, имела свои пределы. 500 бомбардировщиков B-26 с 1000 тонн боеприпасов на борту вылетели в направлении Рима со своих баз в Северной Африке. Было просто чудом, что почти все они поразили только заранее установленные цели — железнодорожные станции. Была задета всего одна церковь, имевшая историческую ценность: базилика Сан-Лоренцо, построенная в iv в., была почти полностью уничтожена попаданием одной тысячефунтовой бомбы, но с тех пор ее восстановили.
Хотя на пути к Риму погибли тысячи человек, в самом городе пало мало союзных солдат: почти все немцы отступили перед их приближением. С 11 мая, когда началось вторжение на материковую часть Италии, союзники потеряли 44 тысячи человек убитыми и ранеными: 18 тысяч американцев (из них 3 тысячи убитыми), 12 тысяч англичан, 9,6 тысячи французов и около 4 тысяч поляков. Со стороны Германии потери были больше, их оценивают в 52 тысячи человек. И вот генерал Марк Кларк, давно и страстно мечтавший захватить Рим, прошествовал как победитель к подножию Капитолийского холма и вверх по Кордонате Микеланджело, на Пьяцца дель Кампидолио. Немногие римляне вышли на улицы освобожденного города, чтобы посмотреть на шествие Кларка 4 июня: все они боялись (как оказалось, напрасно) попасть под перекрестный огонь, если отступающие нацисты будут обороняться до последнего. Но немцы вовсе не «стояли до последнего», покидая Рим…
1 Страны «оси» (от термина «ось Берлин—Рим») — военно-политический союз Германии, Италии, Японии и других государств во время Второй мировой войны.
2 Правительственная структура в Италии при Муссолини.
3 Игра слов: beachhead (англ.) — плацдарм, военная позиция; bitchhead (англ.) — сучья голова.
Жан Эшноз. 14-й
- Жан Эшноз. 14-й / Пер. с фр. Н. Мавлевич. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014. — 128 с.
«14-й» Жана Эшноза, по признанию французской критики, вошел в список самых заметных
романов 2012 года. Картины войны, созданные на документальном материале дневниковых записей, под пером писателя-минималиста
приобретают эмблематические черты.
Для русских читателей его публикация —
возможность прикоснуться к теме, которая, в
силу исторических причин, не особенно хорошо развита в отечественной литературе.7 В час дня на обычной в конце лета для департамента Марна небесной синеве появляется еле заметная мошка.
Давайте устремимся мысленно навстречу жужжащей точке: по мере приближения
она становится все больше, пока не превратится в самолетик — двухместный биплан «Фарман 37»* c пилотом и наблюдателем, сидящими друг за другом в жестких
креслах и едва-едва прикрытыми стеклянным козырьком. В то время еще не существовало закрытых кабин, и ветер нещадно хлестал в лицо авиаторам; они словно
находились на крошечной смотровой площадке, с которой открывался вид на то, как
сближаются войска враждующих сторон:
вот колонны грузовиков и пехотинцев, артиллерия, обозы, стоянки и лагеря.Под крыльями самолета, на земле, где
все это ползет и рокочет, где шагают, обливаясь потом, солдаты, — жуткая жара,
один из последних августовских рецидивов, перед тем как лето резко повернет к
осени. Но наверху, в небе, куда холоднее,
поэтому на авиаторах особый костюм.Помимо шлема и больших защитных
очков, на них надеты черные прорезиненные комбинезоны с подкладкой из кроли-
чьего или козьего меха, кожаные куртки
и штаны, утепленные перчатки и сапоги, —
в таком наряде летчики похожи друг на
друга, тем более что неприкрытыми только и остаются щеки, подбородок да губы,
которыми они шевелят, пытаясь что-то сказать, но лишь мычат — ни внятно выговорить, ни расслышать что-либо не получается, слова заглушает рев мотора и рвет в
клочья тугая воздушная струя. Ни дать ни
взять пара оловянных солдатиков, отлитых в одной форме, с едва заметным швом
по бокам, и только коричневый шарф на
шее наблюдателя по имени Шарль Сез отличает его от пилота Альфреда Ноблеса.Они почти не вооружены, шестидесяти килограммов бомб, которые биплан
способен унести, нет на борту, а пулемет —
одна видимость. Он хоть и укреплен на
фюзеляже, но от него мало толку: целиться
и перезаряжать его на ходу довольно трудно, да и система синхронизации стрельбы
с вращением винта не отлажена.Впрочем, задача летчиков — всего лишь
воздушная разведка, и хоть дело это совсем
новое и оба еле-еле обучены, но они не боятся. Ноблес управляет машиной, поглядывая на компас и приборы, которые указывают высоту, скорость и угол крена; у Шарля
Сеза на коленях штабная карта, на шее бинокль и тяжелый аппарат для аэрофотосъемки, их ремешки перепутались с шарфом. Они осматривают местность, наблюдают — и всё.Истребители, бомбардировщики, запретные для полетов противника зоны,
бои с дирижаблями, плен — ничего этого
еще нет, но появится очень скоро, и вот
тогда все станет неизмеримо серьезнее.
Пока же их дело смотреть: фотографировать и отмечать на карте передвижения
войск, цели для артиллерии, расположение
окопов, аэродромов и ангаров с цеппелинами, а также складов, гаражей, командных
пунктов, мест скопления живой силы.Вот они и летят, глядя в оба, но вдруг
далеко позади и слева от «фармана» возникает еще одна еле заметная мошка, Ноблес
и Сез ее не замечают, меж тем она все увеличивается и вырисовывается яснее. Это
обтянутая парусиной деревянная конструкция, украшенная черными крестами на
крыльях, хвосте и тележке шасси, с дюралюминиевым фюзеляжем — двухместный
«авиатик», и траектория его полета относительно «фармана» не оставляет никаких
сомнений в том, каковы его намерения.
Когда «авиатик» приблизился, Шарль Сез
разглядел торчащий из кабины и прямо на
него направленный карабин, о чем он тут
же сообщил Ноблесу.Шли первые недели войны, в ту пору
самолеты были только новомодным видом
транспорта, в военных целях их никто еще
не применял. Да, на «фармане» был установлен пулемет «гочкисс», но пока только
в экспериментальных целях и без патронов, то есть непригодный для боя, поскольку официально использование подобного
оружия в авиации тогда еще не разрешалось — не столько из-за перегрузки, сколько из опасения, что враги перехватят идею
и тоже снабдят им свои самолеты. Пока же
этот запрет не был снят, пилоты, из предосторожности и не ставя в известность
начальство, брали с собой карабины или
пистолеты. Поэтому, едва лишь экипаж
увидел ствол, Ноблес накренил аппарат и
ушел в сторону, а Шарль выхватил из кармана комбинезона пистолет «саваж», специально для стрельбы в воздухе обмотанный сеткой, не позволяющей гильзам попасть в лопасти винта.Несколько минут «авиатик» и «фарман» летели то выше, то ниже, расходились, снова сходились почти вплотную, не
упуская друг друга из виду и проделывая
нечто похожее на то, что потом будет называться фигурами высшего пилотажа:
петля, бочка, штопор, иммельман, — каждый норовил перехитрить другого и найти
благоприятный для стрельбы угол атаки.
Шарль, вжавшись в сиденье, держал пистолет обеими руками, стараясь поточнее прицелиться, тогда как вражеский наблюдатель, наоборот, постоянно водил стволом
карабина. Вот Ноблес резко набрал высоту,
«авиатик» преследует его, проскальзывает
у него под брюхом и, сделав крутой вираж,
взмывает вверх прямо перед ним, в таком
положении Шарль не может стрелять, поскольку между ним и кабиной «авиатика»
оказывается его собственный пилот, Ноблес. В этот миг раздается ружейный выстрел, и пуля, пролетев двенадцать метров на
высоте семисот и со скоростью тысячи в
секунду, вонзается в левый глаз Ноблеса и
выходит под правым ухом; «фарман», потеряв управление, на секунду зависает и
начинает все сильнее крениться вниз, а
вскоре уже просто пикирует; Шарль, широко раскрыв глаза, смотрит поверх завалившегося набок тела Альфреда, как приближается земля, сейчас он врежется в нее и
разобьется — надежды нет, смерть неизбежна и неотвратима; сегодня там, на месте
крушения в регионе Шампань—Арденны,
раскинулась живописная деревушка Жоншери-сюр-Вель, жителей которой называют жоншавельжанами.8 Зарядили дожди, промокший ранец удвоил вес, свирепый ветер взвихрял воздушные валы, холодные и плотные настолько,
что они, казалось, вот-вот застынут ледяными столбами. В такой жестокой стуже
подошли к бельгийскому рубежу. Здесь
горел огромный костер — таможенники
развели его в первый день войны и с тех
пор постоянно поддерживали; вокруг него,
как можно ближе к огню, и расположились
на ночь солдаты, на голой земле, тесно прижавшись друг к другу. Как же завидовал
Антим этим таможенникам, их легкой, безопасной, как он думал, службе, их теплым
кожаным спальным мешкам. А еще больше стал завидовать потом, когда на третий
день пути они расслышали артиллерийскую канонаду, звук которой все нарастал:
протяжный низкий гул и временами ружейный треск — видимо, перестрелка между патрулями.Не успели солдаты привыкнуть к стрельбе, как оказались на переднем крае, в холмистой местности неподалеку от селения
Мессен. Теперь предстояло войти в это
пекло, и только тут они действительно поняли, что им придется драться, идти в бой.
Антим всерьез поверил в это лишь тогда,
когда рядом разорвался первый снаряд.
Поверив же, внезапно ощутил страшную
тяжесть всего, что он нес на себе: оружия,
ранца, даже перстня на мизинце — всё стало весить добрую тонну, и от этого не только не приглушалась, а, напротив, усиливалась боль в запястье.Скомандовали «вперед», и Антим, увлекаемый товарищами, очутился посреди
самого что ни на есть настоящего поля боя,
плохо соображая, что надо делать. Босси
был рядом, они переглянулись, Арсенель
позади поправлял ремень, Падиоло сморкался, и его лицо было белее полотняного
платка. Новый приказ — и они побежали,
все, кроме двух десятков человек, которые
остались на месте и встали в кружок, не
обращая ни малейшего внимания на взрывы. То были полковые музыканты, их дирижер застыл с воздетой белой палочкой
и опустил ее, выпуская на волю «Марсельезу»; оркестр был призван обеспечить
бравый аккомпанемент атаке. Противник
занял оборону в лесу и, прикрытый деревья ми, поначалу сдерживал атакующих,
но в бой вступила артиллерия, на врагов
посыпались снаряды, после чего наступление возобновилось. Бежали, неуклюже
пригнувшись, с тяжелой винтовкой на перевес и вспарывая ледяной воздух штыками.Как оказалось, рванули раньше времени да к тому же совершили ошибку: высыпали всей массой на пересекавшую поле боя
дорогу. Дорога эта — пустая полоса, отличная и хорошо пристрелянная цель для рас-
положенной за леском вражеской артиллерии. Несколько человек совсем рядом с
Антимом сразу упали, он увидел, как брызнули струи крови, но тут же постарался
выбросить из головы этот образ — вдруг
ему это только почудилось, тем более что
прежде он не часто видел кровь, во всяком
случае, не столько и не бьющую фонтаном.
Однако было не до размышлений, Антим
прикладывал все силы, чтобы заставить
себя выстрелить туда, где смутно различался некто, называемый врагом, а главное,
чтоб отыскать хоть какое-нибудь укрытие.
Дорога подвергалась методичному обстрелу, но кое-где ее обступали деревья, так
что можно было ненадолго нырнуть под
их защиту.Но только очень ненадолго: покорные
отрывистым командам, первые ряды пехоты сошли с дороги прямо в овсяное поле;
теперь солдатам грозило получить в спину,
помимо вражеских пуль, свои, оплошно
выпущенные товарищами по оружию; неразбериха воцарилась полная. В первых
боях еще недоставало опыта, это поздней,
во избежание таких ошибок и чтобы наблюдатели могли опознавать своих, придумают нашивать большой белый лоскут на
спину шинели.Оркестр выполнял свою миссию, баритонисту прострелили руку, тромбонист, тяжело раненный, упал, но музыканты сомкнули поредевший круг и продолжали, пусть
меньшим составом, наяривать «Марсельезу» без единой фальшивой ноты; когда они
в очередной раз дошли до «окровавленного стяга», флейтист и альтист упали мертвыми.Артиллерийское прикрытие постоянно
запаздывало, поэтому рота за целый день
так и не смогла существенно продвинуться,
каждое движение вперед быстро сменялось
отходом. Только к вечеру последняя атака
увенчалась успехом — враг был выбит из
леса. Антим все это видел, и еще долго потом у него будет стоять перед глазами, как
люди всаживают друг в друга штыки, а после стреляют, чтобы с отдачей легче вытащить свой штык наружу. И сам он, скрючившись и выставив винтовку, готов был
колоть, разить, крушить что попало: людей, зверей, деревья, — в порыве недолгой,
слепой и абсолютной лютости; однако под
руку ничего не подвернулось. Подхваченный общей волной, не глядя по сторонам,
он обреченно бежал вперед, но удержаться на захваченной позиции не удавалось,
людская масса вновь откатывалась вспять;
сил не хватало, подкрепление никак не
подходило. Но всё это Антим сообразил
позднее, когда ему растолковали, что к
чему, а в тот момент, как бывает обычно,
он ничего не понимал.Таков был первый для него и всех его
товарищей бой, по окончании которого
несколько десятков человек, в том числе
капитана Вейсьера, двух каптенармусов и
унтер-офицера нашли мертвыми, не говоря о раненых — их выносили на носилках
до самой ночи. Понес потери и оркестр:
одного из кларнетистов ранило в живот,
барабанщика — в щеку, он рухнул с барабаном вместе, у второго флейтиста оторвало
половину кисти. А сам Антим, когда все
было кончено, обнаружил, что его миска
и котелок продырявлены пулями и такие
же дырки на кепи. У Арсенеля осколком
снаряда снесло верхушку ранца, другой
застрял внутри, разорвав ему китель. Как
оказалось после переклички, рота недосчиталась семидесяти шести человек.На рассвете начался новый переход,
шли весь день, по большей части лесом,
идти было труднее, утомительнее, зато солдаты были скрыты от вооруженных биноклями глаз полевых разведчиков и зорких
воздушных наблюдателей с самолетов и
аэростатов. На земле попадалось все больше трупов, брошенных винтовок и амуниции, раза два или три пришлось схватиться с противником, но, к счастью, это были
лишь короткие, хаотичные перестрелки,
не столь кровопролитные, как побоище
под Мессеном.Так продолжалось всю осень, и под конец люди переставляли ноги уже автоматически, забыв, что куда-то идут. Это было не
так уж и плохо: какое-никакое занятие, телесный механизм работает, зато свободна
голова — думай, о чем хочешь, а хочешь —
ни о чем не думай, но зимой все застопорилось. Противники так долго теснили друг
друга, что измотались вконец, линия фронта чрезмерно растянулась, противоборство
обернулось противостоянием, и с наступлением морозов еще недавно двигавшиеся
войска словно сковало льдом по длинной
линии от Швейцарии до Северного моря.
Где-то на этой линии застыла и рота Антима, парализованная, оцепеневшая, осевшая в запутанном траншейном лабиринте.
В принципе, изначально траншеями должны были заниматься инженерные войска,
но на деле пехотинцам приходилось окапываться самим, иначе зачем бы они таскали на спине лопатки и кирки, не просто
же для украшения ранца. А дальше каждый
день они старались убивать как можно
больше вражеских солдат, удерживая за
собой тот минимум квадратных метров,
который требовали командиры, зарываясь
в землю все больше и больше.
* Этот тип самолета выпускался лишь начиная
с 1916 г. В переводе сохранены допущенные автором неточности.
Валерий Шубинский. Зодчий. Жизнь Николая Гумилева
- Валерий Шубинский. Зодчий. Жизнь Николая Гумилева — Москва: АСТ: CORPUS, 2014. — 736 с.
Книга представляет собой подробную биографию одного из известнейших русских поэтов, чья жизнь стала легендой, а стихи — одним
из вершинных событий Серебряного века. Автор книги, известный писатель, критик и историк литературы, стремится дать углубленную интерпретацию событиям внешней и внутренней жизни поэта. Книга беспрецедентна по охвату документального материала; автор анализирует многочисленные воспоминания и отзывы современников Гумилева, письма и документы (в том числе неопубликованные).Глава одиннадцатая ГЕРОЙ, ИДУЩИЙ НА СМЕРТЬ Трудно сказать, обстоятельства, или мучительное нежелание делить какой бы то ни было кров с опостылевшей женой (бросить которую у него не хватало духа), или
просто усталость от петроградских трудов заставили Гумилева
в июне 1921 года предпринять совершенно бессмысленное в практическом плане путешествие на юг России, в Крым. Есть несколько
более или менее вздорных предположений о цели этого путешествия, но нужно ли искать цель? Африка была на данный момент закрыта, Париж тоже — Крым был единственной возможной заменой,
паллиативом странствий более дальних. И — не забудем, какие мучительные и трогательные воспоминания связаны были у Гумилева с Севастополем.Еще в апреле Мандельштам познакомил Гумилева с неким Владимиром Александровичем Павловым — молодым человеком, служащим
на флоте и пишущим стихи, «брюнетом в пенсне, с неприятным и
резким голосом и сумбурной речью» (таким его увидел в 1923 году
Лев Горнунг). Павлов был услужлив — мог доставать спирт, что в то
время ценилось: начался НЭП, но сухой закон, введенный еще царем, никто не отменял.Имя Павлова некоторые называли в связи с гибелью Гумилева.
Ни подтвердить, ни опровергнуть ничего нельзя. КГБ даже в перестроечные годы не раскрывал имен доносчиков; в отношении Павлова (и уж явно несправедливо оговоренного Георгием Ивановым
Колбасьева) прозвучало вроде бы твердое «нет».Павлов предложил отправиться в Крым с поездом А. В. Немитца,
бывшего царского контр-адмирала, на короткий срок ставшего наркомвоенмором республики. Ехали через Украину — в Севастополь.«Украина сожжена», — вздохнет Гумилев несколько недель спустя, в Москве. После двух лет Гражданской войны, Махно, Петлюры, Котовского, Буденного и пр., после десятков сражений и погромов — конечно. Но и Крым, в который он приехал, был страшным,
поруганным местом. Здесь за годы войны сменилось несколько правительств — красные, белые, опять красные, автономные татары,
опять белые (Врангель). Никто не был похож на ангела, но никто
сверх меры и не свирепствовал; красные поначалу были не лучше и
не хуже других. Самозваный «киммерийский царь» Максимилиан
Волошин по мере сил защищал белых от красных и красных от белых. Сидя в своем коктебельском доме, он слагал свои знаменитые
политические стихи, которыми равно восхищались красные и белые
вожди и которые равно запрещала красная и белая цензура. Так продолжалось, пока Красная армия при участии Николая Тихонова не
штурмовала Перекоп. Зимой и весной 1921 года начался местный
Апокалипсис. По приказу коммунистического наместника, венгра-интернационалиста Белы Куна все оставшиеся в Крыму офицеры
должны были зарегистрироваться — в обмен на гарантии безопасности. Затем все, кто имел неосторожность исполнить это распоряжение, — по меньшей мере 20 тысяч человек — были расстреляны.Предстояло нечто еще ужаснейшее: страшный крымский голод,
увековеченный в «Солнце мертвых» Шмелева, унесший 150 тысяч
жизней, но это уже начиная с осени 1921 года. Но летом — между
расстрелами и голодом — уже послевоенный, уже нэповский Севастополь казался почти уютным. Гумилев посидел с приятелями в открытой ресторации, пофлиртовал с некой дамой, которая подарила
ему розу. «Когда вышли из ресторана, Гумилев имел очень эксцентрический вид: в расстегнутой косоворотке и заломленной назад кепке, он шел, обмахиваясь розой, как веером». Еще Гумилев участвовал
с новыми друзьями в облаве на каких-то бандитов (что твой молодой
Багрицкий в тогдашней Одессе) и спас жизнь некоему инженеру
Макридину, оказавшемуся поэтом. Конечно, он зашел к Инне Эразмовне Горенко и рассказал, что ее дочь замужем за замечательным человеком и замечательным ученым, «и вообще все прекрасно» (а что
он еще мог сказать?); здесь узнал он о смерти Андрея Горенко. Это
была смерть страшная, вызывающая мучительную жалость и досаду — но житейская, человечная, принадлежащая давно минувшим мирным временам. У Андрея умер ребенок; он и жена решили покончить с собой — не могли жить. Он умер, жену спасли… Оказалось, что она беременна.Из новых друзей Гумилева самым близким стал Сергей Колбасьев, двадцатидвухлетний красавец (в его жилах текла итальянская
кровь), бывший гардемарин, сражавшийся в Гражданскую войну на
стороне красных; и соратниками, и противниками были его товарищи по Морскому корпусу. Эта ситуация, возможная лишь во время
Гражданской войны, порождала множество трагикомических ситуаций, запечатленных впоследствии Колбасьевым в его знаменитых
морских рассказах. Но в 1921 году будущий прозаик-маринист начинал как поэт — и был горячим поклонником Гумилева.Лейтенант, водивший канонерки
Под огнем неприятельских батарей,
Целую ночь над южным морем
Читал мне на память мои стихи…Гумилев не был особенно избалован славой. В сущности, он впервые увидел в лицо «своего читателя», не принадлежащего к столичной литературной среде. А «читателю» хотелось угодить любимому
поэту. И он нашел способ: издал «Шатер» (на «Огненный столп»
у Гумилева уже был договор с «Петрополисом»). «Колбасьев совершенно кустарным способом издал эту книжку. Я не знаю, где он достал грубую бумагу, на которой она напечатана, а переплет он сделал из синей бумаги, которая шла на упаковку сахарных голов, их
выдавали на матросский паек. Конечно, опечаток в этой книге было
до черта» (Тихонов). Бумагу выдал Немитц. Благодаря его щедрости весь тираж (впрочем, более чем скромный — 50 экземпляров)
был за одну ночь отпечатан во флотской типографии*. По возвращении из Крыма Гумилев его раздарил друзьям и ученикам.Гумилев взял Колбасьева (как и Макридина) с собой в Петроград,
где тот вошел сперва в группу «Голубой круг», потом примкнул
к «Островитянам». Именно враждой между «Островитянами» и «Цехом» (двумя фракциями гумилевцев) можно объяснить возведенную
Г. Ивановым на Колбасьева клевету. Потом Колбасьев служил переводчиком в Афганистане (оттуда его выжил полпред Раскольников,
на дух не переносивший все, связанное с Гумилевым), писал морские рассказы, одним из первых в СССР пропагандировал джаз (капитан Колбасьев в фильме «Мы из джаза» — это он) и погиб во время
Большого террора.Пока он взялся свозить Гумилева на катере в Феодосию. («Чудесно было… Во мне заговорила морская кровь».) В этот день в городе
случайно оказался Волошин. Рукопожатие поэтов, случайно встретившихся в здании Центросоюза, чуть не закончилось новым вызовом на поединок, но об этом мы уже писали.Так странно полупримирившись с Волошиным, Гумилев вернулся в Севастополь, а оттуда — не в адмиральском вагоне, а на обычном поезде — отправился в Р остов-на-Дону, где — еще одна приятная неожиданность! — обнаружил театрик, как раз поставивший
«Гондлу». Актеры рады были встретить автора пьесы, а он одобрил
их игру и, в качестве как-никак начальствующего лица, предложил
им перебираться в Петроград. Согласования на сей счет на вполне
официальном уровне велись в июле и увенчались успехом. Но увы! —
когда ростовские актеры (среди них, между прочим, Г. Халайджиева — первая жена Евгения Шварца) достигли невских берегов, Гумилева в живых уже не было. «Гондла» в Петрограде имел успех,
но шел недолго: публика слишком громко скандировала: «Автора!»
Это справедливо сочли политической демонстрацией и спектакль
запретили.Потом — Москва, где Гумилев встречает навещавшую брата Одоевцеву и приехавших в столицу хлопотать о выезде за рубеж Сологуба и Чеботаревскую. В Москве НЭП уже ощущался вовсю. Столица
начала заполняться народом. Питерские квартиры пустовали —
в Москве уже начались «уплотнения». Московские поэты, тяготевшие
к футуризму, петроградцев презирали (всех, кроме Одоевцевой; стихи Тихонова до Москвы еще не дошли).Гумилев выступил с чтением в «Кафе поэтов» на Тверской, 18.
Стихи он подобрал неудачно — не под вкус здешней (в основном околоимажинистской) публики («Душа и тело», «Молитва мастеров»,
«Либерия») и успеха на сей раз не имел совсем. «Молодые люди кокаинистического вида, девушки с сильно подведенными глазами,
в фантастических шляпах и платьях» надменно слушали петербуржца. Та смесь начальственной бесцеремонности, веселой туповатости и наивного снобизма, которая доселе выделяет Москву среди
всех городов мира, уже начала оформляться: трех лет столичного статуса на это хватило. Сергей Бобров, друг молодости Пастернака
и Асеева, прерывал гумилевское чтение грубыми репликами, стихотворец Василий Федоров («тогдашний лит. заправила») называл его
«третьесортным брюсенком», а Надежда Вольпин — «поэтом для
обольщения провинциальных барышень» (она-то была барышней
столичной — ее обольстил сам Есенин).Но уже после чтения Гумилев обратил внимание на молодого человека, которого за колоритную внешность назвал Самсоном («Крепко пришитая к плечам голова, крупные черты лица, окаймленного
черной бородой, чуть кривоватые под тяжестью тела, мускулистые,
в обмотках, ноги» — Г. Лугин; Одоевцева же называет его «рыжим»…
Вот и верь после этого мемуаристам!). Человек, как несколько недель назад Колбасьев, декламировал наизусть стихи Гумилева. Кожаная куртка не оставляла сомнений в роде занятий этого любителя
поэзии. Но когда тот подошел к Гумилеву и представился, поэт пришел в восторг. Это был Яков Блюмкин, знаменитый чекист-эсер,
который 26 июля 1918 года застрелил германского посла Мирбаха,
сорвав Брестский мир. В тот момент доблестному террористу было
всего восемнадцать лет. После изменения политической обстановки
Блюмкин был помилован и принят в РКП. С осени 1920-го он учился на Восточном отделении Академии Генштаба. Учеба прерывалась
на рубеже 1920–1921 годов командировкой в Персию: там Блюмкин
опекал незадачливого народного вождя Кучук-хана, чей мятеж большевики попытались использовать в своих целях.В 1922–1923 годах Блюмкин состоял «для особых поручений» при
Троцком и стал горячим приверженцем харизматического председателя Реввоенсовета. Дальнейшая карьера этого незаурядного и преступного человека связана с внешней разведкой. Известно, что он
работал в Палестине, во Внутренней Монголии… Впрочем, документальная биография Блюмкина еще не написана, а легенды, окружающие его имя, — одна выразительнее другой. Согласно одной из них,
в ранней юности он состоял в банде Мишки Япончика, одесского
Робин Гуда, ставшего прототипом Бени Крика… Согласно другой,
кремлевские оккультисты послали Блюмкина в Тибет на поиски
Шамбалы. Совсем уж странный, но вроде бы реальный эпизод — когда одесскому еврею Блюмкину удалось выдать себя за тибетского
ламу, и Рерих, которого он сопровождал на «крыше мира», не распознал обмана.Легендами окутана и смерть Блюмкина. В 1929 году он был расстрелян за тайные контакты с высланным Троцким — привез в Россию из Константинополя написанные химическим раствором письма опального вождя своим сторонникам. Но А. В. Азарх-Грановская
в беседах с Дувакиным намекает на особые причины его казни. Об
этих причинах она рассказывала в 1970-е годы нескольким лицам,
в том числе поэту Елене Шварц. Вернувшись из-за границы, Блюмкин якобы отдал Грановской на хранение чемодан, который актриса
после его гибели уничтожила. Там были документы, способные, будь
они оглашены, изменить ход мировой истории. Речь идет об известной (увековеченной Ю. Трифоновым в «Другой жизни») легенде
о сотрудничестве Иосифа Джугашвили с охранкой. Будто бы Блюмкин сумел найти «компромат» на вождя… Последняя легенда: чекист
Блюмкин умер как заправский самурай — с именем сюзерена на
устах. «Да здравствует Лев Троцкий!» — крикнул он, как рассказывают, перед расстрелом. Гумилеву бы это понравилось.Блюмкин как-никак был одесситом, и его тянуло к поэтам, хотя
эта тяга доставляла хлопоты. Нервные поэты позволяли себе неадекватные поступки — ну хоть тот же Мандельштам, однажды, как известно, в припадке отчаянной смелости вырвавший из рук Блюмкина
расстрельные бланки с подписью и печатью Дзержинско го, в которые подвыпивший чекист вписывал первые попавшиеся имена.
У Блюмкина после этого были неприятности, а Мандельштам, опасаясь его мести, бежал из Москвы в Крым. И все-таки Яков Григорьевич любил поэтов. И некоторые поэты любили его. Гумилев, например, радушно ответил на его рукопожатие и сказал: «Я люблю,
когда мои стихи читают воины и сильные люди». Но Ольге Мочаловой Гумилев передал свои слова иначе: «Убить посла невелика
заслуга, но то, что вы стреляли среди белого дня, в толпе людей, —
это замечательно».Человек, среди толпы народа
Застреливший императорского посла,
Подошел пожать мне руку,
Поблагодарить за мои стихи.«Мои читатели» были написаны вскоре после возвращения из
Москвы. Литературоведы догадались уже, что прообразом послу жило
Гумилеву стихотворение Кузмина «Мои предки», написанное в 1907 году, тоже верлибром, и уже упоминавшееся — в самом начале нашей
книги. Вот спор с собратом и приятелем: у того — предки, у Гумилева — читатели; там — «моряки старинных фамилий» (допустим, родственниками-моряками и сам Гумилев мог бы похвастаться) и «цветы
театральных училищ», а у нас — и моряк (тоже, между прочим, «старинной фамилии» — род Колбасьевых был известен на флоте), и террорист, и конквистадор…Много их, сильных, злых и веселых,
Убивавших слонов и людей,
Умиравших от жажды в пустыне,
Замерзавших на кромке вечного льда,
Верных нашей планете,
Сильной, весёлой и злой,
Возят мои книги в седельной сумке,
Читают их в пальмовой роще,
Забывают на тонущем корабле.После встречи с Колбасьевым и Блюмкиным Гумилеву хотелось
в это верить. В свою очередь советские историки литературы приводили эти строки в подтверждение «империалистической» природы
гумилевского творчества, не зная (или забывая), что по крайней мере
два из трех описанных поэтом «читателей» — люди советской службы, краснофлотец и чекист. Третий же, как мы помним, пытался создать эфиопский отдел Коминтерна.Впав вдруг, как в юности, в романтическое ницшеанство, Гумилев забыл другие свои строки:
Ну, теперь мы увидим потеху!
Эта лютня из финской страны,
Эту лютню сложили для смеху,
На забаву волкам колдуны.
Знай же: где бы ты ни был, несчастный,
В поле, в доме ли с лютней такой,
Ты повсюду услышишь ужасный,
Волчий, тихий, пугающий вой.
Будут волки ходить за тобою
И в глаза тебе зорко глядеть,
Чтобы, занятый дивной игрою,
Ты не мог, ты не смел ослабеть.
Но когда-нибудь ты ослабеешь,
Дрогнешь, лютню опустишь чуть-чуть
И, смятенный, уже не успеешь
Ни вскричать, ни взглянуть, ни вздохнуть.
Волки жаждали этого часа,
Он назначен им был искони,
Лебединого сладкого мяса
Так давно не терзали они.Это — «Гондла»…
Обаятельный Блюмкин был, конечно, из стаи волков. Волки заслушались песней поэта и окружали его плотным кольцом. Гумилев
и не догадывался, насколько они близко.
* А. Никитин (в книге «Неизвестный Николай Гумилев») считает , что Гумилев
специально предпринял путешествие в Крым, чтобы издать «Шатер» (!) — в Петрограде ведь был бумажный голод. Бумажный голод закончился уже весною. Ничто не
помешало издать (на хорошей бумаге, большим тиражом и без опечаток) «Дракон»,
ахматовский «Подорожник» и пр.
Ариадна Борисова. Змеев столб
- Ариадна Борисова. Змеев столб. — М.: Эксмо, 2014. — 384 с.
По словам Людмилы Улицкой, роман Ариадны Борисовой «Змеев столб», вышедший в лонг-лист премии «Ясная Поляна», – это история сильной, редкостной, героической и жертвенной любви, уникальность которой заключается не в ней самой, а в особых характерах и обстоятельствах. Взаимоотношения Хаима Готлиба, выходца из богатого торгово-ремесленного еврейства, первого в семье, получившего хорошее образование в Германии, и русской дворянки-сироты, воспитанной в детском приюте при православной церкви, разворачивается в довоенной Литве. О том, через какие испытания им придется пройти, и расскажет Ариадна Борисова.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
АДАМОВО ЯБЛОКОГлава 1
Младший сын всегда чудакСемейную торгово-промышленную компанию возглавлял старый Ицхак Готлиб, чья фамилия стояла в списке попечительского комитета клайпедской общины немецких евреев. Из скромного лавочника он незаметно превратился в солидного дельца и никогда не выставлял напоказ своего богатства, зная, как трудно сберечь имущество, нажитое трудом — честным трудом, хотя и не без некоторого авантюризма. Впрочем, казалось, деньги сами стаями слетаются к нему, словно птицы на жердочку дрессировщика, такой естественной способностью приручать их он обладал. Деревообрабатывающая фирма процветала. Коммерческий нюх старого Ицхака с невероятной точностью подсказывал ему лучшее время сбыта продукции и пределы покупательских возможностей. В отличие от многих, хозяйство не претерпело больших убытков даже тогда, когда Неман из-за польской экспансии закрывался для поставок леса из России. В середине 30-х внешние партнеры прервали связи со многими литовскими торговыми обществами, но компания Готлибов удержалась на плаву. Сметоновское1 правительство увеличило квоты на сбыт казенного дерева, подписало прерванное соглашение о ввозе сырья с советской стороны, и старому Ицхаку удалось заключить в Европе выгодные сделки по строевому фабрикату, принесшие семейству недурственный доход.
К городу-порту давно вернулось древнее куршское 2 название — Клайпеда. Между тем, на картах экс-хозяйки Германии он по-прежнему значился как Memelland3 и остался типично прусским. Снисходительно мирясь с властью Каунаса4, мемельцы по-прежнему считали свою родину предместьем фатерлянда.
На морском перекрестке военно-торговых путей всегда было тревожно, но банкротство, ущерб и пожары обходили дом старого Ицхака, точно он был заговоренным. Прадед выстроил это трехэтажное здание в обычном для здешних мест стиле фахверк близ устья Дане еще в начале девятнадцатого века после эдикта, снявшего запрет на еврейское гражданство в Мемельском крае.
Особняк стоял в начале двора, выложенного стертым до гладкости булыжником. Летом с нового мезонина ниспадали, мягко колышась на ветру, юбки дикого винограда. Пышный зеленый подол украшала пестрая кайма из многолетних цветов. На просторных задворках, как смежное государство с отдельными воротами, выходящими на другую улицу, жили вечно хлопотливой жизнью кухня с подсобкой, флигель для прислуги, кладовые, мастерская и гараж. Службы отгораживал от дома вытянутый в ширину яблоневый сад с нарядной беседкой, где любили играть сначала дети, а теперь — внуки.
Старый Ицхак был счастлив детьми. Трое старших сыновей, получив приличное образование, обзавелись семьями и трудились на благо фамильного дела. Из Лейпцига только что вернулся с университетским дипломом младший, любимец отца Хаим. Единственная дочь Сара, последыш почтенных родителей, посещала прогрессивную светскую школу.
Хозяин, будучи человеком набожным, все же не вступал в противоречия с передовыми велениями времени, но его жена придерживалась более суровых взглядов. Родом из ортодоксальной семьи, Геневдел Рахиль Готлиб, или матушка Гене, как звали ее домочадцы, строго следила за порядком и соблюдением основных обрядов и заповедей Торы. Прислуга после трудов с трепетом ожидала оценки госпожи, а невестки были обязаны еженедельно отчитываться перед свекровью во внутриклановых радостях и проступках. Под ее прицельным взором чувствовали себя виноватыми и те, кто не заметил огрехов. В этом обособленном мирке, где хозяйка была одновременно светочем и тираном, царили безукоризненная чистота, открытость и щепетильность во всем.
Матушка Гене с полным правом гордилась послушанием и способностями сыновей. Но получилось так, что младший нарушил патриархальные обычаи дома. Переломным событием к неожиданному заявлению Хаима стало исполнение сольной партии в студенческом хоре на краевом клайпедском празднике. Жюри конкурса провозгласило коллектив лучшим, и в тот же вечер молодой человек высказал на семейном ужине желание соединить свое будущее с артистической карьерой.
Матушка была вынуждена признаться себе, что младший сын всегда отличался от братьев ветреным нравом. К его рождению старый Ицхак накопил основную часть капитала и стал больше времени уделять семье, но старшие мальчики успели вырасти, и вся его нерастраченная родительская энергия обрушилась на Хаима. Благодаря эстетическим пристрастиям отца, страстного меломана в молодости, сын был взращен на немецкой исполнительской культуре и окончил музыкальную школу. Из всех детей именно он унаследовал приятный отцовский голос, лирический баритон с шелковистой теноровой ноткой, приводивший в восхищение многих. Матушка Гене втайне удивлялась: по ее убеждению, такой голос хорош был для кабака, где людям все равно, баритон, тенор или серединка на половинку, а никак не для театральной сцены.
Горестные размышления уверили женщину, что в легкомыслии сына виновато, кроме попустительства мужа, неофициальное «просвещение», полученное Хаимом в Лейпциге на вредных студенческих собраниях, где хитроумные ораторы, нанятые реакционными партиями, забивали головы молодым искаженными понятиями о жизни и устройстве мира. Матушка Гене прекрасно знала, кто виновен в международном политическом разброде и спаде экономики. Это социалисты всех мастей руководили забастовками рабочих и разоряли хуторян. А потом, распродав земли и скот, крестьяне сидели на баулах по всей Литве, ждали на вокзалах вербовщиков на плантации Южной Америки, — потому и стали случаться перебои с мясом и молочными продуктами в кошерных магазинах… Но хуже всего, что повсюду в моду вошел культ порочной богемы и, как следствие, падение устоев семьи и безбожие.
Геневдел Рахиль старалась не показывать тревоги на людях, но наедине с собой, чувствуя себя парализованной угрозой хаоса, внесенного сыном в трудно созданное ею домашнее равновесие, билась и плакала. Хаим! Хаим совсем отбился от рук! Того и гляди перестанет молиться, начнет брить виски и поедать трейфу! 5
— Ах, Ицек, выходит, не зря даже в сказках говорится, что младшие сыновья всегда чудаки, если не сказать хуже! Неужели мы столько лет учили сына для того, чтобы он пел оперетки? — кинулась женщина к мужу за сочувствием и утешением.
— У Хаима красивый голос, — не очень твердо возразил супруг.
— О да, как не поверить восторгам толпы! — съязвила матушка, мгновенно переходя от отчаяния к гневу.
— Жюри конкурса было профессиональным.
— За свои деньги ты мог бы солировать с тем же успехом!
В организацию праздника была вложена некоторая толика пожертвований от компании Готлибов.— Мы поддержали устроителей и в прошлый раз. Не мог же я отказать просьбам только потому, что в нынешнем конкурсе участвовал мой сын, — рассердился старый Ицхак. — И вспомни, что не Хаим, а хор заслужил признание.
— А ты вспомни себя, Ицек, вспомни себя! Ты ведь почему-то послушал родителей, не пошел в вокалисты! И разве не преуспел? Или мало работаешь вместе с мальчиками, мало всем помогаешь и не пользуешься уважением? Что по сравнению с этим так называемое «призвание» Хаима? Может, он не сумеет заработать себе и на кусок хлеба! А сплетни, Ицек? Сплетни тебя не волнуют? Знакомые непременно осудят нашего сына, а заодно и нас за то, что мы потакаем его капризам! Люди просто будут смеяться над нами! Ох, и распрекрасное же, скажут, занятие для мальчика из приличного дома! Окончил экономический факультет, чтобы распевать песенки в концертах!
— Ну что ты заладила — «песенки», «оперетки», — урезонивал старый Ицхак, пытаясь привести какие-то доводы в защиту выбора сына, но уговоры только распалили матушку Гене. Она бегала по комнате, заламывая руки, и свистящим от ярости шепотом призывала мужа образумить «глупого мальчишку».
— Искусство только называется изящным, а на самом деле коварно, богомерзко, безнравственно! Лицедейство ведет к пороку и пьянству! Я не удивлюсь, если из-за твоего потворства Хаим станет социалистом и отречется от нас!
Матушка роняла горькие слова, подсказанные страхом сердца, которые обычно придерживала в себе. Ей уже начинало казаться, что сын пал на дно жизни, где нет места порядочным людям.
— Гене, ты преувеличиваешь, — с раздражением прервал старый Ицхак. — В консерватории его научат петь для избранной публики.
— Где-е?!
— Да, прости, я забыл сказать: он мечтает поступить в Каунасскую консерваторию…
— Таланту нигде не учат, — отрезала взбешенная матушка, не заметив в запале, что дверь приоткрыта, и в щели поблескивают блестящие от любопытства глаза дочери.
Избалованная общим вниманием и любовью, двенадцатилетняя Сара благочестием не отличалась. Без всяких укоров совести подслушав ссору, девочка тотчас побежала искать Хаима. Она любила его больше, чем старших братьев, за веселый нрав и готовность к проказам. В юном своем эгоизме Сара старалась припомнить родительский разговор слово за словом, не замечая в них опасности. Ее больше занимало, как смешно матушка Гене таращила глаза и вертела руками.
Брат лежал в беседке на скамейке с томом Келлермана6 в правой руке и бутербродом в левой. Незаметно подкравшись, Сара просунула ладонь в решетку беседки и собралась было выдернуть бутерброд, но Хаим оказался проворнее и ухватил шалунью за высунувшийся кончик косы:
— Караул! Держи вора!
— Смотри, книгу маслом измажешь, — засмеялась Сара и заговорщицки прищурилась, входя в беседку. — Ни за что не угадаешь, что я сейчас слышала!
Хаим сел, сложив по-турецки ноги, и грозно уставился на сестрицу:
— Рассказывай, о луноликая, иначе верные мои визири отрубят твой любопытный нос и твои длинные уши!
Актерский этюд Сары был не лишен забавного сходства с характерными манерами родителей, но ожидания девочки не оправдались. Зритель не восхитился по обыкновению, и благодарных аплодисментов она не дождалась. Сконфуженная, она вдруг поняла, что слова матери, а особенно вынесенный ею вердикт тяжело задели брата.
Сара попробовала исправить свое неделикатное вторжение в ту область, к которой он, оказывается, относился слишком серьезно.
— Хаим, ну, Хаим, — потянула она его за рукав и капризно надула губы. — Не обижайся! Матушка Гене просто не хочет, чтобы ты поступил в консерваторию, поэтому так злится. Никто же не сомневается в твоем таланте! На празднике ты пел лучше всех, люди только о тебе говорили…
— Кто, например? — насторожился он.
— Один незнакомый человек, на вид учитель, — не моргнув глазом, соврала Сара, в ужасе соображая, как далеко зашла. — Или музыкант… Да-да, скорее всего, музыкант!
— Что он сказал?
— Ну-у… Я не очень хорошо помню… Кажется, о том, что тебе с таким замечательным голосом пора записаться в оперную студию.
— В какую еще оперную?
— Частную. Ее открыли при драмтеатре.
Сара перевела дух и похвалила себя за привычку читать случайные объявления. Под репертуарной афишкой ей вчера очень кстати встретилась информация о наборе студийцев с начальной музыкальной подготовкой.
Откинувшись на спинку скамьи, Хаим задумчиво посвистел, и черные, блестящие, как у сестры, глаза его оживились. Сара с облегчением убедилась, что настроение брата улучшилось.
— М-да, проказница ты этакая. Хочешь мне помочь?
— Конечно!
— Скажи матушке, будто я туда уже записался.
— А ты запишешься?
— Обязательно.
Неугомонная Сара тут же представила, что из этого может получиться. Заранее веря в триумф Хаима, в восторге от собственной хитрости и счастливого разрешения щекотливой ситуации, она зачастила:
— И ты станешь репетировать с другими певцами? А оркестр там есть? А если нет, то как без оркестра? Что вы поставите?
— Пока не знаю, — буркнул он.
— «Тристана и Изольду»! — запрыгала девочка, хлопая в ладоши. — Пожалуйста, пожалуйста, ладно?!
Несколько лет назад они в Лейпциге вместе слушали эту оперу в постановке дрезденской гастрольной труппы.
— Когда-нибудь потом, — уклонился он и вспомнил, как глубоко переживала впечатлительная сестренка рассказанную в музыке трагедию любви и смерти.
Сара зажмурилась, в избытке чувств прижав руки к груди:
— О, я вижу тебя в роли Тристана, Хаим! В длинной накидке, с мечом в руке, ты такой красивый! Хаим, ты непременно попадешь в лучший состав!
— Тристан — это тенор, Сара, а моему баритону больше подойдет Курвенал.
— Оруженосец? — фыркнула девочка. — Но ты же сам говорил, что будешь универсальным певцом!
— Ну, может, буду…
Хаим смущенно хмыкнул. Ему, оскорбленному неверием матери в его певческий дар, тоже очень хотелось так думать.
Как было обещано, Сара торжественно передала родителям радостную новость и, несмотря на то что сообщение опережало действительность, дала волю разыгравшемуся воображению. Руководители студии, по ее словам, вроде бы сочли брата восходящей оперной звездой. «Вроде бы» не позволяло, в случае чего, уличить ее во вранье: вроде бы — да, вроде бы — нет…
Маленькая лгунья рассчитала верно: матушка отнеслась к лукавому слову без внимания — ее огорошил очередной успех сына. Строптивость Хаима оказалась сильнее домашней оппозиции и вызвала невольное уважение.
Матушка Гене сдалась. «Ицек, пожалуй, прав, — сломленно вздыхая, размышляла она теперь. — Нет ничего зазорного в творческой профессии. Все зависит от человека, а опера — самый благородный вид из всех сомнительных видов искусств… Если у мальчика дар, нельзя наступать на горло песне».
Сын отправился в Каунасскую консерваторию на подготовительные экзаменационные курсы.
1 Сметона Антанас (1874–1944) — государственный деятель, один из идеологов литовского нацизма, президент Литовской Республики (1926–1940).
2 Курши — древнее племя, населявшее побережье Балтийского моря. Как отдельная этническая группа упоминается до конца XVI века.
3 До того, как снова стать Клайпедой, город семь веков носил название Мемель (по немецкому названию реки Неман).
4 В 1919 году по Версальскому договору Мемельский край был отторгнут от Германии. В 1923-м, после захвата края Литвой, Лига Наций согласилась передать его Литовской Республике, оговорив предоставление автономии. Каунас в то время был столицей Литвы.
5 Трейфа — запрещенная Торой некошерная пища.
6 Бернгард Келлерман — немецкий писатель (1879–1951), автор романов, призывающих к демократическому преобразованию.
Мира Дэй. Мистер Вуду и дни недели
- Мира Дэй. Мистер Вуду и дни недели. — М.: Livebook, 2014. — 240 с.
Практически каждый абзац поэтичной истории российского автора Миры Дэй о простом человеке начинается словами «Мистер Вуду…». Ограничение 16+ свидетельствует о том, что книга предназначена достаточно зрелым читателям. На деле только тем, кто любит трогательные сюжеты о возможности кардинальных перемен в жизни, а также наслаждается стилем, характерным пусть грамотному, но подростку.
Вторник
Предисловие ко Вторнику
Я начинаю истории про Мистера Вуду со вторника, потому что понедельник — уж слишком тяжелый день для того, чтобы начинать с него неделю. По понедельникам у всех вокруг столько всевозможных собственных дел и обязанностей! Кто-то начинает с понедельника новую жизнь, кто-то садится на диету, кто-то завязывает с дурными привычками. А еще ведь в понедельник приходится первый раз после выходных идти в школу, на работу или в институт! В общем, о том чтобы начинать в этот день что-нибудь еще новое, тем более такую важную вещь, как неделя, даже думать не хочется.
Представьте себе, если бы вы были неделей и вас спросили бы: «Дорогая неделя, с какого дня ты предпочла бы начинаться?» Вы, конечно же, ответили бы: «Только не с понедельника!» Вот и моя история решительно отказалась начаться с понедельника, как бы правильно, прилично или даже единственно верно это ни выглядело со стороны.
Утро Мистера Вуду
Как-то во вторник утром Пожилая Миссис Вуду с волосами белыми и мягкими, как буклированная пряжа, как обычно поставила на стол пачку хлопьев и молоко для Маленького Мистера Вуду и яичницу с беконом и тосты для большого Мистера Вуду.
Мистер Вуду любил плотно позавтракать. По утрам он обычно бывал весел и бодр, напевал, приплясывал и комментировал то, что увидел в газете, хрустя тостом и запивая его молоком. Его соседа, продавца подержанных автомобилей, и сову мистера Леклерка это немного раздражало, но Мистер Вуду был такой милый, что он почти никогда не жаловался. Они даже иногда сидели вместе на веранде мистера Леклерка и говорили о чем-нибудь необременительном — погоде, ценах на сигары и том, что Мистеру Вуду уже давно нравится хорошенькая мисс Дюмон, которая торгует газетами в киоске напротив супермаркета. Мистеру Леклерку мисс Дюмон не нравилась. Ему вообще мало кто нравился, такой уж он был человек.
Мистер Вуду всегда пил за завтраком молоко. Он вообще любил молоко, особенно на завтрак. Это не мешало ему днем пить кофе, а по вечерам или в холодную погоду опрокидывать пару стаканчиков рома и выкуривать сигару. Мистер Вуду был разносторонним человеком. А вот Маленький Мистер Вуду разносторонним человеком пока не был, хотя для своих восьми лет был вполне смышленым. Но толка в настоящих сигарах и черном роме он, конечно, еще не понимал.
А в коробках от сигар он хранил своих солдатиков, и поэтому солдатики Маленького Мистера Вуду всегда приятно пахли табачным листом. Это даже однажды помогло Маленькому Мистеру Вуду, когда Билли Шеннон попытался присвоить одного из его спецназовцев, но сегодня я не буду рассказывать вам эту историю.
Позавтракав, Маленький Мистер Вуду пошел по своим делам, а большой Мистер Вуду — по своим. Делами Маленького Мистера Вуду были математика и диктант по французскому, а делами большого Мистера Вуду — прогулка по окрестностям и шутливые разговоры с мисс Дюмон. А еще Пожилая Миссис Вуду дала ему список того, что нужно купить в супермаркете. Мистер Вуду ушел и долго не возвращался, а когда наконец вернулся, выяснилось, что большое ведерко мороженого, которое он купил, уже почти растаяло, хотя все-таки еще не совсем.
Мистер Вуду разложил покупки в холодильнике и вынул из кармана хорошенькую маленькую куколку, которую купил в магазинчике сувениров ниже по улице. Куколка была чем-то немного похожа на мисс Дюмон. Мистер Вуду поднялся в свою комнату, налил себе стаканчик и приготовился было уже поиграть в куклы в свое удовольствие, когда радио вдруг заговорило с Мистером Вуду суровым голосом и сказало, что кто-то опять собирается ограбить магазинчик мистера Хо. Мистер Хо был владельцем магазинчика китайских продуктов и приятелем Мистера Вуду. А вот китайцем мистер Хо не был, но разумно считал, что если уж ты владеешь магазинчиком китайских продуктов, то фамилия Сантана немного выбивается из общего стиля. Мистер Вуду вздохнул и осуждающе посмотрел на радио, но если оно даже и говорило гадости специально, то признаваться не собиралось. От радио вообще мало чего дождешься, кроме дурных новостей и прогноза погоды. А прогнозами погоды Мистер Вуду обычно брезговал.
Мистер Вуду посадил кукол обратно на полку и собрался пойти и посмотреть, что происходит. Для этого он надел Костюм и Цилиндр, взял трость и шляпу, положил в карман небольшую фляжку с ромом (просто на всякий случай), кусок мела (вообще-то, это был мелок Пожилой Миссис Вуду от тараканов) и несколько своих любимых джу-джу* и вышел на улицу. На улице, как это часто бывает во вторник, было очень жарко, и все ходили в шлепанцах и панамах, с носами, намазанными кремом. Прохожие даже иногда оглядывались на Мистера Вуду, такой он был импозантный, в цилиндре и с тростью (а надо вам сказать, что трость у Мистера Вуду была совершенно необыкновенная — тяжелая, длинная, с железной пяткой и очень твердым характером). Мистер Вуду вежливо кланялся прохожим и приподнимал цилиндр, а все прохожие кланялись ему, если только они не были туристами из Айовы**, всем известно, что туристы из Айовы никогда никому не кланяются! Так, вежливо раскланиваясь со всеми знакомыми и постукивая тростью, Мистер Вуду шел, шел и шел, пока не пришел почти что к самому магазинчику мистера Хо.
Мистеру Хо было жарко и неприятно, он ужасно не любил, когда его грабят. А еще он уже некоторое время держал руки высоко поднятыми и начал уставать. Поэтому мистер Хо очень обрадовался Мистеру Вуду и даже чуть-чуть повеселел, хотя руки все равно не опустил, он ведь давно владел магазинчиком и хорошо знал, что всегда надо держать руки высоко поднятыми, когда тебя грабят, — это ведь что-то вроде традиции, а традиции не стоит нарушать почем зря. Мистер Вуду решил, что ему тоже пора поднять руки, раз уж при ограблении так принято. И вот, когда Мистер Вуду стал поднимать руки, его красивая длинная и прочная трость пребольно стукнула железной пяткой грабителя в самый подбородок. А ведь если стукнуть человека тростью с железной пяткой в самый подбородок, он сразу перестает думать о том, как наставлять на кого-то пистолет, а начинает думать о том, как ему больно. Тут трость Мистера Вуду снова подпрыгнула и стукнула грабителя по пальцам, а потом еще раз — по лбу. Это была очень длинная и тяжелая трость, и к тому же обладала чрезвычайно твердым характером!
Мистер Вуду очень порадовался, что у него такая твердая и прочная трость, а грабитель удивился и испугался. И к тому же, у него сразу стало болеть в разных местах. Это ведь был совсем неопытный грабитель, и в грабительских делах он еще не очень хорошо разбирался! Тут мистер Хо достал из-под прилавка бейсбольную биту, которая, конечно, была не такая элегантная, как трость Мистера Вуду, но зато почти такая же прочная и твердая, и пребольно стукнул второго грабителя, а Мистер Вуду подставил ему подножку. Это, конечно, был нечестный прием, но ведь нельзя рассчитывать, что все будут вести себя с тобой честно, когда идешь грабить магазин?
Грабители упали друг на друга и даже немного перепутались руками и ногами, Мистер Вуду еще пару раз стукнул их тростью по тому месту, на котором обычно сидят, а мистер Хо очень сердито показал им свою бейсбольную биту. Поэтому грабители подумали и решили, что лучше они пока еще полежат перепутанные, например, пока не приедет на своей машине офицер Джеффер- сон и не спасет их, и только вращали глазами и ругались. Мистер Вуду даже немного им позавидовал, так у них хорошо и от души получалось ругаться. Тут все они немножко подождали, а потом приехал офицер Джефферсон в машине с сиреной и красивой мигалкой.
Офицер Джефферсон поблагодарил Мистера Вуду за помощь и повез грабителей в тюрьму учиться грабительским премудростям. Мистер Вуду и мистер Хо выкурили по самокрутке с лучшей лечебной травой мистера Хо, поболтали о том о сем, и Мистер Вуду совсем уже было отправился домой, но тут ему подумалось, что уж очень жарко даже для вторника. Поэтому, хотя ему и было не совсем по дороге (а точнее говоря, совсем даже не по дороге), Мистер Вуду отправился на Стэйт*** и немного там погулял, как раз достаточно, чтобы нагулять аппетит и небольшой дождик. А потом сел на трамвай и поехал домой.
Проходя мимо супермаркета, Мистер Вуду снова задержался, чтобы поболтать с хорошенькой мисс Дюмон, а потом из школы пришел Маленький Мистер Вуду, и они вдвоем отправились на рыбалку, потому что дождик получился просто отличный и очень подходящий для таких занятий.
* Джу-джу — магические амулеты вроде бус или небольших мешочков, использующиеся в вудуизме. По принципу построения джу-джу больше всего напоминают детские секретики, только их не закапывают в саду под клумбой, а носят с собой в кармане, что лично я считаю гораздо более удобным и интересным.
** Поверьте мне, я тоже понятия не имею, чем Мистеру Вуду не угодили туристы из Айовы. На мой взгляд, они, как правило, вполне милые и симпатичные люди.
*** Стэйт — улица в Новом Орлеане, засаженная красивыми зелеными деревьями. Почему Мистер Вуду гулял по Стэйт, можно прочитать в четверговой истории про Мистера Вуду и Прогноз Погоды.