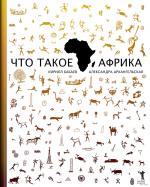- Школа жизни. Честная книга: любовь — друзья — учителя — жесть. / Сост. и вступ. ст. Дмитрий Быков. — М.: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. — 507 c.
Попытка реконструкции школьных времен довольно мучительна, но эти времена есть за что благодарить. Ведь лучший способ разобраться в себе нынешних — вспомнить себя тогдашних. Сборник рассказов об отрочестве школьников шестидесятых—девяностых годов — новый проект серии «Народная книга». Откройте его, и станет понятно, почему та генерация почти все сдала и все-таки удержалась на краю пропасти.
Владимир Неробеев
ЗАГУБЛЕННЫЙ ТАЛАНТ, ИЛИ О ВРЕДЕ КУРЕНИЯБлагодатны наши края воронежские! Чер-но-зе-ем! У нас издавна говорят: весной оглоблю
в землю воткнул, осенью — телега выросла. И с духовностью и талантами все в порядке! Вспомните
того же Митрофана Пятницкого: свой знаменитый
хор он собирал в нашей деревне. Да у нас в каждом
дворе поют. Говорок певучий, поэтический к этому располагает. Вот примерно так звучит разговор
мужа с женой ночью, спросонок:— Манькя-яя, глянькя-яя, штой-та шуршить? Не
сынок ли Федя на машине к нам едя-яя?— Будя табе! Скажешь тожа-аа… Эт вить мышонок
твой ботинок гложа-аа.Очень ладный говорок. Оттого, наверное, у нас
стишок какой или частушку сочинить проще простого: был бы повод, хотя бы махонькая зацепка.Как-то мой дядя с приятелем (они тогда еще
парнями были) под семиструнку репетировали
частушки для концерта художественной самодеятельности. Репетируют, а по радио в известиях передают: «В Советском Союзе запущен спутник с собакой на борту». Петька Поп, дядин приятель, тут
же подхватил:— До чего дошла наука:
В небесах летает сука!В общем, вы поняли, в каких краях я родился: родина Кольцова, Никитина, Тургенева, Бунина. Куда
ни кинь — сплошные таланты. Куда ни плюнь — попадешь в поэта либо в композитора. Как не крути,
даже если и не хочешь, — ты обречен быть талантом.
Лично мне жизнь сулила быть знаменитым поэтом,
но одна закавыка помешала.Уже в начальных классах (а было это в начале далеких пятидесятых) я стал сочинять стихи. Сочинил как-то, переписал их на чистый лист и решил
послать в «Пионерскую правду». Послать-то можно,
только сначала кто бы ошибки в них исправил: грамотей-то я никудышный (до сих пор). Вот на перемене шмыгнул в кабинет директора.— Стихи!.. Это хорошо, — одобрил меня Аким Григорьевич, директор наш. — Стоящее дело! Это лучше, чем целыми днями бить баклуши.
Помолчав немного, читая стихи, добавил:
— Иди, я проверю ошибки и принесу.
На уроке математики он вошел в наш класс. Видать,
судьба так распорядилась, что речь о моих стихах
зашла именно на математике. Перед этим уроком на
большой перемене со мной произошел конфуз, о котором узнаете чуть позже.Как только Аким Григорьевич вошел в наш класс,
у меня где-то под ложечкой сразу похолодело, словно я мороженного переел. Нутром почувствовал: эх,
не ко времени я затеял дело со стихами! Нужно было
денек-другой погодить. Говорить о моих стихах на
математике при учителе Василь Петровиче?! У этого
человека не язык, а бритва — не почувствуешь, как
обреет под ноль (хвать, хвать, а ты уже лысый!). Нет,
не ко времени я со своими стихами.— Ребятки, — обратился к нам Аким Григорьевич,
жестом руки велев нам садиться. — Я всегда считал,
что вы замечательные люди… — Надо сказать, что
директор наш был романтиком, в своих речах любил «подъезжать» издалека. — Не знаю, кто кем из
вас станет, но уже сейчас некоторые сидящие среди
вас… — И так далее, и тому подобное…И прочитал стихи, не называя автора. Сказал по
поводу газеты. В классе воцарилась тишина. Василь
Петрович, глядя на директора немигающим взглядом, от удивления деревянный циркуль уронил на
пол. Вскоре ребята оживились, кто-то даже захлопал в ладоши, стали оборачиваться друг на друга,
искать глазами, кто бы мог написать эти стихи. Под
одобряющие голоса класса Аким Григорьевич назвал-таки автора, то есть меня. Последние слова будто электрическим током выпрямили сутулую фигуру Василь Петровича. Он изменился в лице, подошел
к директору и взял листок со стихами. Он не читал
их, а медленно и основательно обнюхивал каждый
уголок бумаги, вертел в руках так и эдак и снова обнюхивал. Поведение учителя математики заинтриговало ребят. Директор же застыл в немой позе.— Нет! — отрицательно покачав головой, наконец произнес Василь Петрович. — Эти стихи… — нюххх-нюххх… — не напечатают… — нюххх-нюххх… — в газете…
— Почему? — удивился директор, забрал у Василь
Петровича стихи и тоже стал принюхиваться к бумаге. А учитель математики — как всегда в таких случаях, чтобы скрыть эмоции на лице, — отвернулся
к доске и стал чертить циркулем фигуры. Мол, моя
хата с краю, ничего не знаю…— Почему? — недоумевая, повторил Аким Григорьевич.
Ученики, как галчата, рты пооткрывали: ничегошеньки не понимают. Больше всех, конечно, переживал я… И не только по поводу стихов.
Василь Петрович, выдержав актерскую паузу
столько, сколько этого требовали обстоятельства,
быстро метнулся от доски к столу.— Да потому что вот! — Он достал из своего портфеля пачку папирос «Север» и швырнул ее на журнал. Все, кроме директора, знали, что это моя пачка,
только что на перемене конфискованная Василь Петровичем. Пачка новенькая, не мятая: всего-то одну
папироску удалось мне выкурить из нее. Глядя на
нее, я глотал слюнки, а учитель математики резал
правду-матку:— Да потому, что от его стихов за версту несет куревом.
При этих словах директор сразу принял сторону
учителя, начал поддакивать ему, для убедительности приложился еще раз носом к листу бумаги. За
партой кто-то ехидно хихикнул в кулачок, а Василь
Петровичу того и нужно было. Он продолжал разносить в пух и прах юное дарование:— Что ж там, в газете, дураки, что ли, сидят? Сразу
догадаются, что автор этих стихов (кстати, недурственных) курит с пяти лет… Посмотрите на него!
Он уже позеленел от табака! Его впору самого засушить под навесом и измельчить на махорку!И пошло-поехало! То прямой дорогой, то пересеченной местностью. Укатал математик лирика
вдрызг!Аким Григорьевич был добрее. Старался притушить пожар страстей и сгладить резкость упреков.
Даже все-таки посоветовал послать стихи в «Пионерскую правду».— Может, и напечатают, — подмигнул он мне одобряюще.
Правда, однако, оказалась на стороне учителя математики: стихи мои не опубликовали, хотя ответ
из газеты пришел. В нем ничего не говорилось по
поводу курения, как, впрочем, и о качестве стихов.
Витиеватым тоном литературный сотрудник газеты Моткова (инициалы, к сожалению, запамятовал)
намекала мне показывать во всем пример другим
ребятишкам, к чему, собственно говоря, призывал
и Василь Петрович.
Рубрика: Отрывки
Грэм Джойс. Как бы волшебная сказка
- Грэм Джойс. Как бы волшебная сказка / Пер. с англ. В Минушина. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. — 352 с.
Мастер британского магического реализма Грэм Джойс написал роман о проницаемой границе между реальностью и параллельным миром, временем и безвременьем. Девочка-подросток Тара Мартин ушла гулять в весенний лес и пропала без вести. За это время ее родители стареют, брат женится, а друзья забывают о случившемся событии. Через двадцать лет Тара возвращается, не постарев ни на один день и рассказывая такие истории, которые иначе как сказками не назовешь.
1
«Но духи мы совсем другого рода». Оберон, царь теней.
Уильям Шекспир
Есть в самом сердце Англии место, где все не так, как всюду. То есть там древние горы вырываются из земных глубин на поверхность с мощью океанских волн или исполинских морских чудищ, всплывающих за глотком воздуха. Одни говорят, земля там еще должна успокоиться, что она продолжает вздыматься и исторгать облака испарений и из этих облаков льются истории. Другие уверены, что старые вулканы давно мертвы и все их истории рассказаны.
Конечно, все зависит от того, кто рассказывает. Это всегда так. Я знаю одну историю и, хотя многое в ней пришлось домысливать, поведаю ее вам.
В тот год на Рождество Делл Мартин торчал у двойного пластикового окна своего опрятного домишки и, разглядывая свинцовые облака, пришел к заключению, что вот-вот может пойти снег, а ежели такое произойдет, то кому-то придется выплатить ему денежки. В самом начале года Делл положил перед букмекером две хрустящие купюры по двадцать фунтов, как делал каждый год в последние десять лет. Шансы каждый год слегка менялись, и на этот раз он определил возможность выигрыша как семь к одному.
Чтобы Рождество официально считалось белым — и тогда букмекеру придется заплатить, — надо было, чтобы между полуночью 24 декабря и полуночью 25-го в четырех определенных местах выпала хотя бы снежинка. Этими четырьмя местами были Лондон, Глазго, Кардифф и Манчестер. Не требовалось, чтобы снег летел густо или хрустел под ногами, даже необязательно, чтобы он лег на землю, и не имело значения, если он шел вперемешку с дождем. Достаточно было одной-единственной снежинки, упавшей и растаявшей, засвидетельствованной и запротоколированной.
Живя где-то между теми четырьмя громадными городами, Делл ни разу за те десять лет не выигрывал; не видел он и ни единой летящей снежинки на Рождество в его родном городке.
— Ты собираешься заняться гусем? — крикнула Мэри из кухни.
В этом году у них был гусь. После многих лет с индейкой на рождественский обед они пошли на замену, потому что перемена так же хороша, как отдых, и иногда отдых нужен даже от Рождества. Впрочем, стол был накрыт на двоих, как в прежние годы. Все как положено: хрустящая льняная скатерть, лучшие приборы. Два тяжелых хрустальных бокала, которые весь год хранились в коробке, задвинутой вглубь кухонного буфета.
Разделка птицы всегда была обязанностью Делла, и он разделывал ее мастерски. Это было целое искусство. Он отлично разделывал, когда дети были маленькие, и отлично разделывал сейчас, когда едоков было только он да Мэри. Довольно потирая руки, он вошел в кухню, жаркую и полную пара от кипящих кастрюль. Жареный гусь лежал на большом сервировочном блюде, накрытый серебристой фольгой. Делл вынул нож из подставки для ножей и наклонил его к свету из окна.
— Малость потемнело на улице, — сказал он. — Может, снег пойдет.
Мэри отбрасывала на сито сварившиеся овощи.
— Может, снег пойдет? Ты же не поставил деньги на это? Или все же поставил?
— Да нет! — Он смахнул фольгу с гуся и развернул блюдо поудобней. — Только думал поставить.
Мэри постучала ситом о край раковины.
— Похоже, что пойдет впервые за десять лет. Тарелки греются в духовке. Достать их?
На каждую из тарелок легло по мясистой гусиной ноге и по два аккуратных ломтя хлеба. Еще был жареный картофель и четыре вида овощей, исходящие паром на отдельных блюдах. Попыхивал соусник, где в клюквенном соусе томились колбаски, обернутые ветчиной.
— В этом году мне захотелось ай-тальянского, — сказал Делл, наливая Мэри, а потом себе рубиново-красное вино.
«И» в слове «итальянское» у него звучало как «ай» в «примечай». — Ай-тальянское. Надеюсь, к гусю подойдет.— Уверена, прекрасно подойдет.
— Думаю, нужно какое-то разнообразие. Не все ж пить одно французское. Хотя я б легко мог взять южноафриканское. Там продавалось южноафриканское. В супермаркете.
— Ну что, отпробуем? — сказала Мэри, протягивая бокал, чтобы чокнуться. — Будем здоровы!
— Будем!
Этот момент провозглашения тоста, этот нежный звон хрусталя Делл ненавидел больше всего.
Боялся и терпеть не мог. Потому что, даже если нечего было провозглашать и даже если с широкой улыбкой подавалась великолепнейшая еда и звоном бокалов управляла неподдельная любовь обеих сторон, всегда в момент этого ритуала что-то такое появлялось в глазах жены. Крохотная мгновенная искорка, острая как бритва, и он знал — лучше как можно быстрей завести разговор не важно о чем.
— Ну, как тебе ай-тальянское?
— Прекрасное. Великолепное. Отличный выбор.
— А то там была еще бутылка из Аргентины. Специальное предложение. И я едва не соблазнился.
— Аргентинское? Что ж, можем попробовать его в следующий раз.
— Но это тебе нравится?
— Замечательное. Чудесное. Теперь посмотрим, каков получился гусь.
Вино было единственной частью привычного рождественского стола, которая с течением лет поменялась. Когда дети были маленькие, он и Мэри довольствовались стаканом пива, может, большим бокалом лагера. Но теперь на Рождество вместо пива ставили вино. Сервировочные блюда добавились тоже недавно. Прежде все наваливалось на тарелки и относилось на стол — гора всего вперемешку в море соуса. Клюквенный соус был когда-то в диковинку. Когда дети были маленькие.
— Ну, как тебе гусь?
— Просто загляденье. И приготовлен отлично.
Щеки Мэри порозовели от удовольствия. После всех лет совместной жизни Делл еще был способен на это. Просто сказать верные слова.
— Знаешь что, Мэри? Все эти годы мы могли бы встречать Рождество гусем. Эй, глянь-ка в окно!
Мэри обернулась. Снаружи плавало несколько крохотных снежинок. Был первый день Рождества, и шел снег. Вот оно, наконец-то.
— Так ты все-таки сделал ставку, да?
Только Делл собрался ответить, как оба услышали легкий стук в наружную дверь. Обычно люди пользовались электрическим звонком, но сегодня кто-то стучал.
У Делла нож был в горчичнице.
— Кого это принесло в Рождество?
— Не представляю. Поздновато для гостей!
— Пойду посмотрю.
Делл встал, положил салфетку на стул. Затем направился в прихожую. Сквозь заиндевевшее стекло внутренней двери виднелся темный силуэт. Деллу пришлось снять короткую цепочку и отпереть внутреннюю дверь, прежде чем открыть внешнюю.
На крыльце стояла молодая женщина, лет, может, двадцати с небольшим, в темных очках, и смотрела на него. Сквозь темные стекла очков он различил широко расставленные немигающие глаза. На голове у нее была шерстяная шапочка в перуанском стиле, с ушами и кисточками. Кисточки напоминали ему колокольчики.
— Привет, милочка! — бодро проговорил Делл без враждебности. Все-таки Рождество.
Женщина, не отвечая на приветствие, пристально смотрела на него с робкой, почти испуганной, улыбкой на губах.
— С Рождеством, голубушка, чем могу помочь?
Женщина переступила с ноги на ногу, все так же не сводя
с него взгляда. Одета она была странно, похоже на хиппи. Она моргнула за темными стеклами очков, и ему почудилось в ней что-то знакомое. Затем ему пришло в голову, что, может быть, она собирает средства на благотворительные цели, и полез в карман.Наконец она заговорила. Сказала:
— Здравствуй, пап!
Мэри, подошедшая в этот момент, выглянула из-за его спины.
— Кто это тут? — спросила она.
Женщина перевела взгляд с Делла на Мэри. Мэри пристально вглядывалась в нее и увидела что-то знакомое в ее глазах за очками. Затем Мэри издала сдавленный стон и потеряла сознание. Делл оступился и успел только смягчить ее падение. Бесчувственное тело Мэри с тихим вздохом глухо рухнуло на кафельный пол у порога.
На другой стороне Чарнвудского леса, в ветхом домишке у дороги на Куорн, Питер Мартин загружал посудомойку. Рождественский обед закончился два часа назад, и на голове Питера еще красовалась вырезанная из рождественской хлопушки ядовито-красная корона, о которой он совсем забыл. Его жена Женевьева лежала с босыми ногами на диване, измученная обязанностью управлять семейной рождественской
кутерьмой в доме с рассеянным мужем, четырьмя маленькими детьми, двумя собаками, кобылой в загоне, кроликом и морской свинкой плюс неведомым количеством настырных мышей и крыс, все время изобретавших новые пути вторжения на кухню. Во многих отношениях это был дом, постоянно находившийся в состоянии осады.Питер был кротким рыжеволосым увальнем. Поднявшись утром в начале седьмого, он, в одних носках, двигался по дому, слегка покачиваясь, как моряк на берегу, но, несмотря на широченную грудь, была в нем некая стержневая устойчивость, как в мачте старого корабля, вытесанной из цельного ствола. Он очень жалел, что им пришлось садиться за рождественский обед без его матери и отца. Они, конечно, позвали Делла и Мэри, но произошел нелепый спор о времени, когда подавать обед. Женевьева хотела сесть за стол ровно в час, чтобы позднее днем всем одеться потеплее и поехать в Брэдгейт-парк или на Бикон-Хилл проветриться. Мэри и Делл предпочитали сесть за стол позже, чтобы никуда не торопиться, и, разумеется, не раньше трех; они уже достаточно нагулялись под пронизывающим ветром. На самом деле на улице было не так уж промозгло. В результате — тупик, и испорченное настроение, и рождественский обед порознь, каковым решением не была довольна ни одна из сторон.
Так или иначе, у Питера и Женевьевы была пятнадцатилетняя дочь, сын тринадцати лет и еще две девочки, семи и пяти лет. Всякий раз, когда они приходили к Мэри и Деллу, дети оккупировали дом, как свирепая армия. Всегда было куда проще и спокойней оставаться одним, как и вышло у них в этом году.
Меж тем Питер на Рождество подарил своему тринадцатилетнему Джеку духовое ружье, и сейчас Джек во дворе подстерегал мышь или крысу. Он устроился на старом драном диване, который его отец еще не оттащил на свалку. Как седой траппер с фронтира у своей хижины, он сидел, уперев приклад в бедро, а ствол направив в небо.
Питер высунул голову из выходящей во двор кухонной двери.
— Не верти этой чертовой штукой туда-сюда. Если зацепишь кого, знай: я тебе башку оторву, — предупредил Питер.
— Не бойся, пап, моих чертовых сестренок я не подстрелю.
— И не выражайся, ладно?
— Ладно.
— И не верти туда-сюда.
Питер снова скрылся в доме и продолжил собирать грязную посуду. Он прошел в столовую, где царил полный кавардак, и замер в растерянности, не зная, что делать с останками индейки, когда зазвонил телефон. Это был Делл.
— Как дела, пап? Я как раз собирался сам тебе звонить. Когда ребятня выстроится в очередь, чтобы поздравить с Рождеством, и все такое.
— Неважно, Пит. Лучше приезжай к нам.
— Что? Мы же как раз собирались выйти погулять.
— Все равно приезжай. Твоя сестра здесь.
— Что?
У Питера голова закружилась. Комната плыла перед глазами.
— Что ты несешь?
— Только что объявилась.
— Быть не может.
— Приезжай, Пит. Твоей матери плохо.
— Пап, что, черт возьми, происходит?
— Пожалуйста, сынок, приезжай.
Такого голоса он у отца никогда не слышал. Делл явно готов был расплакаться.
— Можешь ты мне просто сказать, что случилось?
— Ничего сказать не могу, потому что сам ничего не понимаю. Твоя мать упала в обморок. Сильно ударилась.
— Хорошо. Еду.
Питер положил трубку на тихо щелкнувший рычаг и рухнул на жесткий стул, стоявший у телефона. Он смотрел на
еще не убранный после рождественского обеда стол. На валявшиеся среди грязной посуды драные хлопушки, пластмассовые игрушки и бумажные короны. Неожиданно он вспомнил, что все еще ходит с бумажной короной на голове. Снял ее и продолжал сидеть, держа ее между колен.Наконец он встал и двинулся через гостиную, слегка покачиваясь на ходу. В гостиной на ковре, возле кривобокой елки, расположились три его дочери и под негромко работающий телевизор играли с куклами и кубиками лего. В камине уютно горел уголь, и две собаки-ищейки лежали на спине перед огнем, подняв лапы и скалясь в ухмылке собачьего удовольствия. Женевьева дремала на диване.
Пит вернулся на кухню и налил воды в электрический чайник. Он стоял, глядя, как чайник закипает, и тот вскипел куда быстрей, чем улеглась в голове услышанная новость. Он налил чашку Женевьеве, себе и задумчиво смотрел, как темнеет вода от чайного пакетика. Пулька из духового ружья, ударившая в стену снаружи, заставила его наконец очнуться.
Взяв чашки, он прошел в гостиную и опустился на колени перед диваном, затем наклонился к Женевьеве и разбудил ее поцелуем. Она, моргая, посмотрела на него. Щеки у нее раскраснелись.
— Ты мой дорогой! — сонно проговорила она, принимая чашку. — Кажется, я слышала, телефон звонил.
— Ты правильно слышала.
— Кто звонил?
— Отец.
— Они с нами все еще разговаривают?
— Да. Мне нужно съездить к ним.
— Поедешь? Что-то не так?
— Пфф, — выдохнул Питер. — Тара вернулась.
Женевьева секунду смотрела на Питера, словно не знала,
кто такая Тара. Она никогда не видела Тару, но много слышала о ней. Потом насмешливо покачала головой, нахмурила брови.— Да, — сказал Питер. — Правда вернулась.
— Кто такая Тара? — спросила Эмбер, их семилетняя дочь.
— Это невозможно, — сказала Женевьева. — Ты не находишь?
— Кто такая Тара? — спросила Зои, их старшая дочь.
— Мне надо ехать.
— Может, мы все поедем?
— Незачем ехать всем.
— Кто такая Тара, черт возьми? — снова спросила Эмбер.
— Сестра твоего отца.
— У папы есть сестра? Никогда не знала.
— Мы никогда о ней не говорим, — объяснил Питер.
— А почему мы о ней не говорим? — спросила Джози, их младшенькая. — Я говорю о своих сестричках. Все время.
— Мне пора, — вздохнул Питер. — Бензина в баке достаточно?
— Папа оставляет нас одних в Рождество? — недовольно спросила Эмбер.
Женевьева встала с дивана и сморщилась от боли, наступив босой ногой на пластмассовый кубик лего.
— Он ненадолго, — ответила она дочери, вышла за Питером в прихожую и ждала, пока он не обуется и не наденет куртку.
— Ненадолго?
— Да.
— Обнять меня не хочешь?
— Хочу. Нет, — сказал Питер. — Не сейчас.
В стену снаружи снова ударила пулька из духового ружья.
Александр Снегирев. Вера
- Александр Снегирев. Вера. — М.: Эксмо, 2015. — 288 с.
В центре повествования — судьба Веры, типичная для большинства российских женщин, пытающихся найти свое счастье среди измельчавшего мужского племени. Избранники ее — один хуже другого. А потребность стать матерью сильнее с каждым днем. Может ли не сломаться Вера под натиском жестоких обстоятельств? Роман-метафора Александра Снегирева, финалиста премии «Нацбест» 2015 года, ставит перед читателями больные вопросы.
<…> Будущей матери шёл пятый десяток.
Доктора констатировали благополучное вынашивание, но роды обещали нервные — возраст, а кроме того двойня.
Прогнозы сбылись — во время схваток акушер сообщил покрытой испариной, хрипящей проклятия и молитвы роженице, что обоих спасти не удастся, и предложил выбрать.
Видимо, он испытывал несвойственное волнение и не подумал о нереализуемости своего предложения и некотором даже издевательском его тоне.
Хапая воздух ртом, она передала право выбора ему, и он оставил девочку, хотя вторая тоже была девочка, но она ему не приглянулась, впрочем, он и не вглядывался.
Вернувшись со смены рано утром, акушер выпил не обычную свою рюмку, а все оставшиеся в бутылке полтора гранёных, и сын, поднявшийся в школу, его застукал. В конечном счёте, он никого не выбирал, просто пуповины перепутались, и сестрёнка задушила сестрёнку, а он только извлёк трёхкилограммовую победительницу утробного противостояния.
Назвали Верой.
После родов мать прежнюю форму так и не обрела.
Не телом, но душой.
С телом всё было в порядке, а вот непрошибаемый, казалось, рассудок пошатнулся.
Она винила новорожденную в гибели сестрички, не брала на руки, отказывалась даже видеть, не то что давать прикладываться к одной из своих прелестных грудей.
В роддоме Вера питалась родовитой таджичкой с неправильным положением плода, которую муж привёз рожать под присмотром центровых врачей и чья беременность в итоге разрешилась благополучно.
Та молоком исходила и с радостью сцеживала излишки в орущую Верину глотку.
Жена Сулеймана-Василия была твёрдо уверена — перед ней маленькая убийца, лишившая её дочери, которая наверняка была бы красивее, ласковее, умнее. Как только ни пытался молодой отец убедить её в несостоятельности претензий, каких только евангельских притч ни приводил.
После нескольких лет взвинченной жизни Сулейман-Василий не придумал ничего лучше, как предпринять ещё одну попытку.
Новый ребёнок должен был избавить жену от душевных страданий, а дочь от несправедливых нападок.
Поистине животная, от праматери Сары доставшаяся фертильность позволила слабо сопротивляющейся супруге зачать года за четыре до полувекового юбилея.
Вере исполнилось пять, и появление у мамы живота волновало.
Мама перестала тиранить.
Мама как бы заснула.
Однажды живот совсем вырос, мама ахнула и сосредоточилась.
А папа забегал.
И стал звонить по телефону.
Потом они уехали, попросив соседку присмотреть за Эстер и Верой.
В ту ночь Вера спала урывками. Задрёмывала и просыпалась от непривычной духоты.
Отец вернулся рано, Вера вскочила с кровати и выбежала в коридор. Отец выглядел так, будто на него взвалили рояль. В прошлом году на третий этаж привезли старый «беккер», Вера видела, как мужики корячились на лестнице.
Соседка поинтересовалась, хотя и без всяких вопросов было ясно.
Мама отсутствовала до воскресенья, а когда вернулась, лицо её было размазанным, а живот пропал.
Подружка в детском саду стала расспрашивать.
Вера сказала, что всё хорошо.
Как назвали?
Верочкой.
Так не бывает.
Бывает.
Подружка наябедничала воспитательнице. Вера врёт.
Вера продолжала настаивать, что новорожденную зовут так же, как и её, и от неё отстали.
Воспитательница не видела причин сомневаться в словах девочки. Кто их знает, этих религиозных. Вера сама поверила в сестру, переименовала в её честь куклу.
Детсад располагался во дворе, Вера ходила туда одна. Недели через две, вечером, после смены, когда она, зашнуровав ботиночки, надела пальтишко и поздоровавшись с умилёнными её самостоятельностью чужими взрослыми, потянула дверь, та вдруг сильно подалась на неё, обнаружив за собой мать, неожиданно решившую встретить дочурку.
Вера хотела было поскорее мать увести, но воспитательница прицепилась с доброжелательными назойливыми расспросами.
Что да как. Поздравляю. Как самочувствие маленькой?
Не поняв сначала и осознав наконец суть подлога, мать принялась хлестать Веру по лицу теми самыми скрипучими коричневыми перчатками. Поволокла ревущую дочь за собой, толкнула дорогой в сугроб и предъявила дома едва живой.
Сулейман-Василий выслушал бессвязные вопли супруги, заглушаемые рёвом дочери, и попытался успокоить обеих валерьянкой и словами о прощении и милосердии.
Вскоре пришлось прибегнуть к ежедневному подмешиванию в еду и напитки жены сильного успокоительного, выписанного знакомым врачом из числа тайных христиан.
Вопреки седативному действию препарата те сонные чёрно-белые времена проходили для Веры бурно.
Если раньше мать винила её в смерти, едва ли не в убийстве сестры, то теперь вся её апатия и тоска переработались в невиданную злобу. Вера оказалась не только убийцей, но и больной, неуравновешенной, требующей лечения, мерзавкой и лгуньей.
Осенью, когда она вернулась из Ягодки, где проводила лето под присмотром состарившейся Катерины, матери втемяшилось, что дочь выбелила волосы. Сколько бы та ни уверяла, что кудряшки выгорели на солнце, мать не унималась.
Разразился скандал, в котором невольно принял участие и Сулейман-Василий.
Как любой по природе спокойный и выдержанный, он неожиданно проявил себя сумбурным разрушителем — схватил Веру за косички и под назидательное одобрение вконец обезумевшей супруги откромсал под корень.
О своих действиях он тотчас пожалел и позже вспоминал с отвращением. А Вера с того дня стала очень бояться отцовского гнева и вместе с тем, сама того не понимая, нуждалась в нём. Впервые ей явился Бог — беспощадный, иррациональный, настоящий.
Несколько последующих годов, под предлогом спасения малышки от пагубного украшательства самой себя, а заодно предупреждая опасность завшиветь, мать перед наступлением лета остригала Веру под ёжика.
А волосы продавала на парики.
В такие дни приходила краснощёкая жирная баба, сгребала пряди в мешочек и приговаривала:
— Хорошие волосы.
Волосы и в самом деле были хороши. Прямо как у матери, цвета перезревших зерновых, только у той с первыми родами потемнели. Забрала Вера у матери цвет.
В редкие моменты пробуждения инстинкта мать, укладывая Веру спать, рассказывала сказки.
Они имели сюжет весьма произвольный, но обладали одной неотъемлемой деталью — за стенами устроены тайные ходы и целые комнаты, в которых прячутся соглядатаи, днём и ночью они блюдут, дурное пресекают, а за добропорядочных граждан вступаются.
В вопросах веры мать проявляла поистине иудейский фанатизм. Октябрятский значок, знак сатаны, носить запрещала. Вступить в детскую организацию дочери не позволила, но Вера, скопив копеечки, купила себе звёздочку и тайно надевала, снося насмешки одноклассников.
Звезду с вьетнамской целебной мази, приобретшей в те годы большую популярность, мать тоже не терпела и соскребала, хоть та была и жёлтой. Крестообразную решётку слива в ванной выпилила, точнее, заставила мужа выпилить. Чтобы мыльная вода не оскверняла крест.
Сулейман-Василий, напротив, отличался мягкостью нрава и к маниакальному следованию догмам склонен не был. Если Вера уставала стоять службу, вёл её гулять, благо никто не препятствовал — супруга, ссылаясь на духоту, богослужения посещала редко. Это не мешало ей требовать отказа от празднования Нового года. К счастью, удалось найти компромисс — ёлку ставили к Рождеству, заполучая совершенно бесплатно. Сразу после первого числа Сулейман-Василий с Верой обходили ближайшие помойки, куда самые торопливые отпраздновавшие выносили попользованных, но всё ещё пригодных лесных красавиц.
Несмотря на столь экстравагантную окружающую атмосферу, Вера росла девочкой бойкой и любознательной. Маленькой любила вскочить на какого-нибудь дядю и требовать катания. Воцерковлённые университетские умники, члены художественных союзов, докладчики и священники из далёких углов империи, немногочисленные, сбившиеся в кучу подпольные верующие того времени, воссоединяющиеся на тайных собраниях, не отказывали Вере. Они напяливали её на свои жирные и тощие шеи и послушно скакали, предусмотрительно огибая люстры, чтобы не снести плафоном прелестную белобрысую головку.
Эта белобрысость подкупала и пленяла. Чернавок вокруг хватало, а вот деток-ангелков становилось всё меньше. Веру же тянуло к противоположностям. Негры с головами-одуванами, бровастые грузины, высовывающие носы из-за плодоовощных рыночных груд. Эти обязательно преподносили фруктик, и мать, хоть со странностями, всегда брала дочку на рынок, что позволяло отовариться почти не раскрывая кошелька.
Вера картавила.
Как тебя зовут?
Велочка.
Долго и безуспешно водили к логопеду.
«Л-л-л-л-л, л-л-л-л», — рычала Вера.
С тех пор во всём русском языке больше всего слов она знала из тех, что содержат рык.
Когда специалист готов был махнуть рукой, Вера, обнаружившая в ходе занятий недетское вовсе упорство, вдруг издала громовое рычание.
Логопед, задремавший было, очнулся и потребовал повторить.
И Вера в самое его дипломированное лицо зарычала и ещё долго рычала на все лады, пока не вышло положенное время.
Логопед так рад был этой нежданной уже победе, что позволил себе, впервые за тридцать с лишним лет практики, шалость — подговорил ребёнка не рассказывать сразу маме, а вечером устроить обоим родителям сюрприз, громко произнеся за столом:
— Сюрприз!
Вера, однако, и за ужином тайну не раскрыла. Дождавшись, когда родители заснут, пробралась мимо видавшего виды буфета в их комнату, прислушалась к дыханию и завопила: «Сюр-р-р-р-пл-л-л-из!»
Супруги вскочили в ужасе и, узнав, что не случилось ничего особенного, кроме того что восемнадцатая буква алфавита наконец покорена, успокоились и даже не очень удивились, чем немного Веру разочаровали.
Она ещё долго не могла уснуть, слыша доносящуюся сквозь стенку смутную возню, которую старики на радостях затеяли. Сюрприз взбудоражил инстинкты, и только комочек, нащупанный мужем на левой груди жены, омрачил ночь.
Вскоре подтвердилось, что неуёмная в чувствах дочь Эстер и танкиста смертна. И года не прошло, как её похоронили, причём только с одной, а именно с правой, из двух вызывавших некогда многочисленные восторги, округлостей.
Бойкие особы под предлогом помощи по хозяйству стали стремиться в дом овдовевшего Сулеймана-Василия. Помогали с Эстер, подлизывались к Вере.
Ману Джозеф. Серьезные мужчины
- Ману Джозеф. Серьезные мужчины / Пер. с англ. Ш. Мартыновой. — М.: Фантом Пресс, 2015. — 384 с.
Хлесткий, смешной и умный роман Ману Джозефа рассказывает об Индии и индийских мужчинах. В центре истории — Айян, представитель низшей касты, пробившийся в личные помощники блестящего ученого с мировым именем и несносным характером. Мечтая прославиться и разбогатеть, Айян готовит своего сына, отличающегося «вундеркиндскими» выходками, на место заносчивого шефа, а заодно пытается оживить свой угасающий брак.
Айян Мани прошел в невысокие изящные ворота Института и собрал волю в кулак: предстоит пережить
еще один день в этом приюте для великих умов. Он
помахал унылым охранникам в стеклянной будке, те
улыбнулись в ответ.— Беги давай, опаздываешь! — крикнул один и дружелюбно хмыкнул: — Большой Человек уже прибыл.
Айян никогда не понимал, почему это место так серьезно охраняется. В конце концов, здесь происходил
всего лишь поиск истины.Научно-исследовательский институт размещался
на десяти акрах холмистых газонов среди одиноких
древних деревьев. В центре участка стояло приземистое Г-образное здание, затаившее дыхание за закрытыми окнами. По обеим сторонам от него зеленел
тщательно подстриженный главный газон. Позади
прямоугольной части здания к сырым черным валунам
скатывался двор. А дальше было море.Здесь никогда не переоценивали вменяемость, а невменяемость никогда не путали с нездоровым умом.
Иногда на местных дорожках спокойные мужчины,
если им требовалась подходящая компания, разговаривали сами с собой. Здесь находили прибежище те, кто
желал провести всю жизнь, пытаясь понять, почему во
вселенной так мало лития, или отчего скорость света
такая, какая есть, или зачем гравитация — «такая слабая сила».Айяна преследовало неотвязное желание удрать
из этого дурдома. Тринадцать лет — перебор. Он уже
не мог выносить величие их призвания — того, как
они обсуждали, писать им «вселенную» с прописной
буквы или со строчной, и напыщенность, с которой
они, потратив горы общественных денег, провозглашали: «Человек по-прежнему ничего не знает. Ничего». И поддельное благородство, с каким скрывали
свой неизлечимый шовинизм и сообщали репортерам:
«Ученого-физика в конечном счете судят по его цитируемости. Ей необходимо постоянно публиковаться».
Они были надменны: втайне считали, что цель их величественна, и не сомневались, что в наши дни лишь
ученые имеют право быть философами. Однако наличные считали, как и все остальные. Послюнявленным указательным пальцем, с внезапной медитативной серьезностью.Хоть Айян и опоздал в то утро на работу, он все равно
неизбежно замер перед меловой доской на крыльце
главного корпуса. То был утренний ритуал, который
всегда утишал пламя у него в груди. «МЫСЛЬ ДНЯ», —
гласила доска нестираемой белой краской. А ниже размещалась цитата-однодневка, записанная мелом:Бог не играет в кости. — Альберт Эйнштейн Айян снял с доски тряпку и стер знаменитую цитату Эйнштейна, вырванную из контекста. Потом сделал
вид, что сверяется с бумажкой, — на случай, если кто-то смотрит. И вывел:То, что санскрит — лучший язык для компьютерного кода, — миф. Эти враки долгие годы распространяли индийцы-патриоты. — Билл Гейтс Билл Гейтс никогда такого не говорил. Иногда Айян
изобретал цитаты, оскорблявшие индийскую культуру — эту исключительно браминскую историю. Никто
не помнил, кто и когда именно дал Айяну задание записывать «Мысль дня». Но он выполнял его ежедневно,
исправно. Обычно запечатлевал подлинные цитаты.
Иногда развлекался.Он сел в лифт и поехал в тишине, бережно соблюдаемой
тремя сладостно благоухавшими пожилыми учеными, погруженными в свои глубокие дорогостоящие
мысли. Вышел на третьем этаже и прошагал почти беспредельным коридором, который здесь в шутку именовали «предельным». Вдоль коридора располагались
пронумерованные двери. За каждой сидел великий ум,
и в промежутках между разгадыванием тайн вселенной
кое-кто из них надеялся, что другой кое-кто помер. Сейчас
ситуация несколько накалялась. Назревала война. Здесь
она всем была известна как Незадача Исполинского уха.В дальнем конце коридора находилась дверь с табличкой
«Директор». За ней была просторная приемная — почти такая же, как вся квартира Айяна. Зевнув,
он уселся в уголок за монитором, тремя телефонными аппаратами и паранормальным факсом, который
вдруг оживился и таинственно зашептал исподтишка.
Напротив Айяна стоял потертый черный кожаный
диван — сейчас он пустовал, но вмятины долгих ожиданий не сходили с него никогда. Между столом и диваном пролегал короткий проход, он упирался в дверь,
объявлявшую о том, какой адский обитатель за ней
скрывается: «Арвинд Ачарья».Айян глянул на дверь без страха и набрал номер.
— Простите за опоздание, сэр, — сказал он. — Будут
ли указания? — Линия отрубилась, как и ожидалось.Айян положил трубку и спокойно принялся разглядывать пальцы. Трубки на всех трех телефонах на его
столе покоились на своих рычагах. Редкость. Обычно
одна была снята. Так происходило оттого, что он почти всегда являлся прежде Ачарьи, звонил по одному из
директорских телефонов отсюда и оставлял трубки
обоих телефонов слегка не на месте. Таким манером
Айян мог брать трубку, слушать разговоры в кабинете
Ачарьи и всегда иметь фору по части любых событий
в Институте, а значит — и во вселенной.Пришел слуга и заполнил приемную едва слышным
запахом пальмового сахара. Кое у кого из обслуги был
такой запах. На стол к Айяну бухнулась толстая пачка
бумаг.— Большому Человеку, — сказал холуй тихо, нерв-
но поглядывая на внутреннюю дверь.Айян быстро пролистал бумаги и хмыкнул. Очередной
эпический анализ космических наблюдений от
приглашенного исследователя. Этот пытался доказать,
что некий объект в глубоком космосе на самом деле —
белый карлик.— Что там, Мани? — спросил слуга с внезапным
любопытством. — Ты вообще понимаешь вот это все,
что к тебе на стол попадает?— Понимаю, друг мой, понимаю, — ответил Айян
и попытался измыслить объяснение. — Парень, который все это написал, пытается растолковать, что некий
предмет в космосе — разновидность звезды.— И все? — спросил холуй почти с досадой.
— Да, все. И у этой разновидности звезды есть название, — ответил Айян. — Белый карлик. — Холуй
хихикнул. — А через год, — зашептал Айян, — другой
парень скажет: «Нет-нет, это не белый карлик, а бурый». А еще через год кто-нибудь скажет: «Нет-нет, не
бурый карлик, да и вообще не звезда, а планета». И тог-
да они примутся спорить, это каменистая планета или
газовая и есть ли на ней вода. В этом вся потеха, дружище, вся потеха.Слуга прикрыл рот ладонью и снова хихикнул, отчасти от недостатка понимания. Но тут что-то вспомнил.
— Хочу тебе кой-чего показать, Мани. — Он залез
в карман и извлек банковскую карточку. — Сегодня получил, — сказал он и посмотрел на нее с нежностью. —
А все ты, Мани, — добавил он.Айян помог этому холую открыть банковский счет.
Он как-то ухитрялся повсюду заводить знакомства,
благодаря которым необходимость добывать всякие
трудные документы отменялась как по волшебству.
Айян склонился к облагодетельствованному и тихонько произнес:— Знаешь, что я проворачивал, когда только-только
появились банкоматы? Машина выплевывала наличные, а я забирал только те купюры, которые посередине.
А первую и последнюю оставлял. Это непростое искусство. Нужна сноровка. Практика. Потом машина заглатывала эти две оставшиеся бумажки, а запрограммирована была так, что в итоге транзакция не засчитывалась.
Банкомат выкидывал выписку, на которой значилось:
«Снято ноль рупий». Теперь-то автоматы поумнели.Холуя легко удивить — он покачал головой.
— Ты такой умный, Мани, — сказал он. — Будь у тебя предки, как у этих людей, ты бы сидел в собственном
кабинете, со своим секретарем.— Есть в жизни кое-что помасштабнее, — сказал
Айян. — Еще увидишь, как далеко я пойду.
Елена Скульская. Мраморный лебедь
- Елена Скульская. Мраморный лебедь: Детский роман. — М.: Время, 2015. — 288 с.
Роман Елены Скульской «Мраморный лебедь», прошедший в финал «Русского Букера» и отмеченный премией журнала «Звезда» за 2014 год, сплетён из множества сюжетных нитей. Послевоенное детство, карикатурно-мрачный Тартуский филфак, дружба с Довлатовым, сюрреалистические события, собственная трактовка великих произведений литературы — из этого складывается портрет эпохи и одновременно портрет писателя, чья жизнь неизбежно строится по законам его творчества.
КОСТЮМ СНЕЖИНКИ В кухне, за трубой, облепленной жиром мушиного глянца, живут тараканы. Если плеснуть хорошенько водой на
трубу, они выбегают и рассыпаются по всей стене — одни —
как семечки, другие — как сгнившие ядрышки орехов. Делать это запрещено и позорно, поэтому, когда мы это делаем,
то испытываем с Милкой — моей шестилетней ровесницей-соседкой — то же чувство, какое испытали раз, подведенные к окну полуподвала, где в низине нашего деревянного
дома с зажженным светом, выходящим на холодную изморозь двора, пьяный человек, плохо расстегнувшись, падал
в постель на жену. Ждали детей, но их долго не было, и мы
забыли.В соседнем доме жила с матерью наша общая подруга
Валя и считалась бедной. Моя мама устраивала для всего двора новогодние елки. Эти детские елки сохранились
в нашей семье до самой смерти отца; с шарадами, масками
и призами, призами за все, а мать Вали однажды истратила целую простыню, чтобы сшить дочери тапки к костюму
«снежинки» — ее рукам плохо давалась радостная работа.
В тот вечер мы с Милкой не впустили Валю к себе в дом. Мы
тянули ручку к себе, упираясь тапками от своих снежинок
в стены. Ручки у дверей были — из белого металла. Сплошь
покрытые шерстью снежинок, влипших намертво, а все-таки нежно, одной серединкой, сберегши бахрому. Ухватывали кожу крапивным льдом, и было известно: так вот лизнешь ручку, и примерзнет язык. Хоть десять лет простоишь,
хоть до самой весны. Валя царапала лед и кусала дверное
стекло, чтобы мы могли увидеть ее лицо в проталине. Ее
тапки примерзли к крыльцу, она вышла из них и пошла домой, где у нее с матерью было две ложки — как раз на двоих — их никогда не мыли, а только облизывали.Никогда потом та дверь не открывала мне лазейку,
а только мучила и била память. И сколько бы раз за жизнь
я ни рассказывала об этом отцу, он мне никогда не верил.
Может быть, это и было неправдой.Может быть, из-за Вали я разлюбила ёлки…
Перед самыми главными праздниками — Новым годом
и днем рождения — мама начинала мне объяснять, почему
на сей раз я не получу ни одного подарка. Мне припоминались все мои неудачи, все проступки, они расцвечивались
постыдными подробностями.Тут же мама рассказывала, как во время войны, в эвакуации, она клеила и раскрашивала самодельные игрушки для
моей сестры, а вот мне совершенно незаслуженно достаются яркие стеклянные шары и самые настоящие мандарины,
о которых моя сестра не могла и мечтать в детстве.А мама в эвакуации в Киргизии ходила ночью за десять
километров разгружать машины с капустой. За разгрузку
грузовой машины давали один небольшой вилок, и мама
несла его в свою каморку, где ее ждала не только моя маленькая сестра (она почти всегда лежала от голода, не могла
ходить), но и две мои бабки. Маме было двадцать пять лет,
она ждала папу с фронта и должна была выстоять.Я знала, что виновата перед сестрой за свое послевоенное рождение в деревянном двухэтажном барачном доме,
построенном пленными немцами с аккуратной, как штопка,
тоской по фатерлянду. Я могла греться у печки и есть хлеб,
и мама устраивала новогодние елки для всего двора.Между рамами окон прокладывали для тепла на зиму вату, у всех моих подружек она была украшена специальными
блестками, но мама считала это мещанством, и наша вата
была просто серой и блеклой, как моя совесть, которую мама не забывала будить каждый день.А еще перед праздниками вспоминали внеочередные,
некалендарные подарки: игрушки, куклу Таню, альбом для
рисования, книжку Бианки, летние коричневые сандалии.
Было совершенно ясно, что все подарки давно и с избытком
получены и назавтра, в день праздника, я должна буду радоваться за тех, кто заслужил подарки куда больше, чем я.Вечером я засыпала от горя, нарыдавшись до хрипа, до
той степени отчаяния, которую знают только дети, не умеющие цепляться за жизнь.А утром возле моей кровати стоял стул, которого не было
вечером, а на стуле высилась невероятная гора подарков, завернутых в красивейшую бумагу и перевязанных блестящими ленточками. Подарки были не только на стуле: на гвозде,
на плечиках, висело надо мной новое платье. Предстояло
развязывать, перебирать, открывать коробочки…Наверное, маме казалось, что, настрадавшись вечером, я
буду утром особенно счастлива, но я рыдала еще горше, чем
перед сном. Я не верю в счастье, которое обрушивается на
тебя; для меня это — как обрушение дома, и ты остаешься
навсегда под обломками.Мой внук посмеивается над нашими разговорами с дочкой: мы задолго выдаем друг другу тайну подарков и мирно
засыпаем перед праздниками, не страшась их.Мне было пять лет. Было жарко. Мы сидели на кухне. На
отце была майка. Под кожей ходили круглые красивые мускулы. (О, по-настоящему об этом хождении, об его истоках, можно узнать, только положив руку на спину хорошей
лошади. Как вздрогнет, как потечет в одну сторону кожа,
как волны мускулов пойдут в другую, как натянутся жилы,
и так поймешь все слои до дна.)На ужин была каша, склизкая и пережеванная, ее вид
всегда вызывал у меня недомогание.Я не ела, болтала ногами под столом и выкрикивала на
разные лады:— Мяса! Хочу мяса!
Вдруг отец поставил локоть на край стола, в ладони у него оказался чистый и с длинным лезвием нож, которым в доме резали хлеб. Обтянув мускулы совсем тонкой и загорелой кожей, он сказал мне, глядя вбок, на свою руку:
— Отрежь мяса.
Так споткнулось мое детство, осеклось навсегда.
Мы часто оставались с папой одни зимой дома: мама
уходила на фанерно-мебельный комбинат, папа писал рассказ, я лежала с компрессом на горле и температурой (специально стучала тупым концом градусника о косточку,
ртуть поднималась). Поработав, папа заходил меня проведать и читал стихи. С тех пор, с пяти лет, я помню «Медного всадника», «Клеопатру» Блока, «Волны» Пастернака.
Я успокаивалась и привыкала к жизни от этих звуков, только очень боялась, что папа, опомнившись, начнет читать
мне детские сказки.Папа до сих пор мне снится. Мы встречаемся с ним в одном и том же переулке у табачного киоска. Он бродит там
безо всякого дела. На нем тот же костюм со смешанным запахом нафталина и валидола. В кармане пиджака у него мы
забыли монетку. Он не знает, что я бросила курить, и бережет монетку на случай, если мне не хватит на сигареты.СОННИК Тогда я вышибаю ногой двери операционной, чего совершенно не следует делать, поскольку двери свободны: придерживаясь скобами одной половинки за стену, второй они танцуют, они приплясывают даже, шлепая хорошеньких медсестер
по ванильным попкам, готовым растаять, как мороженое в тревожных руках; о, эти двери — как в ковбойских салунах старых американских фильмов, почти что смытых с пленок памяти, рассыпавшихся в прах школьными гербариями на заднем
дворе, куда их несет мама, чтобы выбросить при переезде на
новую квартиру, а ты бежишь следом и умоляешь не делать
этого, а она все равно бросает в костер и отряхивает руки от
спор растений, а к вечеру зола холодеет, и ты идешь к грузовику с откинутой крышкой; тогда я вышибаю двери операционной и вижу то, что и вчера, и позавчера, и всегда.
Кипит кастрюлька, поднимая ввысь мясной запах супа. Хирург достает кусочки и ест осторожно, нарезая мелко. Смотрит усталым взглядом перед собой.На операционном столе лежит человек и плачет не от
боли; боли он уже не чувствует, он уже настолько внутри этой
самой боли, что привык к ней, как к разреженному воздуху,
когда поднимаешься все выше и выше в гору, сам не понимая,
для чего это делаешь, но рвешься вверх, будто выныриваешь
из воды, разрывая легкие для вдоха, который не вытянешь
потом из войлочного, ворсистого облака, там кислорода нет,
одна влага. Он плачет, а не кричит, — значит, не от боли; из
его бедра вырезан большой кусок плоти и, надо думать, именно он кипит сейчас в кастрюльке.— Как вам не стыдно?! — кричу я, выбив ногой двери и потрясая кулаками над бритой головой хирурга.
Хирург отвлекается от усталых своих мыслей, поднимает
на меня глаза: они внимательны, как пчелы, севшие на цветок,
втягивают будущую сладость хоботком зрачка. Он смотрит на
меня, и вдруг я вижу — нет, я не могла ошибиться — ясно
вижу промельк сначала смущения, а потом и раскаяния в его
карих глазах с мохнатыми лапками ресниц.Он вскакивает, и, все еще держа в руках тарелку с мясом, спешит к операционному столу, наклоняется к страдальцу, шепчет
ему ласково, пересохшими от волнения губами:— Поешь немножко. Попробуй. Хотя бы кусочек.
НА МАСЛЕНИЦУ Смиренный постриг деревьев. Ровная скоба крон. Они не
смеют думать о мирском — о листьях. Нимбом стоит над ними
голубое небо, и нестерпимо сияние длани Господней, осеняющей самолет.Завелась у него в сердце кровь, зевала, жмурилась, собиралась в сгустки, потом с узелками, с ненужным этим скарбом
протискивалась по сосудам, как по плацкартным переполненным вагонам. Он стоял у окна вагона и видел самолет.Самолет летел в небе, расправив руки. Он висел, замерев,
возле мягкого облака пыли. Плыли мимо облатки, простите
меня, родные, а кагора не было в небе, не купили.Рыбы ели кашу из манны небесной; объедались, запихивали в себя плавниками; и горел фонарь, прогревая зевы, чтобы
путнику не ошибиться случайно. Заходи в это маленькое алое
логово, заплывай на своей ненадежной пироге, отбивайся
веслом от Всевышнего, лежа на дрогах и кричи ему: «Трогай!
Ну что же ты, трогай!».Он говорил сбивчиво, прощаясь:
— В моем детстве между оконными рамами прокладывали на зиму вату; ее украшали бусинками, звездочками, разноцветными кружочками из бумаги. Ты сейчас поймешь. Это как
пластмассовые шары на подставках — в них, если их тряхнуть, идет снег, и сказочная девочка в шубке стоит на ледяном
пригорке. Да и вертепы на рождественских ярмарках напоминают мне сразу о той оконной вате, разложенной для тепла,
чтобы ветер не проникал в щели деревянного дома, но звездочки и бусинки не могли скрыть своего происхождения — от
тайной веры в чудо.Моя мама была страшной, непримиримой противницей
украшений на оконной вате, она считала такие украшения
тревожными пережитками, и наша вата лежала, съеживаясь
и поджимаясь, а бусинки я видел в домах у своих подружек.Нет ничего счастливее зимних детских тайн под бархатной скатертью, с бахромой, заплетенной косичками, и старушечьими космами над столом бабушкиной сестрицы, приехавшей в гости с райскими яблочками, с вареньем из айвы,
с яйцами, сваренными вкрутую до синевы и не съеденными
в долгой плацкартной преисподней в одном исподнем…И ты помни.
Кирилл Бабаев, Александра Архангельская. Что такое Африка
- Кирилл Бабаев, Александра Архангельская. Что такое Африка. — М.: РИПОЛ классик, 2015. — 480 с.
Учёные-африканисты Кирилл Бабаев и Александра Архангельская написали книгу о самых интригующих загадках Чёрного континента. Удивительные обычаи народов Африки, малоизвестные страницы их истории, религии, культуры, искусства, архитектуры — уникальный авторский материал по своей стилистике и охвату информации не имеет аналогов в современной русскоязычной литературе.
ИНИЦИАЦИЯ, СВАДЬБА И ПОХОРОНЫ С рождения жизнь человека связана с семьёй — его самыми близкими
людьми являются родители. Но в Африке семейные узы противоречат
общинным, и уже с раннего детства их начинают ослаблять. Прежде
всего, человек должен чувствовать себя членом своего рода, «большой
семьи», где отцом для него является любой родич старшего поколения.
Во многих языках Африки нет даже терминов «дядя, дедушка», их называют папой так же, как и родного отца. До двух-трёх лет ребёнок проводит всё своё время в непосредственном контакте с мамой — как правило,
у неё на спине, сидя в специальном платке, сравнимом с модным ныне
слингом, обвязанном вокруг материнской груди, из которого его достают
только для того, чтобы покормить или помыть. Любой африканец знает страшные сказки о том, как мать оставила люльку с сыном на ветке
дерева и её утащил злой дух, гном или колдун, так что даже во время
тяжёлого физического труда матери боятся снять со спины свою драгоценную ношу. Проведя на маминой спине два года, ребёнок спускается на
землю и начинает ходить в тот же день. Но кормить его грудью мать будет
ещё несколько лет, чтобы тем самым сэкономить на покупке продуктов.
В некоторых культурах ребёнок кормится материнским молоком до шести-семи лет, причём к этому времени он уже имеет несколько младших
братьев и сестёр.Ребёнок довольно мало общается со своим отцом — в Африке дети целиком находятся на попечении матери, тем более что у многих народов
муж выстраивает себе отдельную хижину и с женой не сожительствует.
Он будет приходить к семье лишь изредка по вечерам, чтобы провести
ночь с супругой, в остальное же время будет спать отдельно — или же
с другими жёнами.Становясь старше, ребёнок начинает приобщаться к коллективному труду. Игры, в которые играют африканские дети, почти всегда имитируют
жизнь взрослых: мальчики изображают охоту или строительство хижин,
девочки стирают платочки в реке, «понарошку» сажают в поле маниок или
учатся носить на голове ведёрки воды. Скотоводы лепят для своих детей
глиняные фигурки быков, а охотники строгают маленькие ружья из дерева или щит из кокосового ореха. Сегодняшние игрушки небогатых африканцев, особенно в сельской местности, удивительно разнообразны — как
раз потому, что в их распоряжении нет фабричных продуктов. Здесь можно встретить машинки из ржавых консервных банок, кукол из полиэтиленовых пакетов и кусочков ткани, игрушечные домики из старых канистр
и футбольный мяч, связанный из тростника или вручную сделанный из
сока каучуковых деревьев. Хотя в последнее время наплыв китайских товаров вытесняет самобытность и в самых отдаленных частях континента.Детей стараются вовлечь в работу матери, отца и дяди, и постепенно они
усваивают навыки труда взрослых. Тогда же впитываются и представления о ценностях: например, у скотоводов Восточной Африки, буквально
обожествляющих свой скот, в возрасте пяти-шести лет каждый мальчик
получает в подарок молодого бычка, о котором он должен ежедневно заботиться. Бычок носит то же имя, что и ребёнок, и они воспринимаются
как родные братья. Этот бык на многие годы будет для подростка едва ли
не ближе, чем его настоящие братья.Именно в этот период, в возрасте пяти — семи лет, у некоторых народов происходит то, что в литературе именуется инициацией, — посвящение во взрослые члены общины. По всей Африке существуют сотни
разновидностей процедуры инициации, разнится и возраст, при котором дети проходят их (от года до 20 лет), но их роднит одно: стремление
общины прервать опеку родителей над подростками, обучив последних
социальным нормам жизни в рамках общины. Разрыв с миром детства
иногда бывает болезненным, хотя в сегодняшней Африке он проходит
обычно весьма формально. Чаще всего для перехода во взрослую жизнь
подростки проводят некоторое время в изоляции от родных, в специальном лагере в лесу или в саванне, где жрецы или старейшины преподают
им уроки поведения в общине, навыки религиозного поведения, семейной жизни, основы мифологии и истории племени. Внешний мир для
них как бы перестаёт существовать, они умирают, отделяются от своего
прошлого, чтобы переродиться вновь для будущего, где родными для
них будут все члены общины, не только родители. Они участвуют в специальных церемониях и таинствах, призванных оказать сильное впечатление на ребёнка до конца дней, беседуют со старейшинами и проходят
практику «взрослой жизни», куда нередко включается обучение и хозяйству, и войне, и религии, и сексу. После проведения всех обрядов ребёнок
прощается с семьёй и становится членом общины — для этого ему иногда
присваивается и новое имя.Однако никакая инициация не может обходиться без тяжёлых испытаний, которые придётся пройти подростку. Для начала это может быть длительный, до месяца, период воздержания от нормальной пищи, нередко
почти без сна, с изнурительными физическими упражнениями или ритуальными танцами. В некоторых племенах инициируемые вынуждены проводить целые дни в темноте или в молчании, испытывать физическую боль,
голод и изнеможение, символизирующие смерть и последующее воскрешение в ином мире. У догонов Мали мальчики бегают наперегонки, развивая немыслимую скорость, потому что верят, что прибежавшего послед-
ним ночью сожрёт питон. А хамар в Эфиопии обмазывают юношу навозом
и дают трижды пробежать по спинам девяти быков, ни разу не оступившись. У народов Западной Африки дети получают надрезы на щеках или
на лбу, которые навечно определяют их принадлежность к племени. В Восточной Африке девочкам подпиливают зубы, прокалывают уши или нижнюю губу, куда будет вставлено что-нибудь вроде знаменитого глиняного
диска, о котором мы уже рассказывали в главе «Народы и языки». Никакой анестезии, кроме затормаживания реакции с помощью монотонного
пения или ароматического дыма, не применяется. Но ещё чаще, чем операции на лице, инициация предполагает операции на половых органах.По всей Африке чрезвычайно распространено обрезание мальчиков,
которое засвидетельствовано уже в Древнем Египте. Сегодняшнее ритуальное обрезание иудеев и мусульман Ближнего Востока ещё в древности
было заимствовано именно у египтян. Оно продолжает практиковаться
в Африке и мусульманами, и христианами, и носителями традиционных
верований. Хотя некоторые учёные полагают, что обрезание призвано
спасать мужчину от инфекционных заболеваний жаркого климата, гигиенические истоки этого обряда так и не были вразумительно доказаны,
зато хорошо известно, что от инфекций, вызванных ржавыми ритуальными ножами и грязной «священной» водой, в Африке продолжают умирать
тысячи инициированных детей.По сей день врачи и учёные всего мира безуспешно борются с женским
обрезанием, применяемым в большинстве стран Африки к северу от экватора. Обычно оно заключается в том, что девушке удаляют клитор, рассматриваемый в африканской мифологии как ненужное «мужское начало» в женщине. Нередко обрезанию подвергаются и половые губы, в некоторых ритуальных случаях они и вовсе сшиваются между собой, что навсегда лишает
женщину возможности вести какую бы то ни было половую жизнь и иметь
детей. Особенно распространён этот древний обычай в Египте, Судане,
Эфиопии и Сомали, а в Западной Африке — в Мали, Гвинее и Сьерра-Лео-
не. Всего в Африке, по данным Всемирной организации здравоохранения,
остаётся не менее 100 млн женщин, подвергшихся операциям обрезания.Обычай этот, отвергаемый сегодня и исламом, и христианством, объясняют по-разному, в том числе и необходимостью лишить женщин либидо
и, следовательно, желания изменять мужу. В мусульманских странах его
объясняют религиозными предписаниями, и неграмотные женщины лишь
много лет спустя узнают, что в Коране нет ни слова про женское обрезание.Из рассказа эфиопской девушки: «Амхарцы [т. е. власти] пытаются заставить нас отказаться от древних традиций, но я сама просила бабку, чтобы мне сделали обрезание.
Если бы я не сделала этого, я бы на всю жизнь оставалась грязной, как животное, и все
вокруг дразнили бы меня, называли диким животным. А сейчас я стала настоящей
женщиной, как моя мать и моя бабка, как все мои подруги».Несмотря на то что обрезание клитора обрекает женщину на вечные физические мучения при взаимодействии с мужчиной и начисто лишает всякого удовольствия при этом, несмотря на целый букет смертельных заболеваний и резкий рост угрозы бесплодия, многие африканки добровольно
идут на обрезание и даже активно противодействуют усилиям правительства отучить их от этого. Необрезанные девушки считаются развратными,
нечистыми, в сельских общинах у них не будет шанса ни выйти замуж, ни
сохранить уважение соплеменников. Женщина с клитором, полагают в Судане, неминуемо станет проституткой, хотя по статистике из 100 суданских
проституток 85 как раз обрезаны. А женщины в Сьерра-Леоне, отправляясь под нож местного целителя, уверены, что из клитора со временем вырастет огромный мужской член, если его вовремя не обрезать. В тех районах континента, где половые органы девушек зашивают, чтобы сохранить
их девственность до брака, мужьям приходится нередко резать собственную жену ножом, потому что идти с этим к врачу считается позором.Инициация, свадьба и похороны — три главных события в жизни общины, и каждое из них жёстко регулируется традициями. Даже и сегодня,
проживая в крупных городах, африканец не отрывается
от корней и должен отправиться в деревню своих предков,
если получит известие о предстоящем празднике. Ритуалы прописаны до мелочей, и за их соблюдением ревностно следят старейшины деревни.Существенно то, что и свадьба, и похороны требуют
от семьи громадных имущественных жертв. Например,
похороны отца семейства должны сопровождаться таким количеством угощений, жертвоприношений и церемоний, что могут разорить даже зажиточного человека. Сотни людей — социальные родственники — должны в течение нескольких дней кормиться буквально на
убой, богатые жертвы будут принесены духу умершего
и его коллегам — духам предков. Нередко хозяину торжества приходится брать банковский кредит под залог
недвижимости, резать или распродавать весь свой скот,
только чтобы обеспечить пышные похороны по неписаным законам своего народа. С помощью таких обычаев
добровольно-принудительной раздачи накопленного
община искусственно поддерживает своеобразное равенство между своими членами. Да, соседи всегда помогут и не допустят разорения семьи
покойного, но когда-нибудь потребуют помощи взамен. Отказаться же от
расточительных похорон при этом совершенно невозможно — это будет
равносильно оскорблению всей деревни, обычаев отцов и дедов, и уж, конечно, это сильно не понравится духам.В некоторых культурах культ похорон принимает своеобразные формы. На юге Ганы
существует обычай изготовлять «говорящие гробы», которым придаётся особая форма
в соответствии с профессией усопшего. Если он был рыбак, его положат в гроб в виде
улыбающейся рыбы, а бармен упокоится в деревянной пивной бутылке. Весьма распространены гробы в виде автомобиля, плода маниока или папайи.Свадьба тоже не может остаться кулуарным событием, «только для
близких» — на неё созываются вся деревня, родственники из города, из
соседних общин. Её подготовка, помимо приготовления угощения на сотни гостей, включает сбор средств для выкупа невесты, который может достигать немыслимой для рядового африканца суммы в несколько тысяч
долларов. Впрочем, семье невесты не придётся воспользоваться этими
деньгами для повышения благосостояния — часть средств сразу же уйдёт
на церемонии в честь духов, а часть будет отложена на ближайшие похороны или сватовство собственного сына.В современной Африке большинство молодых людей, живущих в городах, выбирают себе невесту и жениха самостоятельно. Однако и здесь
существуют свои ограничения, так как родители и родственники могут
с неодобрением воспринять жениха, принадлежащего к иной религии или,
ещё хуже, к иной народности, ведь многие этнические группы в Африке
находятся в глухой вражде во много раз дольше, чем Монтекки и Капулетти. В сельской местности решение по-прежнему принимает община: родители жениха и невесты заключают между собой договор, освящённый
согласием деревенской верхушки. Иногда такая договорённость существует, пока жених и невеста ещё не научились даже ходить, и со временем
их ставят перед фактом. Пренебрежение мнением соплеменников может
повлечь за собой утрату общинной взаимопомощи, которой африканец
очень дорожит, ведь она означает помощь не только живых, но и духов.
Разумеется, в таких условиях брак по собственному выбору является привилегией лишь обеспеченного человека, не обременённого к тому же чересчур серьёзным отношением к традициям, а это
весьма сложно даже при наличии хорошего западного образования.В то же время глобализация и взаимопроникновение культур играют не последнюю роль, и количество межрасовых браков продолжает расти.
Собственно, в Африке они никогда не были редки: в Древнем Египте жили люди белой и чёрной
расы, а цивилизацию суахили, зародившуюся ещё
два тысячелетия назад, можно назвать результатом смешанных браков между арабами, иранцами,
индийцами и коренными африканцами. Смешение
рас происходило веками на Мадагаскаре и в зоне
Сахеля. В эпоху колониализма активная метисация
населения происходила в португальских колониях —
Анголе и Мозамбике, а большинство населения Кабо-Верде сегодня — потомки именно смешанных браков. Большое количество одиноких белых
женщин, преимущественно француженок, продолжает прибывать в Африку в поисках молодого мужа, а русские и украинские невесты с готовностью пополняют гаремы по всей Северной Африке. Метисы попадаются
и среди глав африканских государств: нынешний президент Ботсваны Ян
Кхама — сын белой женщины.Ранние браки, несмотря на борьбу с ними государства и международных организаций, остаются общепринятыми в ряде регионов. Народы
манден в Западной Африке цитируют пословицу о том, что «ранний брак
убивает распутство», и считают, что, если молодую девушку своевременно не выдать замуж, она неизбежно вскоре забеременеет. В результате,
например, средний (!) возраст невесты в Нигере пятнадцать—шестнадцать лет, ничуть не лучше ситуация в соседнем Мали. Ещё в середине
XX в. для эфиопов нормальным считалось выдать девочку замуж в двенадцать—тринадцать лет. Для родителей это способ сбыть с рук лишнего
едока, а если подворачивается случай, сделать это ещё и за хороший выкуп, да в богатую семью… Но и бедняк может рассчитывать на молодую
супругу: крестьянин, например, заключает брачный договор с родителями четырёхлетней девочки и до момента её созревания должен работать
на них по хозяйству. Первая же менструация дочери означает неминуемую свадьбу. Таковы традиции, и борьба с ними требует времени, но
постепенно изменения происходят, и брачный возраст в Африке растёт.
В Намибии, например, даже в традиционных общинах средний возраст
замужества превышает двадцать шесть лет, так что проблема ранних браков здесь не возникает.Добрачные половые связи в Африке не являются строгим табу — в некоторых обществах они даже поощрялись. Среди исповедующих ислам туарегов такая практика описывалась ещё пару десятилетий назад. Однако
нет ничего хуже, чем добрачный ребёнок, родившийся прежде, чем родители получили общественное согласие на брак. Это наибольший позор для
девушки, и за подобный проступок ещё недавно можно было с лёгкостью
лишиться жизни. В Уганде безвременно родивших девушек отправляли
в одиночестве на микроскопический островок посреди озера Буньони, где
оставляли на голодную смерть. Ребёнок отходил её родителям, а мужчина — виновник трагедии — отделывался лёгким порицанием. Когда мы
слышим призывы некоторых африканских и западных учёных о «возвращении Африки к традиционной культуре», нам хочется верить, что речь
идёт не об этой изуверской практике.
Алекс Шерер. Охотники за облаками
- Алекс Шерер. Охотники за облаками / Пер. с англ. Е. Шульги. — М.: Livebook, 2015. — 368 с.
В нашем мире идет охота на облака. Преследовать их, ловить и выжимать — единственный способ получить драгоценную воду. Однажды я стану Охотником за Облаками, бесстрашным путешественником, который, рискуя жизнью, доставляет воду на самые дальние и опасные острова, обгоняя небесных акул и пиратов. Родители, разумеется, против, но на всех не угодишь. В конце концов, все, что делает жизнь по-настоящему интересной, приходится преследовать, будь то мечты, облака или Дженин, девушка с двумя шрамами на лице. Она из семьи Охотников за Облаками, так что я вцепился в нее как оголодавшая китовая блоха. И знаете что? Ни разу не пожалел.
Восхитительная история в духе сказочника Миядзаки о мире, который парит в небесах, понравится всем любителям приключений и путешествий, невозможных животных и миров, в которых хочется поселиться.ДЖЕНИН В разгар второй четверти в школе появилась новенькая. Звали ее Дженин. Ее лицо, от нижних век до верхней губы, пересекали два шрама. Они остались у нее не от увечий, они не были врожденными. Это были обрядовые шрамы. Они были сделаны намеренно и таили в себе давний ритуал. А еще они ставили на ней печать скитальца и кочевника — иммигрантки неизвестного происхождения. По традиции, такие люди становились охотниками за облаками.
Корабль ее семьи появился однажды откуда ни возьмись и пришвартовался в нашем порту. Отец Дженин погиб — по слухам, пропал во время шторма,— и командование небесным судном взяла на себя ее мать. Хотя, сказать по правде, командовать было особо нечем.
Корабль был невелик, экипажа на нем был один человек, мужчина с почти черной от загара кожей. Звали его Каниш. В ушах у него были кольца, а одну руку сплошной лентой обвивала большая татуировка вроде браслета. Его затылок был гладко выбрит, на груди не было ни волоска, и он всегда как-то лоснился, будто намазался маслом.
Мать Дженин звали Карла; как и у дочери, и у Каниша, по ее лицу до самых губ бежали два шрама. Ее длинные густые волосы, которые она часто собирала в хвост, были черными как смоль. Она была высокой, стройной, и своим видом напоминала воительницу — даже когда просто приходила на родительские собрания. У нее была довольно экзотичная внешность, и духи у нее тоже были странные и необыкновенные. Мама сказала, это называется мускусом. Еще она сказала, что мускус добывают из желез мертвого небесного кита, что показалось мне очень жестоким и в то же время завораживающим.
Каждое утро Карла и Каниш поднимали паруса и покидали порт, а каждый вечер возвращались. Иногда улов бывал хорош, иногда не очень, а порой они возвращались с пустыми руками и трюмами.
Если выдавалось несколько неудачных дней подряд, приходилось заплывать дальше обычного, и тогда они могли не возвращаться целую неделю, а то и больше. Тогда Карла нанимала кого-нибудь присматривать за Дженин и кормить ее, чтобы девочке не приходилось пропускать школу.
Карла хотела дать дочери образование. Ведь одно дело быть охотником за облаками, потому что это твое призвание, и совсем другое — быть им, потому что у тебя нет другого выбора, и ты больше ничего не умеешь. Впрочем, твоя внешность будет против тебя независимо от образования.
А по выходным, когда занятий не было, они уплывали все вместе: их корабль отчаливал в пятницу вечером и не возвращался до позднего воскресного вечера, а то и до самого утра понедельника, как раз вовремя, чтобы Дженин могла успеть к первому уроку. На вопрос, как она провела выходные, она всегда отвечала одинаково.
— Мы охотились за облаками.
— Много поймали?
— Ну, так. А ты что делал?
Да мало ли что. Но чем бы я ни был занят, это всегда казалось мне бессмысленным, скучным и пресным по сравнению с тем, чтобы плыть по чистому синему небу в погоне за клочьями пара где-то вдали, лететь во весь опор, настигая этот облачный сгусток, стремясь успеть к нему раньше других, а после, когда корабельные резервуары уже полны воды на продажу, возвращаться домой.
С этим ничто не могло сравниться. В моих глазах уж точно. Я ужасно хотел поехать с ними, но боялся даже просить об этом, понимая, что даже если я наберусь смелости, мне ответят отказом. А не откажут они, так не отпустят родители.
И все же дело было не в том, что мне не хватало бы смелости отправиться в такое путешествие.
Мне лишь не хватало смелости попросить об этом.
Забавно: иногда действовать проще, чем говорить. А ведь, казалось бы, все должно быть наоборот.
Мальчики и девочки отличаются друг от друга во многих, не заметных на первый взгляд, вещах. И даже когда мальчики дорастают до определенного возраста и начинают помногу времени проводить в мыслях о девочках — и наоборот, — девочки с мальчиками, тем не менее, редко проводят время вместе. До поры до времени. До той, значит, поры, пока не начнут проводить его вместе. Но пора эта еще не настала.
А вот Дженин в чем-то сама походила на мальчишку: своими мыслями, своим поведением, — так что сблизиться с ней было совсем не сложно. Наверное, мне даже казалось, что я сумею поймать ее, как ловит облака корабль ее матери, и у меня в руках окажется самая ее сущность, которую я дистиллирую и сохраню себе. Я думал, это будет как на химии, когда ты выделяешь из какой-нибудь взвеси несколько чистых капель, которые можно налить в пузырек или пробирку и закупорить пробкой.
В общем, если я и думал что-то в таком роде, то ошибался. Человека нельзя поймать, как облако, нельзя переделать его, превратив из облака в воду. Зато человек может стать твоим другом — просто прими его таким, как он есть, просто дай ему понять, что ты дорожишь им. И тогда — вот оно — облако в твоих руках, и если только ты не будешь пытаться стиснуть его в кулаке, то сможешь оставить себе, оно твое. Но если попробуешь удержать, оно выскользнет у тебя из пальцев.
Меня не заботило, что нас дразнили, называли женихом и невестой, хотя у нас все было совсем не так. Она была моей подругой, но никак не подружкой. Я и вел себя вполне прилично: не проводил с ней чересчур много времени, не выставлял это на всеобщее обозрение. Мы просто дружили, и все. Я поддерживал доверительные отношения, выжидая подходящий момент, чтобы однажды набраться смелости и задать свой вопрос. И если мне повезет, услышать в ответ «да».
Хотя сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что вопросов у меня было намного больше.
Колум Маккэнн. Трансатлантика
- Колум Маккэнн. Трансатлантика / Пер. с англ. А. Грызуновой. — М.: Фантом Пресс, 2015. — 352 с.
«Трансатлантика» — самый зрелый роман Колума Маккэнна, это глубокое размышление о том, как История поступает с людьми и как люди меняют Историю. Множество персонажей, подлинных и воображаемых, — это плотное повествование о жизнях, которые были, есть или могли бы быть, что, в общем, одно и то же.
Ньюфаундленд, 1919 год. Авиаторы Джек Алкок и Тедди Браун задумали эпохальную авантюру — совершить первый беспосадочный трансатлантический перелет. Дублин, 1845 год. Беглый раб Фредерик Дагласс путешествует морем из Бостона в Дублин, дабы рассказать ирландцам о том, каково это — быть чужой собственностью, закованной в цепи. Нью-Йорк, 1998 год. Сенатор Джордж Митчелл летит в Белфаст в качестве посредника на переговорах о перемирии между ИРА и британскими властями. Мужчины устремляются из Америки в Ирландию, чтобы победить несправедливость и положить конец кровопролитию. Три поколения женщин пересекают Атлантику ради того, чтобы продолжалась жизнь. Все линии сойдутся в одной точке, повторив изгибы мировых трагедий.Книга первая 1919
облакотеньВылет назначен на пятницу, 13-е. Так авиатор облапошивает смерть: выбери роковой день, выйди сухим из воды.
Повешены компасы, рассчитаны углы, настроена рация, оси обернуты амортизаторами, покрыты шеллаком нервюры, аэролак высушен, очищена вода в радиаторе. Все заклепки, шплинты, стежки проверены и перепроверены. И рычаги насоса. И магнето. И аккумулятор, который согревает их летные комбинезоны. Начищены сапоги. Приготовлены термосы с горячим чаем и растворимым бульоном «Оксо». Упакованы аккуратно нарезанные бутерброды. Списки тщательно размечены галочками. Солодовое молоко «Хорликс». Шоколадные батончики «Фрайз». Каждому по четыре лакричных конфеты. Одна пинта бренди — на крайний случай. В подкладки шлемов они на счастье вставляют веточки белого вереска, сажают под ветровое стекло и привязывают к подкосу за кабиной двух плюшевых зверушек — двух черных котов.
А потом на сцену с реверансом выскакивают тучи, дождь преклоняет колена над землею, и непогода отбрасывает их назад на целых полтора дня.
На почтамте в Сент-Джонсе Лотти Эрлих прыгает по классикам теней на полу, приближается к окошку за тремя перекладинами решетки, и оттуда на нее, приподняв черный козырек, взирает почтмейстер. Лотти придвигает к нему запечатанный конверт.
За пятнадцать центов покупает марку с Джоном Каботом и просит почтмейстера шлепнуть долларовый штемпель для трансатлантической пересылки.
— Ой, — говорит почтмейстер, — у нас, мисс, таких марок уже и нету. Давным-давно распродали.
Ночью Браун долго сидит в гостиничном вестибюле, шлет послания Кэтлин. С телеграфом робок — понимает, что его слова ни для кого не тайна. Посему он формален. Зажат.
Всего-то за тридцать, а по лестнице ходит медленно, сильно тыча тростью деревянные ступени. В желудке плещутся три бренди.
Странный блик играет на перилах, и в резной деревянной раме зеркала на верху лестницы Браун видит Лотти Эрлих. На миг девушка предстает призраком, является из зеркала, затем становится четче, выше, рыжее. Она в ночной сорочке, халате и шлепанцах. И она, и Браун слегка удивлены встречей.
— Вечер добрый, — говорит Браун. Язык у него отчасти заплетается.
— Горячее молоко, — отвечает девушка.
— То есть?
— Несу маме горячее молоко. Не может уснуть.
Он кивает, пальцем касается невидимых шляпных полей, шагает мимо.
— Она никогда не спит.
Щеки у Лотти горят — смущается, думает Браун, что ее застали посреди коридора в халате. Он снова касается невидимой шляпы и, проталкивая судорогу в больную ногу, взбирается еще на три ступени; бренди в клочья дерет ему рассудок. Лотти замирает двумя ступенями ниже и говорит церемоннее, чем того требует случай:
— Мистер Браун?
— Да, барышня?
— Вы готовы к объединению континентов?
— Честно говоря, — отвечает Браун, — мне бы для начала сгодилась приличная телефонная линия.
Лотти спускается еще на ступеньку, прижимает ладонь к губам, будто хочет откашляться. Один глаз выше другого, словно в голове давным-давно застрял очень упрямый вопрос.
— Мистер Браун.
— Мисс Эрлих?
— Вас не очень затруднит?
И стреляет глазом в пол. Замолкает, будто на кончике языка замерла стайка мимолетных слов, беглых пустячков, что не вытекут сами по себе и никак их не вытолкнуть. Она стоит, держит их на языке, ждет — не упадут ли. Наверное, думает Браун, она, как и все обитатели Сент-Джонса, хочет покататься в кабине, если вновь случится тренировочный вылет. Решительно невозможно; нельзя тащить в воздух кого попало, тем паче девицу. Даже когда аэроплан стоит на лугу, газетчикам в кабину хода нет. Это ритуал, это суеверие, он попросту не сможет, и вот как ей сказать? Теперь он в ловушке — жертва своих полуночных прогулок.
— Вас не очень затруднит, — говорит она, — если я вам кое-что дам?
— Ну разумеется.
Она одолевает лестницу и бежит по коридору к себе. В белизне халата движется юность ее тела.
Он щурится, трет лоб, ждет. Может, талисман какой? Сувенир? Памятный дар? Вот дурак — зря позволил ей заговорить. Надо было сразу сказать «нет». И пусть. Ушла к себе в номер. Исчезла.
Она появляется в конце коридора, шагает размашисто. В вырезе халата — треугольник белой кожи. Внезапно Брауну остро хочется увидеть Кэтлин, и он рад этому желанию, и этой заблудшей минуте, и странной извилистой лестнице, и гостинице в глуши, и излишку бренди. Он скучает по невесте, вот и все дела. Он хочет домой. Прижаться к ее стройному телу, увидеть, как ее волосы струятся по ключице.
Он сильнее вцепляется в перила; Лотти приближается. В левой руке у нее бумага. Он протягивает руку. Письмо. Всего-навсего. Письмо. Он глядит на конверт. Адресовано некоему семейству в Корке. На Браун-стрит, ты подумай.
— Это мама написала.
— Вот оно что.
— Можете положить в почтовый мешок?
— Ничуть не затруднит, — говорит он, поворачивается, сует конверт во внутренний карман.
Утром они смотрят, как Лотти выходит из гостиничной кухни — рыжие волосы наперекос, халат туго застегнут под горло. Она тащит поднос с бутербродами в мясницкой вощенке.
— С ветчиной, — торжествующе объявляет она, ставя поднос перед Брауном. — Я специально для вас сделала.
— Благодарю вас, барышня.
Она уходит из ресторана, машет через плечо.
— Это же дочка репортерши?
— Совершенно верно.
— Они чуток того, а? — замечает Алкок, натягивая летную куртку, через окно созерцая туман.
Сильный ветер неверными порывами налетает с запада. Авиаторы уже опаздывают на двенадцать часов, но минута настала — туман рассеялся, и долгосрочные прогнозы сулят добрую погоду. Безоблачно. Небо над головою точно написали маслом. Первоначальная скорость ветра высока, но, пожалуй, поуспокоится узлов до двадцати. Потом выйдет славная луна. Под недружное «ура» они забираются в кабину, пристегивают ремни, в который раз проверяют приборы. Краткий салют сигнальщика. Контакт! Алкок дергает рычаг, запускает оба двигателя на максимальной мощности. Машет — велит убрать деревянные башмаки из-под шасси. Механик наклоняется, ныряет под крыло, зажимает башмаки под мышками, выкидывает, отступив. Задирает руки. Двигатели фыркают дымом. Крутятся пропеллеры. «Вими» уставила нос по ветру. Слегка под углом. Вверх по склону. Ну давай, поехали. Дыхание греющегося масла. Скорость, движение. Невероятный рев. Вдалеке маячат сосны. С дальнего края луга дразнит сточная канава. Оба молчат. Никаких «боже правый». Никаких «выше нос, дружище». Они ковыляют вперед, втискиваются в ветер. Давай, давай. Под ними катит махина аэроплана. Как-то нехорошо. Медленно. Вверх. Тяжеловата сегодня егоза. Столько бензина тащит. Сто ярдов, сто двадцать, сто семьдесят. Слишком медленно. Будто сквозь студень ползешь. Теснота кабины. Под коленками пот. Двигатели взревывают. Гнется конец крыла. Трава стелется, рвется. Аэроплан подскакивает. Двести пятьдесят. Слегка приподымается и опускается со вздохом, полосуя землю. Боже правый, Джеки, поднимай ее уже. Край луга окаймляют темные сосны, они все ближе, ближе, еще ближе. Сколько народу вот так погибло? Тормози, Джеки. Поворачивай. Отбой. Скорей. Триста ярдов. Иисусе боже милосердный. Порыв ветра задирает левое крыло, и их слегка кренит вправо. А потом — вот оно. Холодом разрастается ветер под ложечкой. Взлетаем, Тедди, взлетаем, гляди! Легчайший подъем души на малой высоте, аэроплан в нескольких футах над землей, носом вверх, и ветер свищет в подкосах. Высоки ли сосны? Сколько народу погибло? Сколько нас пало? В уме Браун переводит сосны в шумы. Хлест коры. Путаница стволов. Тра-та-та сучьев. Крушение. Держись, держись. От ужаса сводит горло. Они чуточку привстают над сиденьями. Как будто это уменьшит вес аэроплана. Выше, ну давай же. Небо за деревьями — океанская ширь. Поднимай, Джеки, поднимай ее, бога ради, давай. Вот и деревья. Вот и они. Шарфы взлетают первыми, а затем внизу аплодируют ветви.
— Нервишки-то пощекотало! — орет Алкок, перекрикивая грохот.
Леонид Юзефович. Зимняя дорога
- Леонид Юзефович. Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в Якутии. 1922–1923. Документальный роман. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. — 430 c.
Лауреат премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга» Леонид Юзефович выпустил новый документальный роман о малоизвестном эпизоде Гражданской войны в России — героическом походе Сибирской добровольческой дружины из Владивостока в Якутию в 1922–1923 годах. В центре внимания автора противостояние двух неординарных исторических фигур: белого генерала, правдоискателя и поэта Анатолия Пепеляева и красного командира, анархиста, будущего писателя Ивана Строда. Книга основана на архивных источниках, которые автор собирал много лет, но написана в форме документального романа.
Такова трагическая природа мира — вместе с
героем рождается его противник.Эрнст Юнгер
Не спрашивай у сражающихся о дороге.
Китайская мудрость
РАССТАВАНИЕ
1В августе 1996 года я сидел в здании Военной прокуратуры СибВО в Новосибирске, на Воинской, 5, читал девятитомное следственное дело белого генерала Анатолия Николаевича Пепеляева. За год до моего приезда оно было передано туда из ФСБ по заявлению его старшего сына, Всеволода Анатольевича, просившего о реабилитации отца. Такие заявления поступали тогда тысячами, у работников прокуратуры просто руки не доходили рассматривать их в установленные сроки. Выдавать следственные дела посторонним не полагалось, но в те годы служебные инструкции легко нарушались не только ради корысти. Начальство в лице двух полковников надо мной сжалилось, узнав, что только ради этого я и прилетел из Москвы.
Я сидел в проходной комнате, а за фанерной переборкой рядом с моим столом находился кабинет одного из следователей, не слишком молодого для своего звания капитана. Иногда к нему приходили посетители, и я хорошо слышал их разговоры. Однажды он беседовал с женой арестованного командира танкового полка. Сквозь оклеенную веселенькими обоями фанеру доносился его наигранно бесстрастный голос: «Итак, это было в тот год, когда вся страна стонала под игом Рыжего…» Имелся в виду Анатолий Чубайс, в 1995 году назначенный вице-премьером. В то время полковник списал и толкнул на сторону два танковых тягача. Следователь с мстительной методичностью излагал его жене обстоятельства сделки. Она плакала. На полях моей рабочей тетради их разговор, ее всхлипывания и металлический тон его речи отмечены как фон, на котором я переписывал в тетрадь одно из писем Пепеляева жене, Нине Ивановне: «Уже, кажется, десятое письмо пишу тебе со времени отъезда из Владивостока. Не так давно мы расстались — это было 28 августа, — а сколько новых впечатлений, переживаний, сколько передумано тут, пережито тяжелого, но все утешаю себя, что дело наше правое, верю, что Господь сделал так, чтобы мы пошли сюда, что Он проведет и не бросит нас».
Они простились 28 августа 1922 года во Владивостоке. Месяцем раньше Пепеляев прибыл сюда из Харбина, чтобы сформировать отряд добровольцев и отправиться с ним в Якутию — поддержать полыхавшее там антибольшевистское восстание. Поначалу, чтобы засекретить арену предстоящих военных действий, отряд назвали милицией Татарского пролива, потом переименовали в милицию Северного края, но в конце концов он стал Сибирской добровольческой дружиной. К исходу лета Пепеляев готов был отплыть с ней в порт Аян на Охотском побережье, а оттуда двинуться на запад, к Якутску.
Ему недавно исполнился тридцать один год, Нина Ивановна на год моложе. Они женаты десять лет. На фотографии, сделанной незадолго до венчания, Нина сидит с бумажным венком в пышных темных волосах, в польском или украинском платье с вышивкой, с лежащими на груди нитками крупных бус — вероятно, снялась после участия в каком-нибудь любительском спектакле или в костюме, который могла бы носить бабка по отцу. Через десять лет фотограф запечатлел ее в профиль над кроваткой с голеньким младенцем. Видно, что она высокого роста, сколотые на затылке волнистые волосы стали еще пышнее, как бывает после родов, но заметны и тяжелый подбородок, и длинный нос. Такой Нина Ивановна осталась в памяти мужа.
Все сохранившиеся в деле письма Пепеляева к жене написаны им в Якутии. Ни одно из них до нее не дошло. Судя по тому, что он перед ней постоянно оправдывался, ссылаясь то на пославшую его в этот поход высшую волю, то на долг перед народом, Нина Ивановна без восторга отнеслась к перспективе остаться на неопределенный срок одной с двумя маленькими детьми на руках и едва ли приняла это со смирением. Пепеляев уверял ее, что разлука продлится не больше года, но на год жизни смог оставить семье лишь скромную сумму в тысячу рублей. Это, надо думать, не прибавляло Нине Ивановне оптимизма. К тому же она видала кое-кого из тех, кто подбил ее мужа плыть в Якутию, и не могла не думать о том, что добром это не кончится.
Пепеляев чувствовал себя виноватым перед женой и накануне отъезда хотел подарками поднять ей настроение. На первых страничках вложенного в следственное дело блокнота, который скоро станет его дневником, а пока что служил для деловых заметок и учета денежных трат, под рубрикой «Собственные деньги», отчасти объясняющей, почему при огромных возможностях он всегда был беден, записано в столбик:
«Нине сумочка — 10 р.
Надпись (видимо, на сумочке, памятная. — Л.Ю.) — 10 р.
Цепочка — 10 р.
Браслет — 15 р.».Здесь же перечислены другие расходы: на зубного врача (в ближайшие месяцы поставить пломбу ему будет негде), на продукты для матери (пуд сахара, десять фунтов масла, фунт кофе и пр.), на оплату квартиры, на дрова (за колку отдельно), наконец на фотографа — 17 рублей. Немалая сумма говорит о том, что сделано было несколько снимков. Фотография самого Пепеляева предназначалась, должно быть, Нине Ивановне, а фото жены и сыновей он хотел взять с собой в Якутию. Старшему, Всеволоду, было без малого девять лет, Лавру — четыре месяца. Мальчику возле кроватки и младенцу в кроватке, над которым склонилась пышноволосая женщина, на вид примерно столько и есть, значит, это дубликат одного из тех самых снимков, но в следственном деле я их не нашел. Возможно, они не были отобраны и оставались у Пепеляева в тюрьме до и после судебного процесса 1924 года. Порядки в тогдашних советских домзаках и политизоляторах были еще довольно мягкими.
Незадолго до отплытия Нина Ивановна с Севой и Лавриком из Харбина приехала во Владивосток проститься с мужем. По сибирским масштабам дорога считалась недальней, семь-восемь часов на поезде. Погода стояла теплая, вода в море еще не остыла. В старости Всеволод Анатольевич вспомнит, как они всей семьей ходили купаться, отец плыл, а он сидел на плечах у отца.
28 августа или Нина Ивановна проводила мужа на пароход, или Пепеляев посадил ее с детьми на поезд до Харбина и расстался с ними на платформе. На следующий день минный транспорт «Защитник» и канонерская лодка «Батарея» с Сибирской дружиной на борту вышли из владивостокской гавани и взяли курс на север.
2 Вместе с Пепеляевым из Владивостока в Аян отплыл полковник Эдуард Кронье де Поль, военный инженер, варшавянин, ветрами Гражданской войны занесенный в Приморье. Он взял с собой новенькую записную книжку, которую через год у него изымут. Я нашел ее в том же следственном деле Пепеляева, объединенном с делами судимых вместе с ним офицеров.
Во время недельного плавания Кронье де Поль карандашом сделал в ней длинную запись: «Идея смерти должна быть наиболее совершенной и ясной из наших идей как самая упорная и неизбежная среди них, на деле же она остается наиболее неразвитой. Когда приходит смерть, мы хватаемся за две-три мысли о ней, ничего иного у нас нет. Всю жизнь мы отворачивались от нее, и эти две-три мысли, на которые мыдумали опереться, ломятся как тростник под тяжестью последних минут.
Мы не можем понять эту силу, потому что не смотрим ей в лицо, и бежим от нее, потому что не понимаем и боимся. Смотри смело смерти в глаза и старайся понять ее, тогда она не покажется ужасной. Если Бог дал нам разум, Он не может требовать, чтобы мы не верили разуму, а брали все на веру. Мы, люди, не имеем силы большей, чем разум. Чувства и инстинкты — ничто перед ним…»
В преддверии боев и походов интеллигенту естественно было размышлять о смерти, но Кронье де Поль готовился к встрече с ней, как к столкновению с превосходящими силами неизвестного противника, — хотел свести угрозу к нескольким вариантам, выбрать самый вероятный и принять необходимые меры. На победу рассчитывать не приходилось, но в этом случае можно было хотя бы погибнуть с честью.
«Смерть, — пишет он, — если судить о ней на основании разума, может принять четыре вида:
I полное уничтожение;
II продолжение жизни с нашим теперешним сознанием;
III продолжение жизни без всякого сознания;
IV продолжение жизни с новым сознанием, каким мы теперь не обладаем.Рассмотрим их по отдельности.
Полное уничтожение невозможно, ибо мы — часть бесконечности, в которой ничто не погибает.
Теперешнее наше сознание сосредоточено вокруг нашего „я“, а это возможно лишь при наличии тела, значит после его исчезновения теперешнее наше сознание невозможно.
Самое простое предположение о смерти — бессмертие без сознания, однако и это невозможно, ибо если тело исчезнет, то и мысль, отделенная от своего источника, угаснет и растворится в безграничном мраке.
Остается последнее — продолжение жизни с новым сознанием. Это предполагает, что наше новое „я“ зародится и разовьется в бесконечности. Мы не можем быть чуждыми Вселенной, как сами не допускаем в себе чуждых нам частей. Наше мучительное непонимание смерти должно было возникнуть во Вселенной раньше нас, и после нашей смерти оно вновь растворится в ее бесконечности».
Я читал эти изысканные софизмы в полной уверенности, что они принадлежат владельцу книжки, но под последним из них обнаружилось указание на источник: «Метерлинк, т. V». Том из его собрания сочинений Кронье де Поль захватил с собой в Якутию, как кто-то брал учебник английского или руководство по сухой перегонке древесины в скипидар и спирт.
После цитат из Метерлинка записей нет, лишь в самом конце пять-шесть листочков испещрены мастерскими карандашными рисунками лошадей и птиц. Между ними вложена фотография толстогубой девушки с глазами навыкате. На обороте надпись: «На память дорогому мужу. Пусть не забывает свою жену, которой дал имя Мимка».
3 16 сентября 1922 года, через десять дней после того, как Сибирская дружина Пепеляева высадилась в Аяне, на Иерусалимском кладбище в Иркутске с воинскими почестями опустили в могилу тело Нестора Каландаришвили — легендарного анархиста, воевавшего с белыми под черно-красным знаменем «матери порядка», но незадолго до смерти подавшего заявление о приеме в РКП (б). Чернобородый красавец в ореоле ниспадающих на плечи волос, храбрец и оратор, что вместе встречается нечасто, он был актером в Кутаиси, боевиком в Батуми, командовал таежными партизанскими полками, пытался помешать Унгерну уйти в Монголию и создал Корейскую революционную армию. Многие из тех, кто стоял у могилы, были с ним хорошо знакомы, но не могли на прощание поцеловать его в лоб. Гроб не открывали. Каландаришвили погиб полгода назад, под Якутском, шесть месяцев посмертного непокоя оставили на нем свой след. С весны тело держали на леднике, а на пароходе, везшем его по Лене, имелась холодильная камера, и все-таки на лицо лучше было не смотреть.
Пароход с замороженным телом приплыл с севера, а девятью месяцами раньше Каландаришвили, назначенный командующим всеми вооруженными силами Якутии, с Северным отрядом в триста бойцов по тракту вдоль той же Лены, тогда скованной льдом, из Иркутска выступил в обратном направлении — ему поручено было покончить с восстанием, которое теперь собирался поддержать Пепеляев.
Накануне похода Каландаришвили говорил, что его цель — не «истребление несчастной горсточки белогвардейских офицеров», ставших военспецами у повстанцев, а помощь подпавшим под железную пяту военного коммунизма якутам и тунгусам. По его словам, «борьба наций еще в давние времена загнала их наКрайний Север из великой Чингисхании», сотни лет эти «бедные племена» страдали под гнетом суровой природы и царских чиновников, а ныне «революция докатилась до них в уродливых формах». В роли проконсула мятежной провинции Каландаришвили хотел не столько ее усмирить, сколько умиротворить, но 6 марта 1922 года, не доехав до Якутска тридцать верст, нарвался на засаду и погиб.
Из всей его группы уцелел только тяжело раненный и принятый нападавшими за мертвого начштаба Бухвалов, но и он скоро умер, ничего толком не успев рассказать. Ход событий восстановили по следам на снегу и положению трупов. Этим занялся командир головного эскадрона Иван Строд. В тот день он с авангардом отряда находился уже в Якутске, о случившемся узнал по телефону и на место гибели товарищей поспел лишь к вечеру.
«Мороз гулкими шагами делает свой ночной обход, трещит лед на Лене, — вспоминал Строд открывшуюся перед ним картину. — Черными, неподвижными, окоченевшими точками разбросаны по снегу те, кого здесь настигла смерть».
Отряд считался конным, исчислялся не в штыках, а в саблях и делился на эскадроны, но верховых лошадей должны были получить на месте. Двигались в санях и крытых кошевках. Каландаришвили со штабом, демонстрируя миролюбие и желая вызвать у якутов доверие к себе, ехал не таясь, без походных застав и разведки, и повстанцы об этом знали. Нападение произошло на льду Техтюрской протоки Лены. Узкая дорога вилась между островами, по сторонам ее поднимались обрывистые берега, поросшие тальником. Сидевшие в засаде якуты стреляли с такого близкого расстояния, что пыжи из ружей долетали до цели вместе со свинцом, их потом находили на телах убитых. Передние лошади были расстреляны в упор, задние налетали на них, пугались, заскакивали на соседние сани, ломая их и давя седоков. Повернуть назад было невозможно, люди спрыгивали на дорогу, пытались отстреливаться. Каландаришвили, раненный в бок, с маузером в руке побежал навстречу показавшимся наверху якутам, но пули перебили ему обе ноги, он упал. Когда Строд нашел любимого командира, его окостеневшая правая рука была поднесена к виску, где смерзлась кровь из четвертой, смертельной раны. Осталось неизвестным, убили его или он все-таки успел застрелиться из маузера, который потом забрали повстанцы.
Тех, кто не умер сразу, добили потом. Погибли все ехавшие с Каландаришвили сорок шесть бойцов и командиров, девять крестьян-возничих и жена отрядного адъютанта Нина Медвяцкая. Она лежала рядом с мужем, но тела еще двух женщин найдены не были. Это означало, что шифровальщицу Екатерину Гошадзе и возвращавшуюся домой из Иркутска студентку-рабфаковку Брайну Карпель, сестру служившего у Каландаришвили якутянина Исая Карпеля, повстанцы увели с собой. Сам Карпель остался жив, потому что с частью отряда задержался в селе Покровском из-за нехватки подменных лошадей. О дальнейшей судьбе сестры он узнает в конце лета. По легенде — не узнает никогда.
Тела привезли в Якутск, но с погребением решили не спешить. До весны было далеко, мороз надежно хранил мертвых от разложения, а тревожная обстановка в осажденном городе не позволяла похоронить их с должной торжественностью. Командование Северным отрядом принял Строд.
На фотографиях тех лет он или брит наголо, или волосы у него зачесаны набок, надо лбом — русый вихор. Колючие зрачки резко темнеют на фоне серой или бледно-голубой радужки. Лицо узкое, с ясно очерченными скулами, длинный нос, рот чувственный и в то же время твердый.
В свои двадцать восемь лет Строд холост и никогда не был женат. В прошлой жизни его звали Ян или Йонс, его предки по отцу — крестьяне из Латгалии, отец — фельдшер, сам он — бывший прапорщик, выслужился из солдат, полный георгиевский кавалер. Старорежимных крестов, разумеется, не носит, но заслуженный в боях с Семеновым и Унгерном орден Красного Знамени заставляет чекистов сквозь пальцы смотреть на то, что по партийной принадлежности он — анархист.
Строд знает о Пепеляеве, тот о нем никогда не слышал. Они встретятся через год после гибели Каландаришвили, и для одного из них эта встреча станет звездным часом жизни, для другого — началом конца. Друг о друге они пока не думают и не подозревают, что их имена всегда будут произносить вместе.
Ольга Кучкина. Синдром подсолнуха
- Ольга Кучкина. Синдром подсолнуха. — М.: Время, 2015. — 176 с.
В сборник «Синдром подсолнуха» журналиста и писателя Ольги Кучкиной вошли два произведения. Между этими текстами — разница в двадцать два года, и сквозь маленькие любовные истории просвечивает большое время. «Прочтение» публикует отрывок из повести 2014 года «Красное небо».
КРАСНОЕ НЕБО
Маленькая повесть
4
Конец лета и начало осени — тогда был тот же любимый
нами сезон.У него заболел живот. На даче. В ту пору она еще не сгорела. Мы легли в нашей любимой деревянной спальне на
нашу любимую деревянную кровать, включили наши любимые плетеные лампы, чтобы почитать, но ему не читалось,
не лежалось, он ворочался, укладывался так и сяк, я спросила, в чем дело, почему он крутится, он сказал: да что-то живот болит. Он не из жалобщиков. И боль переносит стойко.
И все на нем заживает как на собаке. Собака была рядом,
лежала, как обычно, между нами, прижавшись к нему, он
прижался к ней, вроде ему стало полегче, и он уснул.Первым, кто строил и построил эту дачу, был мой папа.
Вторым, кто отремонтировал ее, приведя в божеский порядок после безжалостного упадка, был мой второй муж. Третьим, кто ее перестроил, обшив желтым сливочным деревом, соорудив привлекательное мансардное пространство,
библиотеку, финскую баню и введя целый ряд прелестных
новшеств, включая плетеную мебель, был он, мой третий
муж. Я полюбила дачу неземной любовью. Раньше я любила
так только людей. Некоторых. Очень малое число. Один из
них убеждал меня: надо жить страстями. Я и без того жила
ими, натворив немало дел. Сегодня, обогащенная душевным и житейским опытом, утверждаю: надо уметь сдерживать страсти. Так человечнее.Моя сдержанная страсть перекинулась на доски пола, на
большие окна с занавесками, напоминавшими рыбацкие
сети, на два камина, которые по своим чертежам и своими
руками сложил он, мой третий, архитектор-строитель по
первой специальности. В ареал страсти оказались включены сосны и березы, яблони и сливы, рябина и малина, опята
и боровички, а также будущий пруд, который уже выкопали
и наполнили водой, но она все уходила, и муж все соображал,
как остановить утечку и, кажется, сообразил, и мы мечтали
о карпах и карасях, которых непременно заведем, не этой
осенью, так следующей. Завтрашний день виделся нам столь
же прекрасным, как сегодняшний, куда сначала еле слышно,
а затем все настойчивее стучалось и достучалось прекрасное
вчера и такое же позавчера. В реальности было всякое. В том
числе непереносимое. Следовало быть чуточку умнее, чтобы
догадаться, что и сегодняшний, и завтрашний день чреваты
тем же. Малые и большие неприятности аккуратно заступали на дежурство по некоему им одним ведомому распорядку.
Но сегодня, когда я вспоминаю те летние, зимние, осенние
и весенние утра, дни и вечера, я упорно вижу исключительно
счастливый тренд, и почему так, мне неведомо.Почитав немного, я уснула и, должно быть, спала крепко,
во всяком случае, первую половину ночи, потому что вдруг
проснулась во второй половине и сразу увидела, что он не
спит, а мучается.Он почти никогда не болел. И если иной раз заболевал, я
впадала в панику. Виду не подавала, но все внутри и снаружи покрывалось липкой пленкой страха.Конец ночи я провела без сна, прислушиваясь к его дыханию и вздрагивая всякий раз, когда он со стоном менял
положение, в каком то ли спал, то ли дремал.5
Ночью озарило, смешно сказать, открытие: почему, накапливая за жизнь всяческое знание и понимание, мудрец
к старости признается, что ничего не знает, а то и более того,
не понимает. В детстве все ясно. С каждым детским вопросом почему и с каждым взрослым ответом потому ясность
возрастает. Ты, в общем и целом, справляешься с фактурой,
которую тебе преподносит мир. Когда не справляешься —
страдаешь, но приобретенное через страдание, приученное, прирученное, одомашненное как-то укладывается в общую картину мира. Мировоззрение меняется, потому что
нарастает объем событий, которые становятся тебе известны. Нормально. Ненормально, когда прибавляются изменения, а твой угол зрения не меняется, застыв как каменный. Тогда ты либо непробиваемый догматик, либо идиот.
Так или иначе, наступает момент, когда объем поступивших
и продолжающих поступать знаний плющит стареющую
особь. Крутишь головой, отряхиваешься, как крутит головой и отряхивается животное, выбираясь из непривычной
водной среды на привычную земную почву, отфыркиваясь,
так что брызги летят во все стороны, и путаешься в том, как
увязываются разные среды, и что они означают, и вообще
зачем и как все это устроено. Гоголевский Поприщин сошел
с ума, читая одни только газеты. А доведись ему уставиться в наш телевизор! Новости: наводнение в Японии, унесшее тысячи жизней; эпидемия чумы в Гаити, унесшая тысячи жизней; торнадо в Луизиане, унесшее тысячи жизней;
конфликт в Сирии, такое аккуратное слово для обозначения
полыхающей два года гражданской войны, унесшей тысячи жизней; катастрофа самолета в Сибири, унесшая десятки
жизней; поджог в уральском городке или в кубанской станице, где сгорает заживо двадцать полубезумных стариков или
семья в двенадцать человек; убийство двух приемных детей
многодетной матерью в Самаре; президент, по первой специальности детский доктор, съедающий каждое утро по ребенку; православный священник, раскатывающий пьяным
на майбахе, давит на автобусной остановке кучу только что
рожденных младенцев… Я съехала с катушек? Или все съехали с катушек? Что правда, а что фейк? Цифры и факты мешаются. И психологический взрыв: как такое возможно?!Возможно и не такое. После одного, второго, третьего
взрыва — догорающая оплавленная субстанция. Прах. Бесчувственность. Мякина. Каноническая достоевская слезинка ребенка больше не катит. Катила ли она в иные времена — другой вопрос.На каком расстоянии должно происходить бедствие, чтобы оно задело вас, спрашивал тот же Достоевский, а вслед за
ним Карякин. Я спрошу: телевизор приближает или удаляет
бедствие? Я спрошу: для чего все, если тысячи явившихся
для чего-то в этот мир людей бессмысленно и бесследно уходят в топку истории? Уходят трагически, но так, что мы не
успеваем осознать это как трагедию.Не знаю.
Не понимаю.
А если непонимание, мякина, прах — персонально мои?
Достоевский обращался к юной племяннице: кстати, получаете ли вы какие-нибудь газеты, читайте ради Бога, нынче
нельзя иначе, не для моды, а для того, что видимая связь всех
дел, общих и частных, становится все сильнее и явственнее.Достоевский — гений.
Набоков, однако, считал чертой посредственности ту жадность, с какой ее носитель набрасывается на газеты, поглощая
текущую информацию, вместо того чтобы читать книги.Набоков — тоже гений.
В чем разница? Во временах? Или в подходах? Гений
ищет и находит связи всех дел; посредственность, глотая без
разбора сенсацию за сенсацией, набивает мозг как желудок,
который не переваривает пищи. Текущая информация в сегодняшних газетах, в телевизоре, в facebook’е, ЖЖ, вконтакте — дает в результате запор массового сознания. Порча,
гниение, зловоние расходятся кругами, захватывая в свои
орбиты все новые колонии организмов.Муж перевернулся на другой бок и не проснулся. Во сне
он как ребенок.6
Тогда он так же перевернулся на другой бок и проснулся.
— Ты поспал немного?
— Часа два.
— Плохо?
— Да, что-то неважно.
— Если бы у тебя не вырезали аппендицит, можно было
бы грешить на него.— Причем тут аппендицит!
— А что?
— А почем я знаю.
— Давай поставим градусник.
— Зачем?
— Мне кажется, у тебя температура.
— Если температура, то что?
— Если температура, поедем в Москву.
— И что будем делать в Москве?
— Не знаю. Там решим. Нельзя же оставаться здесь с такой болью.
Температура — тридцать восемь и девять десятых.
Начинался шестой час утра.