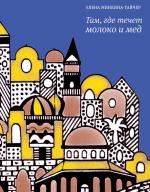- Андрей Иванов. Аргонавт. — Таллин.: Авенариус, 2016. — 333 с.
Роман «Аргонавт» — это вереница видений человека, который находится под воздействием мистического вина аяхуаска. В сознании героя возникают не только близкие, но и внутренняя жизнь едва знакомых людей. Это роман о путешествии вглубь себя.
В 2016 году Андрей Иванов получил государственную премию Эстонии в области культуры. Его роман «Харбинские мотыльки» в 2013 году получил премию «НОС» и вошел в короткий список «Русского Букера».
В детстве я терпеть не мог электрички и поезда. Вспомнил об этом в рождественском поезде на Брюгге. Салон озаряла совершенно праздничная иллюминация. Станции были аккуратно убранными и украшенными. То и дело в кадр окна вплывала огнями переливающаяся елочка. Заходили ряженые, пели грустную фламандскую песенку, изображали нищих, потряхивали металлическими кружками, просили конфет, в стихах, заунывно, но трогательно мелодично (видимо, так, с кружечкой для подаяния, и добралась со дна времен до наших дней поэзия — иначе было не выжить в истории кровожадного человечества, посреди болезней и голода). Я с удовольствием опустил несколько монет, будто в уплату за спектакль. Меня посетило странное чувство, точно я совершил некий обряд, прикоснулся к магии, причастился к искусству, тогда же я подумал, что эти слова надо бы писать с маленькой буквы, ничего великого, каждое слово мелким шрифтом: обряд, магия, причастие, искусство.
(Были еще кое-какие соображения, которые развиваю теперь.)
Эпос, как он мог сохраниться? А роман? На мой взгляд, роман — это излишество, придуманное хитрыми поэтами, чтобы доить людей, у которых завелись деньжата (перенесли театральное представление на бумагу; самый очевидный образец — Достоевский, комедиант со страшилками в мешке). Но как быть с теми, кто ради своего шедевра шел на страдания, писал безумное, заведомо зная, что не разживется? С детства в людях презираю жертвенность. На этом стоял Союз — на самоотречении: «я — ничто», — ожидалось, чтоб так думал каждый, готовясь закрыть своей грудью вражескую амбразуру или покалечиться во время разгрузки каких-нибудь труб. Они — зомби «великой эпохи» — до сих пор среди нас. Калеки, идеологические уродцы, последыши политических и социальных аварий… А где другие люди? Нетронутые Баалом, цельные, здоровые. Те, кто не знал двусмысленно прерванных фраз и грома среди ясного неба; чьи уши не заливал клекот перерезанной глотки; чьи сердца не терзал надрывный родительский плач. Они, должно быть, живут легко и чисто. Возможно, они знают, что такое agape и epimeleia. Да, где-то они есть, с любовью ко всему страстно вгрызаются в мир, который я ненавижу. Где? В каких измерениях? Скорей всего, они едут в этом же поезде, но — ввиду мною впитанных эмоций, которые страшным балластом тянут меня вниз, в мое подполье, — мне с ними не суждено пересечься. В ту ночь было много мыслей. На станции в Генте стояли дольше обычного, зашло много людей, вышло еще больше, наблюдая из моего кресла за карнавальной сутолокой, подумал следующее: я всегда считал, что проза должна повествовать сухим энциклопедическим языком о бедности, о болезнях, о муках плоти, о невзгодах, о бренности всего живого, только об этом, — но, может быть, я ошибался? Ошибался: потому что вокруг меня такая серость, потому что я не видел разноцветной жизни, не знал гармонии? Я тогда, в вагоне, воспрянул от этих мыслей. А вдруг это предвестие чего-то нового? Разве могло меня посетить такое откровение в Эстонии? Нет, конечно! Дело не в самой стране, — люди, с которыми я связан, они виноваты. Такого рождества, такой скоропалительной трансформации, такого праздничного настроения у меня еще не случалось.
Поезд весело летел мимо идеально расчесанных полей (кое-где вспыхивали глаза зверей), за окном перелистывались просеки, хутора, уютные городки с часовенками, одиноко тлеющий фонарь на миниатюрной баскетбольной площадке, — во все глаза я всматривался в зимнюю фламандскую ночь и думал, что в детстве ненавидел поезда, а теперь люблю, потому что в детстве меня в обмане держали, все вокруг меня было лживым, поддельным, и вот только теперь я прорвался к подлинной жизни. Раньше поезд для меня был пыткой, потому что приходилось ехать с родителями на проклятую дачу или еще хуже — с матерью в Кейла, где был какой-то волшебный Kaubamaja, в котором якобы можно было купить то, чего было нигде не достать: например, ткани. О, да! Ткани… из-за них было много беготни, мать их тщательно заворачивала, свертки были тяжелые, я — кто ж еще? — помогал нести сумки в ателье, мать записывалась в очередь к знакомой портнихе, мы ее караулили в проходном дворе, где был кинотеатр Oktoober, и все затем, чтобы нам с сестрой сшили одежду, которая, как мне казалось, ничем не отличалась от той, что носили другие. Когда ездили на дачу, отец выходил курить в тамбур, ему не сиделось, на лице всегдашняя сонная улыбка, рот приоткрыт, желтые зубы, жиденькие усы (один не желал расти вверх, и отец его подкручивал); битком набитый вагон, всегда укачивало. Летом бывало невыносимо душно. Небо липло к стеклу. Целый час сидишь и смотришь, как вздрагивает паутинка с уютно сморщенным паучком. Обязательно вляпаешься в жвачку.
Я так не хотел ездить туда, мне не нравилось Нымме (с этой станции было удобней; бабка говорила «Немме», была тогда еще жива, но с нами не ездила, с ней меня не оставляли, ей перестали доверять после того, как она дала мне поиграть с градусником и я его разбил: капельки ртути разбежались по полу, — это было прекрасно!), там была ужасная будка, в которой отирались хулиганы, они смотрели на меня как на ничтожество, сверлили хищными взглядами. Однажды я убежал с платформы, юркнул в раскидистый куст и не выбирался. Отец тянул клешни, мать заглядывала, раздвигая ветки, смеялась и говорила, чтоб не шалил и вылезал, махала рукой, которую протиснула совсем близко, хотела ухватить за рубашку, но я вжимал голову в плечи, стиснув губы, молчал, отодвигался от нее, с другой стороны подкрадывался отец, ногой прокладывая себе дорогу: «Павлик, поезд, сейчас подойдет поезд!» Куст шуршал, я молча сидел, поджав ноги, скрючившись, куст колебался, как пламя; я плакал, загибаясь, как сгорающая спичка. В конце концов, они меня выудили. Было бессмысленно сопротивляться. В те дни на дачке даже телевизора не было.
* * * У нашего марокканца есть теплица, в которой он круглый год выращивает пейот, Banisteriopsis caapi, кактусы Сан-Педро, салвию и разновидности Morning glory. Над теплицей есть пристройка, совершенно стеклянная комнатка, в которой почти ничего нет, кроме старых хрустящих циновок на полу, керосиновой лампы и нескольких пончо на крючках; ничего больше и не нужно, так как это комнатка для путешествий и медитаций. Марокканец — опытный практик с многолетним стажем. Его зовут Седрик, его отец перебрался в Швецию в начале семидесятых, женился на шведке, тогда он и родился; его отец играл и играет в блюз-бэнде, мать увлекается нью эйджем, оба смолят марихуану, само собой; с раннего детства, насколько Седрик помнит себя, они много переезжали из одной хиппанской деревушки в другую, никак не удавалось прижиться, всегда случались какие-нибудь скандалы, а теперь его родители поселились в общежитии Дундербакена и вполне там счастливы, а он решил во что бы то ни стало жить отдельно тут. Мы с ним долго говорили о lucid dreaming, Стивене Лаберже, Кийте Херне, и, наконец, Седрик предложил нам с Эдвином провести небольшую митоту. Улеглись на циновки, укрылись пончо, он выдал нам листья салвии, сказал зажать в зубах и ждать, чтоб сок медленно наполнял рот и гортань. На всякий случай рядом с нами он поставил посудины. Объяснил тем, что сок салвии очень противный. У меня почти сразу свело рот, минут через пять я перестал чувствовать гортань, будто мне сделали заморозку. Скоро в груди у меня началось «холодное горение», а затем в солнечном сплетении пробился ледяной горный родничок. Я знал, что Седрик наблюдает за нами, и он перевернет нас набок, если начнет рвать. Дальше все произошло очень быстро. Мне показалось, что в комнату кто-то вошел. Я встал, рядом никого не было, ни Эдвина, ни Седрика, и это меня ничуть не удивило. Я как-то объяснил это себе, меня заинтересовали окна теплицы, они были застеклены зеркалами без отражений, я распахнул одно, чтобы вдохнуть свежего ночного воздуха, и ты не поверишь: стекло выпало из рамы и полетело вниз… оно летело так долго, что, когда оно разбилось, мне показалось, будто прошло несколько лет; разбилось оно великолепно, звук был похож на фейерверк… я тут же вспомнил песню Die Explosion im Festspielhaus… и она зазвучала во мне — не в голове, а вокруг и внутри меня, я был в песне, будто песня была какой-то сферой… а потом разбилась сама ночь, распалась на миллиарды громких осколков, и каждый осколок, как алмазное зерно, мгновенно пустил корни, ветви, пророс и расцвел отдельным миром, и в каждом из этих миров стояла ночь, полная звезд и в бесконечность струящихся световых потоков, был я, выглядывающий из теплицы с листьями салвии в сжатых зубах, в голове моей летел и проворачивался зеркальный параллелепипед, летел, проворачивался, но не разбивался, и все это длилось бесконечно. Я так много успел увидеть и вспомнить там, точно я действительно существовал и мыслил независимо в каждом кусочке разбившегося стекла! Это было невероятно и невообразимо, и эта песня звучала и не кончалась. Я потом несколько дней ее слушал, напевал, бродя по острову, и островок этот мне казался бесконечным лабиринтом: новые лица, за каждым поворотом всегда новые лица… Несколько дней мне казалось, что я находился в центре вселенной, в самой завязи нашей планеты. Подумать только, ну что такое остров? Обыкновенный камень, мимо которого каждый день плывут корабли, летят самолеты — натовские истребители, пассажирские лайнеры. Этот остров как сито: сквозь него текут нескончаемые потоки туристов. У нас под окном каждый день, каждый час — одна и та же сцена: идут люди, достают фотоаппараты или мобильные телефоны, останавливаются перед собором, щелкают, стоят, смотрят, выстраиваются, позируют, фотографируют друг друга. И уходят… За ними другие… Недавно проходил какой-то конгресс, на который Ильвес приезжал. В тот день мы с Эдвином пили вино на побережье, сидя на скамейке, по променаду мимо прошел какой-то известный российский политик (имени не помню, знаю, что оппозиционер), был он в окружении дебелой свиты, все в модных европейских пальто и щеголеватых кашне, самодовольные, важные, шагали с такой значимостью, будто по карте мира, а не по асфальту. А там дальше были бомжи на лужайках, они всегда за крепостной стеной тусуются, пьют вино из пакетов и слушают Чака Берри и Бадди Холли на кассетной мыльнице, их смех и речь уже не отличимы от карканья ворон, криков галок и собачьего лая, впрочем, как и самих их тоже трудно разглядеть среди травы, кустов и камней. Группа политиков чинно прошагала мимо, окинули нас брезгливыми взглядами и пошли… Пусть идут! Пусть всегда проходят мимо! Пусть так и будет! Весь мир с удовольствием катится к черту, так почему я должен его хватать за масленые бока? Пусть себе катится!
Слушай, моя взвинченность, возможно, связаны с этой конференцией в Гетеборге, я себя там чувствовал довольно неуютно. Все время цитировали каких-то философов, я даже решил записывать, чтобы спросить тебя, не слыхал о таких: Northrop Frye, Frederic Jameson, Gadamer — немногие, кого успел записать. Один пожилой норвежский философ (я бы сказал, он походил на безумного изобретателя, которого насильно вынули из лаборатории, откуда он не вылезал лет тридцать, такой он был потертый и в себя углубленный),ссылаясь на выше перечисленные имена и многих других, кого не успел записать, на простеньком английском рассуждал, ни на кого не глядя (казалось, что говорил с самим собой и только собой), о том, что в большинстве случаев люди ничего не познают, а всего-то манипулируют знаками, не вдаваясь в подлинное значение слов и понятий, не говоря о самом означаемом, что ведет к бесчисленным дивиациям интерпретаций, уводящих человеческое сознание от самого познания, которое ничто иное как процесс: познать и знать окончательно, как утверждает этот норвежец, нельзя, можно только стремиться осуществлять процесс, который окончательным быть не может, т. е. нет незыблемых истин и каких-либо знаний, которые можно было бы передавать, о которых можно было бы писать, как и письмо само — фикция, условность. Очень интересно, и очень безумно. Как и сам старик. Одним словом, развлек. Выступил очень интересный американский культуролог, который — что примечательно — лет тридцать живет на маленьком скандинавском острове (название выскочило из головы), он говорил об апокалиптических тенденциях социального сознания, которые все чаще находят выражение в массовом и высоком искусстве — кинематографе, живописи, литературе, что, по его мнению, говорит о смерти государства в подсознании людей(апокалипсис не как конец света, а конец государства как системы), т. к. в большинстве им рассмотренных примеров одерживает победу индивидуум или маленькая община, а государство исчезает. Больше всех меня смутил выступавший вчера шведский журналист, который немного знает русский — достаточно, чтобы понимать людей и писать свои статьи; он много говорил о спирали Вико, в связи с нынешней ситуации в РФ, он туда ездил для общения с молодыми российскими активистами. За полгода там перебрал всех: от «Наших» до какой-то «Сети». Подробно читал о выступлениях новых молодых активистов в каком-то модном кафе — «Дети гламурного рая». Был на какой-то штаб-квартире молодых поэтов-писателей, там целый цех, кропотливо пишут один большой эпос, создают новую культуру, новое время, в котором, как они говорят, Путин — отец народов, отец наций. Неужели такое возможно? В наши дни?! Самым неприятным оказалось то, что ко мне обращались с этим вопросом, просили прокомментировать, а я был поражен больше них, и не знал, что ответить, мычал: не знаю… я из Эстонии… в России почти не бывал…
Рубрика: Отрывки
Зак Ибрагим. Сын террориста
- Зак Ибрагим. Сын террориста. История одного выбора / Пер. с англ. Д. Сонькиной. — М.: АСТ: Corpus, 2016. — 144 с.
Автору этой книги было всего семь лет, когда его отец, террорист Эль-Саид Нуссар, совершил свое первое преступление, застрелив в Нью-Йорке раввина Меира Кахане — основателя Лиги защиты евреев. Уже находясь в тюрьме, Нуссар помог спланировать и осуществить первый теракт во Всемирном торговом центре в 1993 году. Сегодня он отбывает пожизненное заключение, но остается примером и героем для мусульманских фанатиков во всем мире.
Зак Ибрагим с детства воспитывался в атмосфере фанатизма и ненависти. И все же отец-экстремист не смог заставить сына пойти по пути насилия и террора. История Зака доказывает, что никакое промывание мозгов не способно сделать из человека убийцу, если он сам того не захочет.2
Из сегодняшнего дня
Легко объяснить, почему убийственная ненависть — это навык, которому приходится учить. И не просто учить, а насаждать его принудительно. Дело в том, что это явление не встречается в природе. Это продукт лжи. Лжи, которую повторяют снова и снова — и, как правило, повторяют тем, у кого нет иных источников информации, доступа к альтернативному взгляду на мир. Это ложь, в которую однажды поверил мой отец и которую он надеялся передать и мне.
• • • То, что сотворил мой отец 5 ноября 1990 года, уничтожило нашу семью. Нам угрожали смертью, нас поносили в СМИ, мы были вынуждены скитаться и жили в постоянной нищете, тысячу раз пытаясь начать с нуля, и каждый раз эти попытки приводили к тому, что ситуация становилась только хуже. Имя отца было покрыто несмываемым позором, а мы оказались как бы побочным ущербом в этом позоре. Мой отец стал первым, насколько сейчас известно, исламским террористом, который совершил убийство на территории США. При этом он действовал при поддержке международной террористической сети, которая в конце концов назовет себя «Аль-Каида».
И его карьера террориста еще не закончилась.
В начале 1993 года мой отец прямо из своей камеры в тюрьме «Аттика» помог спланировать первый взрыв во Всемирном торговом центре. План привели в исполнение его старые единомышленники из мечети в Джерси-Сити, в том числе Омар Абдель Рахман — человек в феске и темных очках, которого пресса окрестила Слепым Шейхом. 23 февраля уроженец Кувейта по имени Рамзи Юсеф и иорданец Исмаил Айяд загнали взятый напрокат желтый фургон, набитый взрывчаткой, на подземную парковку под Всемирным торговым центром. Их жуткий план (в составлении которого принял участие и мой отец) заключался в том, что одна из башен ВТЦ рухнет на другую, и погибших будет не счесть. Но им пришлось удовольствоваться взрывом, который пробил тридцатиметровую дыру в четырех бетонных перекрытиях, ранив при этом более тысячи ни в чем не повинных граждан и убив шестерых, в том числе женщину на седьмом месяце беременности.
Моя мать всячески пыталась оградить своих детей от того, чтобы они узнали, какие ужасные поступки совершил их отец; и я сам не хотел ничего знать, — так что прошло много лет, прежде чем я до конца понял, насколько ужасны были эти преступления — и убийство, и взрыв. Почти столько же времени пройдет, пока я не осознаю, как я был зол на отца за то, что он так обошелся именно с нами — с моей матерью, моей сестрой, моим братом, со мной. В то время, когда происходили эти события, понять и вместить их было слишком сложно для меня. Страх, гнев и отвращение к самому себе въелись в самое существо моей души, но я даже не пытался как-то справиться с этим. Во время взрыва во Всемирном торговом центре мне было почти десять. Уже в то время я эмоционально был как компьютер, который отрубили от сети. К моменту, когда мне исполнилось двенадцать, меня до такой степени затравили в школе, что я подумывал о самоубийстве. И все это продолжалось лет примерно до двадцати пяти, пока я не встретил женщину по имени Шэрон, которая помогла мне осознать, что я чего-то стою — как и история моей жизни. История мальчика, которого учили ненавидеть, история мужчины, который выбрал другой путь.
• • • • Всю свою жизнь я пытался понять, как мой отец пришел к террору, и мне было очень тяжело осознавать, что в моих жилах течет его кровь. Я рассказываю историю моей жизни, чтобы дать читателям надежду и руководство к действию: я рисую портрет молодого человека, воспитанного в пламени религиозного фанатизма, но не принявшего путь насилия. Не то чтобы я считал себя каким-то особенным, но в жизни каждого из нас есть основная идея. И главная идея моей жизни пока что такова: «Выбор есть у каждого. Даже если тебя учили ненавидеть, ты все равно можешь выбрать путь толерантности. Ты можешь выбрать путь эмпатии».
Тот факт, что, когда мне было семь, мой отец оказался в тюрьме за неслыханное преступление, чуть не разрушил мою жизнь. Но этот же факт сделал мою жизнь возможной. Из-за решетки мой отец не мог наполнять меня ненавистью. И, что еще важнее, он не мог помешать мне общаться с людьми, которых он демонизировал, и узнать, что эти люди — обычные человеческие существа, о которых я мог заботиться и которые могли заботиться обо мне. Фанатизм несовместим с личным опытом. И все мое существо отвергло его.
Вера моей матери-мусульманки ни разу не была поколеблена во время наших семейных испытаний, но она, как и подавляющее большинство мусульман, кто угодно, только не ярый фанатик. Когда мне было восемнадцать и я наконец немного повидал мир, я сказал маме, что я больше не могу судить о людях по ярлыкам, которые на них наклеены: мусульманин, иудей, христианин, гей, гетеросексуал, — и что отныне я буду судить о человеке лишь на основании того, каков он на самом деле. Она выслушала, кивнула, и ей хватило мудрости произнести четыре самых вдохновляющих слова, которые я когда-либо слышал: «Я так устала ненавидеть».
У этой усталости была веская причина. Наши скитания дались ей тяжелее, чем нам, ее детям. Какое-то время она носила не только хиджаб, который покрывал ее волосы, но еще и никаб — головной убор, скрывавший все, кроме ее глаз: она была истой мусульманкой, а кроме того, она боялась, что ее узнают.
Недавно я спросил мать, понимала ли она, какие испытания ждут нашу семью, когда они с дядей Ибрагимом выходили из больницы «Бельвю» 6 ноября 1990 года. «Нет, — ответила она без малейших колебаний. — Я была обычной матерью, и жила обычной жизнью, и вдруг оказалась в круговороте безумия, моя жизнь была выставлена напоказ, мне пришлось прятаться от журналистов, общаться с властями, с ФБР, с полицией, адвокатами, мусульманскими активистами. Я словно переступила какую-то черту и перешла из одной жизни в другую. Я и понятия не имела, как это будет сложно».
Сейчас мой отец сидит в федеральной тюрьме в Марионе, штат Иллинойс, его приговорили к пожизненному заключению плюс пятнадцать лет без права условно-досрочного освобождения, и обвинения включают, помимо прочего, сговор о призыве к мятежу, убийство в целях вымогательства, покушение на убийство сотрудника Почтовой службы США, убийство с использованием огнестрельного оружия, покушение на убийство с использованием огнестрельного оружия и незаконное владение огнестрельным оружием. Честно говоря, у меня все еще остались по отношению к отцу какие-то чувства, нечто, что я не смог полностью изгладить из души, — нечто вроде жалости и чувства вины, — хотя ниточка этих чувств и тонка, словно паутинка. Трудно осознавать, что человек, которого я когда-то звал Баба, теперь живет в клетке, а нам всем пришлось сменить имена от ужаса и стыда.
Я не навещал своего отца 20 лет. И вот почему.
Елена Минкина-Тайчер. Там, где течет молоко и мед
- Елена Минкина-Тайчер. Там, где течет молоко и мед. — М.: Время, 2016. — 288 с.
Что есть любовь? Преданность Родине, тоска по дому, обаяние ребенка, страсть женщины? Роман «Там, где течет молоко и мед» об обетованной Любви, музыкальная притча о четырех поколениях большой еврейской семьи, ветвистом дереве, срубленном под корень и возродившемся вновь. В книгу вошли также три повести — три истории в монологах, словно три пьесы, продиктованные жизнью — о страсти и усталости, надежде и вечном непонимании друг друга, смерти, предательстве, отчаянии.
Полания
И это называется выходной день! Суп, стирка, ковры надо пропылесосить. Да еще все время боюсь прозевать телефон. Можно, конечно, перенести его из салона и поставить здесь, но вдруг он соскользнет с кухонного стола? И как это люди обходились совсем без телефона?
Раньше ковры — это была обязанность Авива, но сейчас, когда он возвращается на выходные со своим ужасным рюкзаком и с автоматом и прямо на пороге начинает засыпать, просто сил нет просить его о чем-нибудь.
А погода какая хорошая. Не то что летом. Опять все зазеленело, солнышко такое мягкое. Можно, конечно, и не возиться с этим супом, не жарить лук, кто сейчас готовит клецки! Да, сегодня и супы уже почти не варят, в крайнем случае намешают из пакетика. Бр-р-р! Пока я жива, в моем доме не будет этих синтетических супов!
Я — полания*. Может быть, это все объясняет. Мой муж любит шутить, что полания не происхождение, а диагноз. Такие вот у него шутки. Его любимый анекдот: «Зачем
полания встает в пять утра и варит мужу кофе? — Чтобы, когда муж встанет в шесть, кофе уже был холодным».Хотя я родилась совсем не в Польше, а здесь, в Хайфе, на верхнем Адаре. А уже потом родители купили квартиру на Кармеле. Тогда он еще не был престижным районом, цены вполне умеренные, и много воздуха. На горе буквально другой климат, вы можете месяцами не включать кондиционер. Впрочем, кто этого не знает! Так что теперь я обладательница огромной квартиры в фешенебельном месте. Целое состояние! При желании можно спокойно купить две квартиры на Адаре, только поменьше, конечно. Или в Рамат Ицхаке. Новый район, тоже на горе. Но там окна смотрят прямо на заводские трубы в промзоне. Бр-р-р! Отвратительное зрелище!
Мои родители познакомились в молодежном движении. Мы все участвовали в молодежном движении, в левом, разумеется, хотя моя дочь Таль и посмеивается сейчас над нашими идеалами. Недавно я встретила бывшего товарища по нашему движению, Эли Айзенберга. Толстый солидный доктор-анестезиолог в большой черной бороде и почти лысый.
Лысый, представляете! Но все в тех же мятых штанах и футболке без ворота. Милый прежний Айзенберг!
— Ты знаешь, — возмущенно запыхтел Эли, размахивая руками, — мой сын на бар-мицву потребовал купить ему костюм! И галстук! Нет, ты скажи, кто его растил?! Ты можешь представить меня в галстуке?
Мы не признавали галстуки. Мы не признавали костюмы, платья и всю эту ерунду, принятую у религиозных. Еще не хватало, чтобы нас с ними путали! Мы хотели равноправия, мирного созидания, дружбы с соседями, транспорта
по субботам. Нельзя стоять два тысячелетия, упершись носом в Стену! По вечерам мы бродили по улицам и пели песни о свободной родине. Но кашрут соблюдали почти все. Даже кибуцники, хотя мы старались про это не говорить. Я и сейчас не люблю смешивать молочное с мясным, в конце концов, это же просто вредно для желудка!— Представляешь, сказал Айзенберг, — заведующий хотел влепить мне дежурство на Песах! Прямо на вечер! Видите ли, я не религиозный! Знаешь, что я ему ответил? «Я тысячу раз мог переехать в Америку, причем на совершенно другую зарплату, о чем ты прекрасно знаешь. Но я живу в нашей нелепой и нескладной стране именно потому, что только здесь у меня есть все права сидеть за столом в Пасхальный седер, спокойно сидеть в собственном доме, с собственными детьми и читать Пасхальную агаду так, как ее читали мой отец и мой дед и, я надеюсь, будут читать мои сыновья! И ты можешь переставлять кого угодно, христиан или мусульман, меня это совершенно не интересует. Я отработаю за них в Рамадан, или на Рождество, если хотите!»
Милый прежний Айзенберг! Наверное, мы все выглядим нелогичными, но как хорошо, что друг другу ничего не надо объяснять.
Я живу в квартире моих родителей. Так мы решили после развода. Мой муж выплатил мне половину за нашу прежнюю квартиру, а я отдала эту половину брату, правда, еще немного добавила, конечно. Хотя, брат мог бы и уступить. Ему этот дом совершенно не нужен. Большую часть времени он вообще проводит в Америке. У него там бизнес. По крайней мере, ему так кажется. Почему я так говорю? Потому что этот бизнес, если он существует в реальности, должен
иногда приносить доход. А моему брату он приносит одни убытки. А ведь ему уже почти пятьдесят. В прошлом году от него ушла жена, не вынесла скандалов и долгов. Пока он жил здесь, я еще ухитрялась их мирить, в принципе, у него доброе сердце, хотя, честно говоря, мало кому пожелаешь такого мужа. Может быть, мы отвечаем за грехи каких-то предков? Хотя, по-моему, это не очень справедливо, мы ведь даже не знаем своих ближайших родственников за исключением родителей. Покойных родителей, я хотела сказать.Нет, в Польше я была. Нас возили со школой. Все знают эту программу — памяти Катастрофы. По местам лагерей уничтожения. Так странно было ходить по городу и понимать речь на улицах. И надписи. В совершенно чужой стране! Нет, я плохо говорю по-польски, но понимаю свободно. Это от родителей. И идиш. Все мои приятели понимают идиш, хотя для нас это лишнее знание, конечно.
Мы говорили только на иврите, и в школе, и в нашем движении. Я запрещала маме даже обращаться ко мне попольски в присутствии других детей. С какой стати я должна была терпеть эти насмешки и издевательства! Тем более я была настоящей коренной саброй.
С тех пор многое изменилось. Посмотрите, русские вообще не хотят учить иврит. Вы можете это понять? Впрочем, Израиль для них просто кормушка. Возможность получить пособие и льготную машину! У нас другой родины не было. Если только Польша с ее лагерями уничтожения. Впрочем, не стоит об этом. Ненавижу политику!
А если поставить телефон на табуретку у стола? Так и он не упадет, и я не буду привязана к салону. Ведь надо же, наконец, закончить обед! Через час Таль вернется с занятий, привезут из школы Лею. Слава богу, что организовали наконец такую хорошую подвозку. А то приходилось все бросать и мчаться за ней в самый час пик. Но могли бы сделать и бесплатную. Мало того что у тебя ребенок аутист, так ты еще должен за все отдельно платить!
Нет, конечно, я и сама могу позвонить, что здесь особенного! Для того и придумали мобильные телефоны, чтобы можно было узнать, где твой ребенок. Но я обещала. Даже поклялась. Какой смешной мальчик, он так и сказал: «Мама, поклянись, что ты не будешь мне звонить! Не будешь делать из меня посмешище». И все потому, что первый месяц я приезжала к нему через день. Я старалась приходить незаметно, стояла в тени за палатками, но эти паршивцы, конечно, замечали! «Авив, твоя польская мамаша уже здесь!»
И зачем, спрашивается, кричать? Я просто хотела убедиться, что там нормальные условия. Если у вашего ребенка до десяти лет была беспрерывная астма, а потом начались такие же беспрерывные синуситы, разве вы не будете беспокоиться, как он дышит в этой ужасной пустыне?
Стиральная машина опять грохочет, всегда так при отжиме, чини не чини. Давно пора новую купить. С моей-то зарплатой! Но Меира это, конечно, не интересует, он алименты на детей платит, что еще! Все, отстучала, отжимает она все-таки неплохо, нечего говорить. Конечно, развешивать я сейчас не буду. Тут время нужно, все телефоны прозеваешь. Нет, детям я не поручаю, им лишь бы побыстрее, а ведь главное — растянуть хорошо, особенно на швах. Тогда можно вообще не гладить.
Слышала бы моя мама, что я стелю неглаженое белье! Вы не представляете, она же всю постель крахмалила! И только домашним крахмалом. Сама заваривала в кастрюльке
какую-то гадость, похожую на клей. Все простыни у нее были абсолютно белые, с ручной вышивкой по краям. С ума можно сойти! Она их откопала через десять лет после войны. Да, да, откопала из-под земли в их бывшем огороде. Ее родители закопали ночью перед уходом в гетто, у них там что-то вроде погреба было. Вот они и решили на время спрятать, завернули в клеенку и ложки, и простыни, и скатерти. Тоже с вышивкой! Кажется, это называется макраме. Все сохранилось! Еще место очень удачное оказалось, прямо под яблоней, легко запомнить. Мама сразу нашла, хотя перед войной ей было десять лет. Ни родителей, ни братьев, ни соседей, никого не осталось, а скатерти и простыни целехоньки!Нет, мама не рассказывала, как она спаслась. Мама никогда ничего не рассказывала и не спрашивала, она констатировала факты:
«Это платье тебе не идет, оно подчеркивает бедра, а они и так у тебя слишком широкие, а грудь, наоборот, плоская, лучше надень блузку с рюшами».
«Девочка из приличной семьи не должна так громко хохотать и петь, к тому же у тебя нет слуха, лучше сядь в сторонке и помолчи».
«Нет ничего отвратительнее нестриженых ногтей, к тому же у тебя короткие пальцы, незачем обращать на них чужое внимание».
Моя подружка Яэль отращивала ногти неимоверной длины, и носила обтягивающие платья, и хохотала на переменках так, что казалось, стекла вылетят из рам. В доме у них гремела музыка, на спинке стула запросто мог висеть лифчик, в прихожей вразнобой стояли туфли, а в раковине
мокла вчерашняя посуда. И при этом Яэль была счастливой. Даже имя у нее было счастливое, звонкое, без всякой связи с нудными праведниками из Торы. Да, я же не сказала, что меня зовут Хавой. В честь маминой погибшей матери. Попробуйте что-то возразить! По этой же причине моему брату досталось не менее удачное имя Мордехай.А Яэль прежде звали Ольгой. Прямо как дочку Ротшильда. Нарочно не придумаешь! Но ее мама не упиралась в имена предков и прочие глупости. Новая страна, новое имя, чего лучше!
Ну да, Яэль была русская. Они приехали втроем из какойто прибалтийской республики. Оказывается, этих республик несколько, две или три, а может, и все четыре! Вернее, они приехали вдвоем — Яэль и ее мама на седьмом месяце беременности. Авиталь уже здесь родилась. Вы думаете, ее маму смущало, что она — одиночка, да еще дети неизвестно от каких пап? Вы думаете, она принялась прибирать соседские виллы, горестно вздыхать и одевать детей в старые платья, подаренные хозяйками этих вилл? Как бы не так! Двух лет не прошло, как она уже работала в прес тижной электронной фирме. Никто и не заметил, когда она успела выучить иврит и окончить курсы! А по вечерам она гуляла в парке со своими прекрасными дочерьми, в прекрасных платьях, с прекрасными белокурыми волосами и прекрасными современными именами. Можете не сом неваться, еще через полгода у нее появился поклонник, или, как теперь говорят, друг — разведенный адвокат в серебристом «форде» последней модели. Другая женщина может всю жизнь прожить в Израиле и не найти такого друга! На выходные друг увозил маму Яэль в своем «форде» в какие-то роскошные поездки, а я шла ночевать в эту веселую суматошную квартиру, где мы чуть не до утра шептались, жевали корнфлекс, любовались спящей белокурой Авиталь, рассказывали друг другу страшные, как нам тогда казалось, секреты. И вот однажды глухой дождливой ночью Яэль рассказала мне, как она жила с мамой и папой в чудесном городе с большими старинными домами, город назывался Рига, я до сих пор помню это странное слово. Папа был пожилой добрый и очень тихий, а мама наоборот — ужасно молодая и веселая хохотушка. И каждый день ее провожали с работы студенты, потому что она преподавала физику в университете. И вот однажды Яэль увидела как один студент, высокий и прекрасный, как молодой король, стал перед мамой на колени и принялся обнимать ее ноги. А мама вдруг заплакала. А потом папа ушел из дома, а на его месте стал жить этот студент, и ночевал в папиной постели, и брился в их ванной, вкусно поскрипывая блестящей бритвой, и пел по утрам на кухне, мешая кофе и откидывая назад длинные светлые волосы. А потом мама забеременела, ее все время тошнило, она совсем не могла есть, но держалась, пока не потеряла сознание прямо на лекции. Маму отвезли в больницу, а Яэль, которой уже исполнилось 14 лет, осталась одна в квартире с прекрасным студентом, и однажды ночью он встал на колени у ее постели, как когда-то стоял перед мамой, и принялся целовать ее голые ноги, и живот, и груди, и она понимала, что происходит что-то ужасное, но не могла его оттолкнуть, а наоборот, обняла дрожащими немеющими руками. А потом студент еще несколько раз приходил к ней, и обнимал, и качал на руках как маленькую, и только просил ничего не рассказывать маме. И когда мама вернулась наконец из больницы, она не могла смотреть на нее от стыда и ужаса, и молчала, и ревела в подушку, а потом
все-таки рассказала, трясясь и задыхаясь от слез. А мама только гладила ее по голове, целовала и гладила по голове, а сама раскачивалась из стороны в сторону, как заводная кукла. А потом они очень быстро собрались и уехали в Израиль. Вот и всё.
* В Израиле принято называть евреев, выходцев из разных стран, по стране исхода: русские, англичане, румыны. Полания — еврейка из Польши.
Майя Кучерская, Татьяна Ойзерская. «Сглотнула рыба их…»: Беседы о счастье
- Майя Кучерская, Татьяна Ойзерская. «Сглотнула рыба их…»: Беседы о счастье. — М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2016. — 448 с.
Кому беседовать о счастье, если не психологу — почти эксперту по счастью — и прозаику, который ищет его для всех своих героев? Потому и книгу «Сглотнула рыба их…» Майя Кучерская и Татьяна Ойзерская написали вместе. Каждый делает то, в чем мастер: Майя рассказывает истории и задает вопросы, Татьяна Борисовна отвечает, комментирует и приводит примеры из практики. Истории, рассказанные Майей Кучерской, складываются в отдельный, новый цикл. Формула книги — «Ключи от счастья женского… Пропали! думать надобно, Сглотнула рыба их…»
Глава седьмая
Просвещение чувств
1. Языки любвиМ.К. Мы остановились на том, как важно говорить
с любимыми людьми на языке, который им близок, понятен. Означает ли это, что у любви есть
свои собственные, не побоюсь этого слова, любовные языки?Т. Б. Да, именно. Психологи выделили несколько таких языков, и первый из них — слова поддержки.
Одобрение необходимо всем людям и в любом
возрасте. Неодобрение возвращает нас в детство,
когда мы страдали от слов родителей: «Посмотри на себя! На кого ты похож?!» Осуждающие
слова причиняют нам привычную с детства боль,
за которой по пятам следует злость. А злость, которую не выпускают наружу, становится ненавистью.Любовь — добра. И одобрение — лучший способ ее передать. Важно не просто говорить добрые слова, но говорить их так, чтобы им верили. А верим словам мы тогда, когда их смысл не
расходится с тоном, каким их произносят.
Проявлением любви является также качественное время — когда наше внимание безраздельно
отдано другому. Именно оно дает нам ощущение близости.Вы никогда не замечали, что в ресторане можно сразу определить, где за столиками семейные
пары, а где — нет? Те, которые пришли на свидание, смотрят друг на друга и разговаривают. Семейные пары смотрят по сторонам. Они рядом,
но не вместе.Когда отец сидит на полу с двухлетней дочуркой
и катает с нею мячик, его внимание сконцентрировано не на мячике, а на его дочери. Если же,
катая мячик, он разговаривает по телефону, его
внимание рассеянно — он вовсе не с дочерью.
Ключевым аспектом качественного времени является сфокусированное на человеке внимание.
Некоторые мужья и жены думают, что проводят
время вместе, в то время как в действительности
они просто живут по соседству друг с другом.М.К. Потому что любовь — это отданность другому.
Собственному ребенку, игре с ним и полной погруженностью в построение, например, дворца
из лего. Мужу. Определенные отношения названы словом «отдаваться». Но в семье мы не отдаемся, а отдаем. Хочется сказать — служим.Т. Б. И хочется правильно, потому что еще одним —
очень важным для некоторых — языком любви
является служение. Да-да, то самое, о котором вы
говорили, начиная разговор о супружестве.М.К. Опять выдохну, как и с кротостью: наконец-то!
Т. Б. Но служить-то тоже надо уметь! К сожалению, чаще служение выглядит так: «Я служила
ему двадцать лет. Я прислуживала ему во всем.
Я была его ковриком для ног, а он не обращал
на меня никакого внимания, унижал меня перед
своими друзьями».М.К. Понятно, рано я выдохнула.
Т. Б. Эта женщина «служила» мужу в течение двадцати
лет, но ее действия не были выражением любви.
Именно против такого «служения» я и протестую.
Или другая жена — выросшая в семье, где служение также было основным языком любви. Она
часами стоит на кухне, готовит изощренные
блюда, а ее муж любит макароны с сыром. Он
говорит, что не хочет, чтобы она тратила столько
времени на готовку, тогда у них было бы больше
времени друг для друга, а она обижается и считает, что муж ее не ценит.Или наоборот, муж приходит с работы первым,
готовит еду, моет посуду и делает много чего
еще в доме ради жены, стараясь взять на себя
груз домашних дел, а жена чувствует себя обделенной. Ей хочется, чтобы он просто посидел
с ней, обнявшись, на диване, выслушал бы ее.
Потому что она чувствует, что любима, когда ей
уделяют качественное время.Для многих людей прикосновение является основным языком любви. Прикосновения необходимы не только ребенку, эмоциональное здоровье и развитие которого зависят от того, есть ли
у него физический контакт с матерью. Оно совершенно необходимо и взрослым. Некоторые
психологи даже утверждают, что для эмоционального здоровья нам необходимо не менее
семи объятий в день.Без тактильного контакта трудно почувствовать
себя любимым. Однако физическое прикосновение может и улучшить, и разрушить отношения. Оно может вызвать и любовь и ненависть,
если тот, кто нас касается, не чувствует, как его
прикосновения действуют, и вынуждает нас переносить неприятные нам ощущения.Понятно, что для мужчин язык прикосновений
необычайно важен — попробуйте убедить мужчину, что вы его любите, если отказываете ему
в физической близости. И эта тема одна из самых трудных для обсуждения между супругами.
Еще одним, последним по значению, языком
любви являются подарки. Вспомните, как приятно, когда кто-то своим подарком нам угодил.
Угодил потому, что знает, что мы любим, чем
можно нас порадовать. А значит, он внимателен к нам, и именно это мы и ценим. Иногда
подарок — некое баловство, и это важно тоже,
потому что мы чувствуем, что дать сверх необходимого можно только по любви.Чтобы вернуть теплоту в отношения, восстановить контакт, необходимо, прежде всего, научиться общаться на том языке, который понятен
другому. Конечно, хорошо, если это стремление
обоюдное, но даже усилия, принятые в одностороннем порядке, могут изменить ситуацию
к лучшему.И людей этому надо учить.
Искусство слушать
Игорь Чепуров работал инженером в банке. Он должен
был следить за системами видеонаблюдения, сигнализацией, но на самом деле исполнял все, что нужно по
технической части: чинил, паял, подключал, отвечал
и за электричество, и за телефонную связь. Был Игорь
мастер на все руки, оттого и числился уже год как на
две ставки, и изматывался после работы так, что домой
почти приползал. Дома его поджидала Людка. И пятилетний Сема, но обычно уже в полусне.Людка вкусно кормила, следила за его одеждой
и обувью, и Игорю до сих пор очень нравилась, одно
было тяжело… жена любила поговорить. И когда?
Вечером! Когда Игорь вообще без сил. И ведь как заведет прям за ужином. Чтобы спокойно поесть, с чув-
ством-толком посмотреть Спорт-ТВ, расслабиться
впервые за день — нет, этого никогда не было, телевизор работал без звука, а звуком работала Людка. Ля-ля-
ля, ля-ля-ля. Му-му, му-му. Ты меня слушаешь вообще?
А я ему говорю, а он мне… нет, ты представляешь?
Игорь измученно мычал что-то в ответ. Одно спасение — Сема. Сын плохо засыпал, звал к себе, и жена
регулярно к нему убегала.Так продолжалось почти весь этот трудный год,
пока терпение у Игоря не кончилось. И вот однажды,
вернувшись с работы, он так и сказал: «Хочешь, чтобы
мы жили вместе дальше, за ужином со мной не разговаривай. Дай спокойно пожрать. Под телевизор». Но
Людка на это, конечно, возмутилась: а обсуждать всё
когда? Потом. Да когда потом, целый день тебя не вижу,
целый день ты на работе пропадаешь, а у меня… и пошла.
Он глянул. Замолчала, но на следующий день всё снова
повторилось. Ля-ля, тополя, ку-ку, кукареку. А вот Семку
в садике обижают, а я их воспитательнице говорю…Не поняла, в общем. Рявкнул Игорь снова да погромче прежнего. Снова всё объяснил. И Людка, наконец, стихла, причем надолго. Стало Игорю хорошо —
жена молчит, сын спит. По выходным, впрочем, они
общались, но тоже особо лезть к себе он не позволял,
надо ж когда-то и отдохнуть человеку.И тут вызывает Игоря в банке начальник отдела,
Валерий Евсеич, Людкин родственник, благодаря ему
Игорь здесь и оказался. Мужик уже не молодой, но надежный — полжизни проработал главным конструктором на крупном заводе. Вызвал и странно так на Игоря
смотрит. Будто смеется, а вроде и серьезный.— Вот что, Игорек. Тут партнеры нас донимают,
«Институт саморазвития», тренинги бесплатные предлагают и буквально давят уже. Хотят отдариться, мы им
кое в чем сильно помогли. Я их футболил-футболил, но
отказываться дальше уже неудобно. И начальство меня
замучило, пошли кого-нибудь да пошли. А мне жалко,
что ли? В общем, решили, ты пойдешь. На какой-нибудь
их однодневный тренинг.— Я? Куда? — Игорь даже поперхнулся от изумления. — Да я-то при чем, Валерий Евсеич, мне работать надо, какой еще тренинг?
— От работы ты, само собой, освобождаешься.
А какой тренинг… да тут целый список. Что тебе больше нравится? — Евсеич погрузился в какой-то сайт
и начал зачитывать: — «Знакомства без отказа: в бизнесе
и личной жизни…» как тебе? «Искусство соблазнения»,
«Как очаровать мужчину с первого взгляда», так, ладно,
это не то. «Бесконфликтное управление персоналом»,
«Как жить эффективно». А вот, может, это? «Как стать
счастливым в семье: искусство общения». Как раз сегод-
ня после обеда, годится?Игорь был так потрясен, что ничего не ответил.
А Валерий Евсеич уже набирал номер.После обеда Игорь сидел в небольшом зале в мягком синем кресле в компании молодых и не очень женщин. Из мужчин он был здесь один. Вела тренинг тоже
женщина, полногрудая, большая, но шустрая; долго тянуть она не стала и сразу же сказала грудным, чуть гипнотизирующим голосом, что главное в семейной жизни — общение, нужно уметь говорить друг с другом,
слушать друг друга и обсуждать все проблемы вместе.
Начать иногда трудно, но существуют простые фразы, которые помогают сделать первый шаг. Например:
«Давай спокойно это обсудим» или «Знаешь, я думаю,
нужно об этом просто поговорить», а где-нибудь в середине разговора надо произнести «Я тебя понимаю»,
еще лучше «Как же я тебя понимаю», и не забывать подбадривать собеседника словами поддержки. Да, важно
эти фразы произносить в предельно спокойной обстановке, ни в коем случае не во время конфликта, а на-
пример, уже улегшись спать, в супружеской постели.
Игорь слегка смутился, ведущая особенно не церемонилась, оглянулся вокруг: все благоговейно внимали, некоторые даже строчили за лекторшей в свои блок-
нотики. Интересно, так и выводили «в супружеской
постели»?— Но прежде чем приступить к тренировке и оттачиванию практических навыков, — продолжала как
ни в чем не бывало ведущая, — давайте посмотрим
ролик.Тут она включила приятную психоделическую
музыку, свет в зале погас, на экране появились симпатичные мужчина и женщина, видимо, муж и жена, они
о чем-то взволнованно разговаривали и, кажется, собирались поссориться. Что случилось дальше, Игорь так
и не узнал. Как всегда не высыпался, а тут музыка, темнота — кто это выдержит? Он проснулся уже под конец
тренинга, женщины в зале были сильно возбуждены,
что-то они, видимо, только что бурно обсуждали, а когда увидели, что он открыл глаза, засмеялись.
«Мы пытались вас разбудить, но… не получилось!» — пояснила ведущая.Вечером Игорь пришел домой не такой уставший,
как обычно. Все-таки полдня не работал плюс поспал
на тренинге. После ужина поиграл даже с Семой, построили домик из Лего, поселили в него пластмассовую
собачку и мальчика. И Людка более-менее молчала, как
всегда в последнее время, но поздно вечером, когда уже
легли спать, все-таки не выдержала.— Знаешь, Сема наш «р» не выговаривает, нужно
заниматься с логопедом. Сегодня сходила с ним на первое занятие, а этот логопед… — и Люда вдруг всхлипнула.Тут Игорь медленным гипнотическим голосом,
в точности, как ведущая на тренинге, проговорил:— Подожди-ка, давай это просто спокойно обсудим.
Людка так и подскочила.
— Что?
— Ничего. Предлагаю всё это спокойно обсудить.
Дальше случилось невероятное. Людка крепко обняла Игоря, еще немного поплакала, а потом заговорила. Она говорила и говорила: про логопеда, про то, что
логопед этот, кажется, совершенно не профессионален,
про школу для Семы, пора было уже об этом задуматься,
про Верочку, ближайшую подругу, которая собралась,
кажется, разводиться с мужем. Игорь иногда вставлял:
«Как же я тебя понимаю», а изредка поддерживающе:
«Так само собой». В конце концов он тихо уснул и произносил эти фразы сквозь сон, а потом и не произносил
вовсе. Но Люда всё говорила, вздыхала, улыбалась и, наконец, замолчала, задумалась.«Неужели письмо мое дяде Валере так подействовало, а я-то тряслась, боялась, что наврежу. С другой
стороны, ничего особенного я там не написала, только,
что поговорить никак не могу с собственным мужем.
А может, это и не письмо, а просто добрый он у меня,
Гоша, сегодня не так устал, и надо же, как внимательно
он умеет слушать. Как сочувствует!»С тех пор они жили душа в душу. Перед сном
Игорь произносил заветную фразу, одну, другую, Люда
начинала говорить, он вставлял третью, дальше все шло
как по маслу.
Инна Осиновская. Поэтика моды
- Инна Осиновская. Поэтика моды.— М.: Новое литературное обозрение, 2016. — 144 c.
Мода — не только история костюма, сезонные тенденции или эволюция стилей. Это
еще и феномен, который нуждается в особом описательном языке. Данный язык складывается из «словаря» глянцевых журналов и пресс-релизов, из профессионального словаря
«производителей» моды, а также из образов, встречающихся в древних мифах и старинных
сказках. Эти образы почти всегда окружены тайной. О диктатуре гламура,
общими чертами между книгой рецептов и глянцевыми журналами, подиумными показами и священными ритуалами, а также пряхами, портными, башмачниками в сказках и колдунами и магами рассказывает в книге «Поэтика моды» журналист, культуролог, кандидат философских наук Инна Осиновская.Мода и еда
Я знаю столько рецептов, может воспользоваться этим —
выпустить ветчину или ростбиф?Кристиан Диор
Гламур наивен, роскошь серьезна, а мода легкомысленна. Мода не прочь пошутить и поиронизировать, она любит играть и шокировать. Мода любит парадоксы, диссонанс, абсурд. И если говорить о моде на ее же языке игры и абсурда, почему бы не провести странное, диссонансное сопоставление, рассмотрев
мотив еды в поэтике моды. Мода и еда: на первый взгляд такое сопоставление
кажется странным, но это не так. В поэтическом поле моды, в ее языке присутствует множество связанных с едой образов, которые работают на разных
смысловых уровнях. Даже на бытовом языковом: в английском языке слово
«dress» означает и «платье», и «одеваться», и «приправлять пищу».Во многом связь еды и моды реализуется через отрицание, отторжение.
Еда, страсть к поглощению пищи, кухня — это «подсознательное» моды. Это то,
что модный дискурс изгоняет из себя, помещая в глубины своего «сознания».
«Эльза Скиапарелли утверждала, что одежда не должна подгоняться к человеческому телу, а, скорее, тело должно приспосабливаться к одежде», — напоминает
Ларс Свендсен в своем исследовании «Философия моды» (Свендсен 2007: 113).«Подгонка» тела под одежду сопровождается изнуряющими диетами,
зачастую ведущими к анорексии. Мода создает культ диет — ограничений
в пище. Поглощение пищи в больших количествах, удовольствие от еды и пребывание в поле модного — взаимоисключающие вещи. Жан Бодрийяр объясняет это взаимоотношение историко-культурными факторами: «Прежние
общества имели свою ритуальную практику воздержания. <…> Однако различные институты поста и умерщвления плоти вышли из употребления как архаизмы, несовместимые с тотальным и демократическим освобождением тела»
(Бодрийяр 2006: 184). В итоге в современном обществе произошла подмена
в устремлении этой агрессии по отношению к телу, и «весь агрессивный враждебный импульс», больше не контролируемый и не устраняемый религиозны-
ми социальными институтами, «хлынул сегодня в само сердце универсальной
заботы о теле», благодаря чему «тело становится угрожающим объектом…
[который нужно] умерщвлять с „эстетическими“ целями, с глазами, устремлен-
ными на тощие, бестелесные модели журнала Vogue» (там же). Иными словами,
агрессия никуда не делась, и в практиках религиозных постов и в «ритуалах»
модного воздержания в еде — один и тот же посыл, один и тот же импульс,
смысл которого в уничижении телесности. Но, пожалуй, именно эта сегодняшняя табуированность всего, что связано с едой в мире моды, и делает образы,
относящиеся к еде, такими устойчивыми составляющими поэтики моды.Потреблению пищи в современном мире, независимо от соотнесенности
с миром моды, нередко сопутствует чувство вины (Барт 2003: 199). Удовольствие от еды — это провинность, и здесь опять же заметен историко-культурный религиозный след. Чревоугодие — один из семи смертных грехов в католической традиции, один из восьми в православной.
p>Чувство вины также сопровождает и «потребление» одежды. «Обжора»
от моды — это раздираемая угрызениями совести покупательница одежды,
особа, зависимая от самого процесса покупок, ее принято, вслед за британской
писательницей Софи Кинселлой, которая ввела этот термин в своем романе
2000 года, называть «шопоголиком» по аналогии с алкоголиком.Питаясь этим чувством вины, индустрия моды разыгрывает важный козырь: соблазн. Соблазн, как подмечали и Жан Бодрийяр (Бодрийяр 2006: 173),
и Жиль Липовецкий (Липовецкий 2012: 228), — механизм, с помощью которого мода «лучше продается». Там, где есть запретный плод, есть вина, а значит,
есть соблазн, и там, где есть соблазн, есть желание заполучить соблазняющий
объект. Модный соблазн провоцирует гиперпотребление, гиперприбыль —
прибыль от продажи не самых нужных вещей. «Доставьте себе маленькую радость, купите еще одни неудобные туфли, еще одну маленькую сумку, еще одно
платье, которое наденете один раз» — таков смысл модного послания, транслируемого через глянцевые журналы, рекламу и т.д. И механизм соблазнения, как
вирус, продолжает действовать и после совершения покупки: соблазненный
рекламой потребитель носит одежду не затем, чтобы защититься от холода
или прикрыть наготу, а затем, чтобы соблазнять — и не столько в физическом
смысле, он сам становится «рекламоносителем», подталкивая других к потреблению. Поэтому производители одежды и аксессуаров уровня luxury нередко
прибегают к помощи знаменитостей — дарят им платья, туфли, украшения,
в которых представители шоу-бизнеса появляются на публике. А глянцевые
журналы делают этим вещам бесплатную рекламу, публикуя красочные обзоры
нарядов с красной дорожки какого-нибудь кинофестиваля. «Обольщение и соблазнение обособились от старинного ритуала и традиции, они начали свою
длинную современную карьеру, индивидуализируя, пусть и частично, знаки
одежды, идеализируя и обостряя чувствительность внешнего вида. Модная
одежда, являя собой динамику излишеств и преувеличений, изобилие хитрых
уловок, подчеркнутой изысканности, свидетельствует о том, что мы уже оказались в современной эпохе соблазнения, в эпохе эстетики индивидуальности
и чувственности», — пишет Липовецкий в книге «Империя эфемерного. Мода
и ее судьба в современном обществе» (Липовецкий 2012: 70).Сходство еды и моды не ограничивается чувством греховности, сопутствующим потреблению в обоих сферах. Основанием для плодотворного сопоставления может служить большая социальная роль как пищи, так и предметов
гардероба. Об этом пишет Ролан Барт в «Системе моды». Пища служит не
только насыщению, а одежда — не только сокрытию наготы. И то и другое —
коммуникативный знак: «Сколь бы ни была функциональна реальная одежда,
она всегда содержит в себе и сигналетическое начало, поскольку любая функция является как минимум знаком себя самой; рабочая спецовка служит для
труда, но одновременно и демонстрирует этот труд», а пища, продолжает Барт,
«связана одновременно и с физиологической потребностью, и с некоторым
семантическим статусом — еда и насыщает, и нечто значит…» (Барт 2003: 298).
Так, кофе, говорит Барт в другой работе («К психосоциологии современного
питания»), не просто бодрит или расслабляет — он ассоциируется «с ситуациями паузы, передышки, даже расслабления» (там же: 377). И какое-нибудь
«маленькое черное платье» — это тоже «ситуация», целая система знаков и значений: оно отсылает к легендарной Коко Шанель, к означаемому «французскости», элегантности, также подразумевает торжественность повода.Ассоциация моды с едой становится особенно очевидной, когда дело доходит до описаний. Стилистические советы в глянцевых журналах построены
по принципу рецептов. Модный look (образ, вид, далее — «лук»), или общий
спектр тенденций нового сезона, — это комплекс подходящих друг к другу ингредиентов, многослойный пирог. «Поэтика рецепта» тиранична. Количество
ингредиентов для какого-нибудь пирога указывается в точных измерительных
категориях (добавьте 25 граммов дрожжей и 250 граммов сахара), и эта точность
пленяет и пугает. В стандартном рецепте все категорично, нам не объясняют,
почему именно 25 граммов дрожжей и что будет, если положить 30 или 20.
Но очевидно, что это будет неправильно, нехорошо, непоправимо, что это нарушит гармонию. Ролан Барт говорит, что мода тиранична, и хочется добавить, что
рецептурная категоричность и недосказанность, граничащая с иррациональностью, заметна в языке моды. «Этим летом носят синее, а коричневое и бордовое
уберите подальше в шкаф, каблуки-шпильки вышли из моды, замените их каблуками-рюмочкой», — пишут в каком-нибудь глянцевом журнале. Нет никаких
объяснений, почему синее, почему вдруг шпильки впали в немилость и что будет,
если пренебречь «рецептом-заклинанием». Впрочем, что будет, как раз ясно —
выпадание из магического круга моды, непоправимая порча «модного пирога».
Вещь, отвечающую тенденциям сезона, в глянцевых журналах называют must
have (англ., букв. «нужно иметь»): must — это не совет, не рекомендация — это
приказ, долженствование. При этом и кулинарный рецепт, и модный глянцевый
императив, как капризные тираны, вдруг могут предоставлять неожиданную
свободу, которая пугает еще больше. «Добавьте соли и перца по вкусу» или
«к этому наряду подойдет яркий аксессуар, который придаст индивидуальный
акцент всему образу». Только что нас водили за ручку, давая четкие, не терпящие
сомнений и возражений указания: «наденьте синее», «возьмите 25 граммов» —
и тут вдруг: «по вкусу», «яркое» (насколько яркое, какого цвета, что именно).
Это призрачная свобода, ловушка, которая опять же может испортить весь
«пирог». Вообще мода часто «водит за ручку», модный дискурс принимает на
себя роль матери, отдавая потребителю роль ребенка, который должен учиться,
слушаться, следовать совету. Изначальная функция матери — кормить и одевать,
ну и утешать (еда помогает справиться со стрессом, равно как и поход по магазинам), так что языки моды и еды пересекаются и в этом поле — материнства.Рассуждая о тенденциях, принято писать и говорить о вкусах: о смене
вкусов, о вкусах, о которых «не спорят», о дурном или хорошем вкусе. Жиль
Липовецкий, рассказывая о зарождении дендизма, мимоходом обращает внимание на связь становления модной индустрии и формирования культуры
еды. Он пишет о феномене вкуса, который равно широко употребим в модной
и в кулинарной практике: «Повышение социальной и эстетической ценности
моды происходило одновременно с возрастанием общественного значения
многочисленных второстепенных тем и предметов обсуждения. <…> Об этом
свидетельствуют подробные описания вкусов денди и такие работы, как: „Гастрономия“ Бершу (1800), „Альманах гурманов“ Гримо де ла Реньера (1803),
„Психология вкуса“ Брийя-Саварена (1825)» (Липовецкий 2012: 99). То есть
в эстетике дендизма зарождается понятие «стиль жизни» (lifestyle), в котором
главные роли отводятся как раз одежде и еде. Ольга Вайнштейн, в свою очередь, описывая историю дендизма, приводит в пример античного «модника»
Алкивиада, который, явившись на философский пир, описанный Платоном,
вызвался быть распорядителем: «Эта роль тоже типична и для денди: „распорядитель пира“, присутствие которого необходимо для общего тонуса, остроты
беседы, гастрономического удовольствия» (Вайнштейн 2006: 40). Эстетическое
удовольствие от внешнего вида изысканно одетого денди прочно связывается
с наслаждением едой. Часть работы fashion-редактора проходит в хождении
по «пресс-дням», где представители модных брендов проводят презентации
сезонных коллекций, неизменно сопровождающихся «пиром» — словно дыня
с пармской ветчиной и фуа-гра с шоколадом помогают лучше оценить до-
стоинства платьев и украшений. По крайней мере, сами дизайнеры с этим
посылом не спорят. «Я решил назвать музей Silos, потому что это здание также
используют для хранения еды, а она, бесспорно, очень нужна для жизни. Для
меня еда так же важна, как и одежда», — признался Джорджио Армани на открытии музея в Милане, созданного в честь 40-летия его творчества (цит. по:
www.buro247.ru/culture/arts/muzey-armani-silos-mesto-sily.html). Около 600 работ
дизайнера разместилось в доме, построенном в 1950 году и изначально служившем пищевым складом компании Nestlé.Итак, мы только что рассмотрели некоторые общие принципы, на которых строится корреляция между модой и едой, общие для двух сфер области
значения. Теперь можно перейти к конкретным примерам и наглядно увидеть,
как именно образы, связанные с едой, присутствуют в поле моды.
Михаил Пиотровский. Для музеев нет табу
- Михаил Пиотровский. Для музеев нет табу. 50 статей за 10 лет. — СПб.: Арка, 2016. — 304 с.
Сборник включает 50 статей, написанных директором Государственного
Эрмитажа Михаилом Борисовичем Пиотровским за последние 10 лет. Это отклик на современную культурную, политическую и идеологическую повестку
дня. Книга позволяет не только проследить за актуальными событиями истории
России с 2005 по 2015 годы, оценить изменения фокуса общественного внимания,
но и почувствовать связи, соединяющие музей и государство, политику и культуру,
личность и общество. В оформлении издания использована знаменитая серия
авторских фотографий Юрия Молодковца «Уединение. Эрмитаж ночью».Шедевр воспитывает глаз
30 июля 2015 года
Эрмитаж — музей энциклопедический. Это энциклопедия
русской государственности, искусства и архитектуры.
В Эрмитаже представлено множество архитектурных стилей.
Архитектура — важная тема для музея, как и для нашего города
Петербург — город, где из-за архитектуры происходили волнения в советское и постсоветское время. Надо стараться делать так,
чтобы забота об архитектуре не превращалась в политические акции, иначе результат будет плачевный. В свое время политические
акции вокруг «Астории» привели к тому, что она плохо отреставрирована. Без волнений по поводу «сносить или нет» результат
реставрации мог быть лучше.И все же мы гордимся тем, что живем в городе, где люди выходят на улицы ради защиты культуры и искусства. Живем в единственном из мегаполисов Европы, который сохранил свой исторический центр. Борьба за охрану памятников продолжается, но она
вступила в новый этап.В деятельности Эрмитажа можно наблюдать сильное архитектурное движение. Мы создали современный музей в восточном
крыле Главного штаба. Это стало архитектурным событием, о котором изданы две книги. Та, что вышла в Великобритании, стала
единственным зарубежным изданием, полностью посвященным
российскому проекту.В Малом Эрмитаже появились выставочные залы, созданные
по проекту одного из самых выдающихся архитекторов мира —
Рема Колхаса. Сейчас он проектирует для Эрмитажа библиотеку
в Старой Деревне. Мы отрабатываем непростую модель взаимодействия российских и иностранных архитекторов.Здания Эрмитажа воспитывают вкус, но этого мало. Проходят
выставки, которые знакомят публику с современной архитектурой.
Есть вечный конфликт классики и современности. Надо показать,
как они уживаются.Сейчас открыта выставка одного из лучших архитекторов
мира — Захи Хадид. Она демонстрирует то, как рождается современная архитектура, имеющая классические традиции. Традиции
Захи — супрематизм Казимира Малевича. Казалось бы, какая связь
может быть у геометрии супрематизма с волнообразными зданиями Хадид? Но она есть. На выставке можно видеть, как рождается
такая архитектура.Два года назад у нас была выставка Сантьяго Калатравы, рассказавшая о важном направлении в архитектуре. Калатрава — автор футуристических построек в разных странах мира. И это архитектор, который построил мост в Венеции. Казалось бы, нарушение
всех традиций — но построил!У нас была выставка голландской архитектуры, готовим выставку финской. Они не о дворцах или супермузеях, а о современной архитектуре, в которой можно жить. Это в природе Эрмитажа
и Петербурга.Недавно состоялся круглый стол Всемирного клуба петербуржцев, посвященный эстетике городской среды. Как известно,
мы издаем Белую, Красную и Черную книги.Хотелось бы уточнить: клуб — организация общественная.
Мы не проводим широких обсуждений, слушаний. Высказываем
мнение довольно узкого круга людей. В клубе 122 человека —
архитекторы, преподаватели архитектуры, депутаты, журналисты,
строители, группа экспертов… Вместе это единомышленники, которые примерно одинаково представляют себе дальнейшую судьбу Петербурга.Люди не всегда понимают, чем мы занимаемся. Часто спрашивают о планах клуба, о том, кого заставили что-то сделать… Мы никого ни к чему не принуждаем, но к нашему мнению прислушиваются.
Клуб выделяет тех, кто строит хорошо и вписывается в петербургскую традицию. Они получают знак соответствия, на котором
золотом написана цифра 122,5 — высота шпиля Петропавловской
крепости. Люди носят эти значки, они есть у архитекторов, девелоперов, у тех, кто подал интересную идею. Клуб — сегмент
гражданского общества. Общества, которое никому ничего не
навязывает, ничего не требует, не заменяет собой государство.
Оно создает мнение, которое должно влиять на воспитание вкуса. Медленная, спокойная работа. Последнее заседание клуба показало, что мы стали обсуждать стратегические вещи, перспективное развитие города.Мы ничего не присудили новому выставочному комплексу «ЭкспоФорум», потому что его строительство еще не совсем
завершено. Пока не ясно, как он будет функционировать. Новый
центр — новое качество жизни города.На обсуждение было предложено несколько интересных жилых домов в контексте уличной застройки. Но мы поняли, что прошло время говорить об отдельных зданиях. Их много, есть ужасные,
есть хорошие, они по-разному вписываются в городскую среду. Надо
обсуждать систему строительства жилых домов, а не просто отмечать, хорошо построено или плохо.Возник вопрос о подсветке «Монблана». Плохо подсветили
здание, которое и без того входит в Черную книгу. Параллельно
возник и вопрос о подсветке Петропавловской крепости, удачной
для ночного времени, но не безупречной для вечернего. Городское
освещение будем обсуждать отдельно. Оказалось, есть много продуманных предложений, связанных с подсветкой.Члены клуба признали удачной эрмитажную практику представлять в городском пространстве репродукции картин. Город забит рекламой — это беда всего мира. Бороться с ней, снимая, невозможно, она опять вылезает. Есть способ ситуацию улучшить,
мы уже много лет его используем. На рекламных носителях, перемежая рекламу, надо показывать шедевры живописи и старые
виды Петербурга, напоминающие о красоте города. Если все сделать правильно, статус шедевра не пострадает. На носителе бежит реклама, вдруг появляется «Девушка с веером» Ренуара или
«Дама» Моне. Глаз человека выхватывает то, что красиво, а реклама, как правило, безвкусна. Шедевр воспитывает глаз. Опыт есть.
Был проект: в сорока городах России мы «рекламировали» шедевры Эрмитажа.Следующий этап для обсуждений — заборы, загораживающие
стройки. Принято рисовать на них фасад реставрируемого здания.
Это приелось. Изображение картин — напоминание о прекрасном. Неплохо, если человек, перемещаясь по городу с детьми, запомнит картину Моне или Ренуара. Во время празднования 300-летия Эрмитажа мы возили большие репродукции картин в Купчино.Проблема строительных заборов обсуждалась потому, что это
часть городской среды, есть разные проекты и предложения. Скоро
начнется реставрация Биржи, она будет закрыта забором. Что на
нем будет изображено?В Венеции все время идет ремонт зданий. Я был в числе тех,
кто подписал письмо мэру Венеции с просьбой убрать большую рекламу с площади Святого Марка. Потом мы с ним говорили о том,
что вместо рекламы можно репродукции картин повесить.Некоторые вещи, которые мы обсуждаем, пронизаны идеологией. В Белую книгу вошла Триумфальная арка Победы, построенная в Красном Селе. В этом знаке сошлось много смыслов. Это
память о том, как во время войны в подвалах Эрмитажа художники
рисовали триумфальные арки, через которые наши войска войдут
в освобожденный Ленинград. Были арки из папье-маше, через которые действительно в трех направлениях войска вошли в город.
Одна из них и послужила основой для той, что поставлена в Красном
Селе. У Даниила Александровича Гранина была идея: в городе есть
арки покорения Польши, войны с турками, но нет арки Победы
в Великой Отечественной войне. О том же говорили ветераны. Все
устремления слились. Арка стоит, она красиво вписалась, напоминая
и о том, что у эстетики советского времени есть свои достоинства.В Белую книгу мы занесли восстановление в Царском Селе
полковой церкви и музея при ней. Воссоздание всегда вопрос спорный, но не для города, в котором многое было разрушено войной.
Воссозданы Петергоф, Павловск, Царское Село. Полковая церковь — петербургская традиция. Традиции возрождаются через
архитектуру.В Черную книгу без особых споров мы вписали комплекс новых зданий на Обводном канале. Сам по себе он неплох, но испортил вид района. У Обводного канала свой сложившийся архитектурный стиль. Новое выбивается из этого контекста.
Сообща члены клуба «накинулись» на здание в Сестрорецке,
которое только начали строить. Строители нагло поставили высотный дом на красную линию, уничтожая стиль и дух, который сложился в Сестрорецке. Кажется, дом уже отодвигают.На заседании мы обсуждали ситуацию в Академии художеств
и ДК им. Кирова. Внешне там все хорошо, но внутри захламленные
лестницы, облупленные коридоры… Раньше об этом задумываться
не приходилось. Но пришло время наводить порядок не только на
улицах, но и во дворах. Все говорит о том, что мы перешли на другой уровень забот.А значит, в нашем городе не все рушится, не всегда плохо
строят, приходят работать иностранные архитекторы. В результате многих лет борьбы за памятники постепенно вырабатывается
зрелость суждений.
Живые, или Беспокойники города Питера
- Живые, или Беспокойники города Питера. — СПб.: Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2015. — 496 с.
Книга «Живые» — о мертвых. Своего рода мартиролог культурных героев новейшей петербургской мифологии. Здесь двадцать одно имя. Их выбор обусловлен в первую очередь тем, что эти люди до сих пор пребывают в наших мыслях и разговорах, продолжают незримо участвовать в нашей жизни и влиять на наши поступки — они не хотят уходить. Они и есть те самые хармсовские беспокойники. Вторая причина — тот след, который эти люди оставили в культурном пространстве Петербурга и всего русского мира. Тексты об этих героях написаны как свидетельства очевидцев и участников событий. Большинство из этих свидетельств носят эксклюзивный характер, что способно обеспечить читателю желанный эффект присутствия.
Наль Подольский
Олег Григорьев
Продавец маков продавал раков
Он постоянно носил с собой толстую тетрадь. Девяносто шесть листов «в клеточку» и коричневый коленкоровый переплет, слегка прилипающий к пальцам.
В школьно-письменной торговле такие тетради назывались «общими». В этой тетради Олег Григорьев
записывал свои стихи — дома и во время блужданий
по городу, в гостях и на литературных тусовках. Когда
очередная тетрадь приближалась к заполнению, в ней
накапливалось много интересного.Если в компании его просили что-нибудь почитать,
он не ломался, как некоторые другие поэты, и соглашался либо сразу, либо со второй просьбы. И тотчас в
его руках появлялась коричневая тетрадь, она возникала сама собой, словно бы ниоткуда — он извлекал ее из
внутреннего кармана пиджака почему-то всегда незаметно для окружающих.Однажды художник Владимир Гоосс праздновал
день рождения в своей мастерской на улице Чайковского, по соседству с «Большим домом», и именинник попросил Олега почитать стихи. Тот едва успел раскрыть
свою тетрадь и выбрать подходящий текст, как пришел
опоздавший Лев Звягин, фотограф, с девушкой и фотокамерой. У девушки была хорошая улыбка, а Лева был
по-хорошему, добродушно пьян. Кроме того, иногда он
икал, стесняясь и прикрывая рот ладонью. Дальнейший
сценарий напоминал пьесы Хармса.ОЛЕГ (читает).
ЛЕВА (икает). Извини.
ОЛЕГ. Что ты, пустяки. (Читает.)
ЛЕВА (икает). Ох, извини пожалуйста.
ОЛЕГ (сухо). Да, конечно. (Читает.)
ЛЕВА (икает).
ОЛЕГ. Тебе нужно выпить. Иногда помогает.
(Все наливают, выпивают и ждут результата.)
ЛЕВА (сидит молча).
ОЛЕГ (с радостной улыбкой). Ну, вот видишь — помогло. (Читает.)
ЛЕВА (икает). Не помогло.
ОЛЕГ. Ты меня достал.
ЛЕВА. Я же не нарочно.
ОЛЕГ. Я понимаю. Но мне придется начать сначала.
(Читает сначала.)ЛЕВА (икает).
ОЛЕГ. Слушай, да сделай же с собой что-нибудь!
Попей холодной воды, умойся, что ли.ЛЕВА (отходит к умывальнику, плещется, возвращается к столу, сидит молча).
ОЛЕГ (читает, непроизвольно ускоряя темп и
искоса поглядывая на ЛЕВУ).ЛЕВА (икает).
ОЛЕГ. Да постучите ему по спине! И посильнее.
(ЛЕВЕ стучат по спине.)
ОЛЕГ (после паузы начинает читать).
ЛЕВА (икает).
ОЛЕГ. Ну, знаешь! Да в конце концов, зажми себе
рот и нос, перестань дышать и умри, как мужчина!
Я не буду читать. (Тетрадь со стихами исчезает из
его рук.)Кончилось тем, что девушка Левы, несмотря ни на
что не потерявшая своей хорошей улыбки, увела его
домой. Гости уговорили Олега все-таки почитать, и он
читал много и с удовольствием. Но раздражение у него
тем не менее осталось. Оно-то и послужило позднее
источником скандала.Олега с Гооссом роднило то, что оба владели искусством скандала и подходили к нему как к художественному произведению. Оба умели спровоцировать
скандал буквально «из ничего» и точно чувствовали
динамику его развития. Но технологии у них были разные. Гоосс, выбрав жертву, умел найти у нее слабое место и наиболее обидные слова, от которых человек сразу
же был готов лезть на стену. А Олег произносил почти
случайные фразы, но с интонацией, делавшей их для
объекта крайне оскорбительными. Гоосс затевал скандал из любопытства и в процессе его развития оставался спокойным, а Олег — от раздражения, и далее подпитывал действие своими эмоциями.В тот вечер Олег начал вдруг пристально разглядывать одного из гостей, а затем произнес недовольно и с
расстановкой:— Ты похож на ассирийца.
Тот был действительно смуглым, черноволосым, волосатым и бородатым. Он взбесился мгновенно и после
нескольких вводных слов надел на голову Олега миску
с салатом. По лицу и плечам Олега поползли ручейки
сметаны, и всем нам было невдомек, с чего это бородач
вдруг так взбеленился. По-моему, и сам Олег не ожидал
такого эффекта.Все уже были пьяны, и возникла бестолковая потасовка. «Ассирийца» побили, да и другим тоже досталось. В том числе и Олегу, которому кто-то из заступников локтем нечаянно разбил нос.
Гоосс потом комментировал инцидент так:
— Это же западло, обижаться и обижать Григорьева.
Все равно что пнуть сапогом юродивого.Вообще говоря, я время от времени сталкивался с
отношением к Олегу как к юродивому, и отчасти он это
сам провоцировал.Когда страсти утихли и кончилась выпивка, наиболее утомленные гости стали пристраиваться подремать — кто сидя, кто полулежа, потому что в маленькой
мастерской спальных мест почти не было. А у окна в
коридоре стояла большая корзина, короб, плетеный из
ивовых прутьев, величиной с письменный стол. Такие
корзины в те времена использовались для сбора листьев
в садах, и Гоосс зачем-то притащил ее в мастерскую.
В ней он держал всякое тряпье — занавески, одеяла,
куски холста. Вот в этой-то корзине и угнездился поспать Олег. Я обнаружил его в ней на рассвете, проходя
мимо и услышав сопение. Он спал по-детски упоенно и
безмятежно; в нем вообще было много детского. И когда я вспоминаю Олега, чаще всего он мне видится спящим в большой плетеной корзине.Разбуженный светом позднего ноябрьского утра,
Олег вылез из своего гнезда и удалился, когда все еще
спали. Испытывая жгучую необходимость опохмелиться, он, по причине территориальной близости, направился прямо в тогда еще не сгоревший Союз писателей.
Его пиджачок хранил следы ночного праздника — потеки сметаны, винные пятна и кровь, свою и чужую. Вид
он имел всклокоченный.Первым, кого он встретил, был Михаил Дудин.
— Михаил Александрович, одолжите треху, — на
вежливые предисловия у Олега сил не было.Дудин пожалел — то ли треху, то ли бессмертную
Олегову душу. Треху не дал и взамен прочитал нотацию:— Как не стыдно, Олег, вы и так в таком виде…
и т. д. и т. п.Это было ошибкой, и Дудин тогда не мог и предположить, во что она ему обойдется.
Олег униженно выслушал отповедь, затаил на Дудина хамство и пошел дальше. Следующим судьба послала ему Михаила Жванецкого. Тот, умудренный знанием
жизни, едва увидев Олега, протянул ему пять рублей.
По тогдашним ценам это означало почти две бутылки
портвейна.Прошло года два или три. Случился очередной юбилей Победы, в Союзе писателей по этому поводу состоялось какое-то официальное действо, и после него,
вечером, в ресторане было полно народу. Войдя в зал,
соседний с буфетом, я стал свидетелем неприличного
скандального зрелища. Зрители кучковались у стен,
а в центре возвышалась фигура Михаила Дудина, казавшаяся монументальной. Он был в хорошо отглаженном темном костюме, при галстуке, и на груди сияли
ордена и медали. А вокруг него мелким бесом вился маленький и пьяный Олег Григорьев.— Михаил Александрович, дай! Дай хоть один! —
отчаянно взывал Олег и тянулся рукой к орденам Дудина. — Таким, как я, не дают. А тебе еще дадут, ты только
попроси, дадут сколько угодно. Дай, Михаил Александрович! Ну хоть один дай!Лицо Дудина все больше багровело, наводя на мысль
о близком инфаркте.— Михаил Александрович, ну, пожалуйста, дай! — не
унимался Олег. — Ты же знаешь, мне никогда не дадут,
а тебе дадут прямо завтра. Дай хоть один!Кругом стояли писатели и поэты, в том числе достаточно известные, одни снисходительно улыбались, другие делали вид, что не замечают происходящего, и никто не попытался прекратить это безобразие.
Олег прекрасно знал, что таким, как он, орденов
не дают. Более того, как и многие из его знакомых, он
подозревал, что и физически-то существует лишь по
чьему-то недосмотру. Поэтому он тянулся к законной,
государственной культуре в надежде получить некую
индульгенцию. Но у официоза на Григорьева была
устойчивая реакция отторжения. От него веяло абсурдом, черным юмором и обэриутами. Издание в Детгизе
первых книжек Олега, совсем маленьких, стоило увольнения редактору Марине Титовой и инфаркта Агнии
Барто, которая во время какого-то заседания вступила
в спор с Сергеем Михалковым, отстаивая право Григорьева публиковаться.А тем временем стихи Григорьева переписывают и
повторяют наизусть взрослые и дети. Четверостишие,
написанное еще в 1961 году, за десять лет до первой
публикации Олега:Я спросил электрика Петрова:
— Для чего ты намотал на шею провод?
Ничего Петров не отвечает,
Только тихо ботами качает, —
знает каждый второклассник.
Устное распространение текстов идет по законам
фольклора — в процессе передачи отдельные слова и
строчки изменяются. Любые стихи с «черным юмором»
входят в моду, и часто их, даже самые глупые и никудышные, незаслуженно приписывают Григорьеву. Ничего не поделаешь — все это проявления народной любви. Как тут не вспомнить реплику Николая Первого из
известной пьесы Булгакова:— Я понимаю, что это не Пушкин. Но объясните
мне, почему нынче любую пакость обязательно приписывают Пушкину?Дети принимали его стихи «на ура», потому что они
разительно отличались от идеологически выдержанной
советской печатной продукции. Им нравилась внутренняя логика Олега, логика детской страшилки, они чуяли
в нем «своего». Вот короткая «сказочка» из самой первой книжки Олега.Маша и Петя играли в прятки. Они спрятались
в большую трубу. Потом пришли рабочие. Они подняли трубу и сбросили ее в реку. Но Маша и Петя
не утонули, потому что они сидели в другой трубе.Для партийного чиновника «брать слово» было естественно, как дышать воздухом. Для любого же нормального ребенка, как и для Олега, словосочетание
«взять слово» звучало откровенной глупостью.Председатель Вова
Хотел взять слово.
Пока вставал, потерял слово.
Встал со стула
И сел снова.
Потом встал опять,
Что-то хотел сказать.
Но решил промолчать
И не сказал ни слова.
Потом встал.
Потом сел.
Сел — встал,
Сел — встал,
Сел — встал,
И сел снова.
Устал
И упал,
Так и не взяв слова.
Обратите внимание — во всем этом стихотворении нет
ни одного прилагательного. Григорьев их вообще, как и
сравнения, употребляет крайне редко. Ничего лишнего, только самое необходимое. Прежде всего действие.
У Григорьева очевидный талант драматурга, у него драматургия — в каждой строчке. Умение с первых слов,
«с затакта», начать действие, обозначить конфликт и
расставить акценты — редкий дар, ценившийся превыше
всего среди сценаристов, например, в Голливуде.Фольклорная подоснова Григорьева — не только
фольклор городской и детский, но и лагерный. Жизнь
вынудила Олега с ним познакомиться. Именно от лагерного фольклора идет запредельный лаконизм Олега.
Еще Синявский в «Голосе из хора» проводил аналогии
между лагерным фольклором и готической литературой и искусством, отмечая в том и другом «перепончатость», иногда создающую ощущение конспективности.
В витраже главное — скелет рисунка, он определяет
сущность, а вставлять цветные стеклышки каждый
мысленно может сам.Итак, стихи Григорьева предельно лаконичны, аскетичны, суровы — настолько, что можно усомниться: да вообще, поэзия ли это? Нет никаких красот — ни словесных,
ни воображаемых зрительно, ни эпитетов, ни аффектации, ни романтики, ни лирики, по крайней мере в привычном понимании. О том, что такое поэзия, можно говорить
и спорить бесконечно, но главным все же было и остается
наличие или отсутствие поэтического образа. Таких образов, как «утро туманное, утро седое» или «оленей косящий бег», вы у Григорьева не найдете, он строит образ
совершенно иначе, через действие. Но при этом его образы высекают ничуть не меньше впечатлений.О, как нехотя летели журавли куда-то вдаль. Не
хотели, а летели.Или:
Нисколько не удивился,
Звонарь когда удавился.
Закрутил веревку в удавку
И ушел в переплавку.
И вот я главный звонарь!
Колокол — звуковой фонарь.
Он расходует слова скупо, как ценный материал,
и не тратит ни слова отдельно на подачу образа. Образ
возникает в процессе действия.— Ну как тебе на ветке? —
Спросила птица в клетке.
— На ветке, как и в клетке,
Только прутья редки.
Звездное вещество «белых карликов» состоит из одних только атомных ядер и потому обладает чудовищной
плотностью. Григорьев уплотняет текст, очищая слова
от шелухи подробностей, от всякого декора, оставляя
только ядра, заставляя их выполнять максимально возможное количество функций.Вот первая строчка всем известного стихотворения:
«Продавец маков продавал раков». Это прежде всего,
поэтический образ (по-григорьевски), но одновременно — и завязка сюжета, и начало конфликта, и введение
в формальный звуковой рисунок стиха.Из-за лаконичности текстов и полифункциональности слов стихи Григорьева часто кажутся конспективны-
ми, и это не вызывает внутреннего протеста не только у
взрослых, но и у детей. Ибо именно в силу этих качеств
в детском восприятии стихи Олега подобны волшебной
коробочке, из которой время от времени можно доставать все новые вещи.В любом стихе Григорьева обязательно присутствует улыбка. Она бывает разная — веселая, грустная,
мрачная, насмешливая, даже злая. И еще одна специфическая улыбка, не обозначающая никакого юмора —
«зэковская» улыбка, по которой бывшие заключенные
опознают друг друга.Людей стало много-много,
Надо было спасаться.
Собрал сухарей я в дорогу,
И посох взял, опираться.
— Когда вернешься? — спросила мама.
— Когда людей станет мало.
Арестовывали Олега дважды. В первый раз — в начале семидесятых. Не нужно думать, что КГБ гонялось за ним специально. Процесс над Бродским открыл
«зеленый свет» преследованию «поэтов-тунеядцев»,
и Григорьев идеально вписывался в этот стереотип. Уже
одним своим видом, манерами и лексиконом он раздражал любого милиционера, и случайное задержание автоматически привело к ссылке «на стройки народного
хозяйства» в Вологодскую область. Сценарий был тот
же, что у Бродского, только срок поменьше — два года.
Второй раз он был арестован «за дебош» в 1989 году
и дело кончилось, к счастью, условным сроком. Судьба уберегла Олега от фактической, лагерной отсидки,
но предоставила ему возможность ощутить на себе все
репрессивные процедуры и ознакомиться с лагерным
фольклором «из первых рук».Олег воспринимал жизнь как явление суровое и не
ждал от нее ни доброты, ни снисхождения. И тем более
не ждал ничего хорошего от любых государственных
инстанций. В какую бы скверную переделку он ни попал, ему не приходило в голову обратиться за помощью
в больницу или травмпункт, не говоря уже о милиции.
Но он с легкостью мог попросить помощи у случайных
людей, и часто ему помогали. Это было одно из его
странных свойств — способность вызывать у незнакомых людей как беспричинное раздражение, так и немотивированную симпатию.
Алейда Ассман. Новое недовольство мемориальной культурой
- Алейда Ассман. Новое недовольство мемориальной культурой / Пер. с нем. Б. Хлебникова.— М.: Новое литературное обозрение, 2016. — 232 c.
Новая книга немецкого историка и теоретика культурной памяти Алейды
Ассман полемизирует с усиливающимся в последние годы «недовольством» тем, что травматическое прошлое превратилось в «индустрию Холокоста», предмет политического и экономического торга. Частично признавая
обоснованность позиции своих оппонентов, Алейда Ассман пытается выстроить
такую мемориальную перспективу, в которой ответственность за совершенные
преступления, этическая готовность разделить чувство вины и правовые рамки,
позволяющие услышать голоса жертв, превращали бы работу с прошлым в один
из важных факторов сознательного движения к будущему.Негативная память как право гражданина?
Долгое время в такой традиционно миграционной стране, как
США, считалось, что забвение служит наилучшей основой для иммиграционной политики. Чтобы радикально перестроиться на вхождение
в новое общество и новую культуру, иммигрантам следовало внутренне
распрощаться и оставить позади тот мир, из которого они пришли. Разумеется, начинать с абсолютно чистого листа невозможно, однако цель
состояла в том, чтобы исходная культурная принадлежность постепенно
стиралась ради новой идентичности. Подобная установка рассматривала воспоминания, которые «привозились» с собой переселенцами,
в качестве препятствия для успешной натурализации. Место разделяющих воспоминаний должна была занять ориентация на совместное
будущее. Тот, кто был готов оставить собственную историю — а к этому
были готовы многие из переселенцев, ранее подвергавшихся гонениям
и страдавших от различных лишений, — получал хороший шанс начать
свою жизнь заново. Американский литературовед Лесли Фидлер подчеркивал, что американцев, в отличие от европейцев, объединила не общая
история, а общая мечта163. Переселенцы не могли просто отбросить
воспоминания, как рюкзак с контрабандой, но политика ассимиляции
и «плавильного котла» (melting pot) способствовала сглаживанию
и устранению различий.С 1980-х годов и в этой области начали происходить радикальные
перемены. Новая значимость коллективных идентичностей выявляет те
различия, которые прежде так старательно стирались. Теперь центральное место заняла культурная самобытность, с ней стали соотноситься
личные воспоминания, служившие основой для отнесения себя к той
или иной отдельно выделенной идентичности. Принятый в 1982 году
канадский «Multiculturalism Act» предоставлял иммигрантам право
сохранять свою культурную идентичность и культурное наследие164.
Менялось и самосознание канадского государства. Правительство, обратившись к «политике покаяния», учредило «комиссию правды»,
призванную расследовать преступления колониализма. Благодаря этому
повороту история колониального угнетения и бесправия вернулась
в сознание жителей страны. Модифицированная таким образом национальная история — и это решающий момент — должна была быть
принятой и иммигрантами, которым также предлагалось стать в будущем
ее носителями. Отныне переселенцы не просто вступали в открытое для
них будущее новой страны, но, принимая ее гражданство, они брали
на себя ответственность и за темные страницы ее прошлого. Иммиграция происходит в нынешней Канаде на фоне нового самокритичного
осмысления национальной истории. «Гражданство страны, — говорилось на церемонии вручения паспортов новым канадским гражданам
в Ванкувере, — это не „шведский стол“. Никто не вправе выбирать себе
лишь то, что ему по вкусу, пренебрегая остальным. Разумеется, с канадским гражданством связано как хорошее, так и плохое. Давая клятву
при принятии канадского гражданства, вы берете целиком наследие
канадской истории и гражданских прав165. Теперь вы также несете ответственность не только за добрые деяния, но и за все ошибки, допущенные
нами, за все содеянное нами зло. …Такова часть целого. Возможно, вы
сочтете это несправедливым, но никто и не говорит, что это справедливо.
Такова часть гражданских прав».В сегодняшней Австралии также горячо обсуждается вопрос, должны
ли гражданские права иммигрантов включать в себя негативные эпизоды
колониальной истории. Если раньше переселенцы прибывали в страну
без прошлого и с безграничным будущим, то теперь они сталкиваются
и с дурным прошлым Австралии. Как написал один австрийский антрополог, иммиграция становится «процессом, индуцирующим вину»
(a guilty-inducing process)166.Подобная эволюция национального самосознания является непосредственным следствием Холокоста и колониальной истории. В рамках
новой парадигмы прав человека уже невозможно с помощью простого
забвения избавиться от ужасов истории, от памяти о преступлениях
против человечества. Эти события стали предметом нового общественного внимания, новых свидетельств очевидцев, новых дебатов, новых
воспоминаний. Политика покаяния откликается на травмы тех коренных жителей, чьи истории раньше не могли быть услышаны. Теперь же
сложилось понимание того, что травматическое прошлое коренного населения, игнорировавшееся колонизаторами, вовсе не прошло бесследно,
а продолжает возвращаться в виде болевых синдромов. Воспоминания
об исторической вине впервые открывают для национальной памяти
возможность признать историю жертв, что сопровождается актами реституции и новыми мемориальными практиками, которые способствуют
интеграции общества.Этнический парадокс и плюрализация национальной
памяти
Начиная с 1990-х годов воспоминания о нацистском прошлом
сделались составной частью немецкой национальной памяти. Когда
к 2000 году возник вопрос о статусе Германии как иммиграционной
страны, только что сформировавшаяся негативная национальная память
стала предметом критики. Вплоть до 1990-х годов считалось, что иностранные рабочие по истечении срока трудовых договоров вернутся
в страну, откуда они приехали. Ситуация изменилась, когда в 1998 году
правительственная коалиция социал-демократов и «Зеленых» подтвердила статус Германии как иммиграционной страны, реформировав
иммиграционное законодательство. Тогда возникли новые вопросы
к национальному самосознанию и национальной истории. Должна ли
Германия в результате данных перемен перестроить национальный нарратив с учетом нового плюралистического образа? Идет ли речь о том,
чтобы новые иммигранты признавали сопричастность к негативной
стороне национальной памяти?Подобные вопросы послужили предметом продолжительной дискуссии. Например, Ханно Леви, директор Еврейского музея в Хоэнэмсе, выступил против альтернативы, когда мигрантам либо навязывают
память об исторической вине, либо их исключают из коммеморативного сообщества. По мнению Леви, память не должна подвергаться
«пограничному контролю», который препятствует полноправному
членству мигрантов в немецком обществе167. Историк Рауль Хилберг
высказался о том, что Холокост является в Германии семейной историей.
Понадобилось продолжительное время, чтобы это произошло и немцы
«интернализировали» Холокост. Но теперь это привело к новой проблеме этнизации собственной истории. Дэн Дайнер также указал на
проблематику этнического характера немецкой национальной истории:
«Немцем считается тот, кто определяет свою национальную принадлежность через отказ от нацистского прошлого. Немецкому гражданину
турецкого происхождения трудно приобрести полноправное членство
в таком коллективе. Он не может примкнуть к этому общему «Мы»,
ссылаясь на усвояемое чужое прошлое. Несмотря на введение jus solis,
определяющим признаком идентичности остается таким образом jus
sanguinis; это обстоятельство преодолевается посредством ритуалов
коммеморации»168.Некоторые критики называют эту проблему «этническим парадоксом»: по их мнению, акцентирование исторической вины как национального признака весьма проблематично этнизируют немецкую нацию,
поскольку историческая вина связывает сыновей и внуков с отцами
и этим исключает из существенной связи с этой историей людей с иной
семейной биографией169.
162 Kraft H. Rubrik Politik // Rheinische Post (http://www.rp-online.de/politik/
deutschland/hannelore-kraft-und-christina-rau-das-passt-aid-1.2290097).163 Fiedler L. Cross the Border, Close the Gap // Welsch W. (Hrsg.). Wege aus der Moderne.
Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion. Weinheim, 1988. S. 73.164 Zeuner Ch. Citizenship Education in Kanada: Zwischen Integration und Selektion //
Forneck H.J. et al. (Hrsg.). Teilhabe an der Erwachsenenbildung und gesellschaftliche
Modernisierung. Baltmannsweiler, 2006. S. 65–82.165 Из выступления Джона Ралстона Соула 1 марта 2007 года в Ванкувере на церемонии
получения эмигрантами канадского гражданства: Some thoughts on Canadian citizenship
(http://www.johnralstonsaul.com/eng/articles_detail.php?id=72 %E2 %8C%A9=eng).
Благодарю Мишу Габовича за указание на это выступление.166 Hage G. Against Paranoid: Searching for Hope in a Shrinking Society. Annandale,
N.S.W., 2003. Р. 100.167 Loewy H. Taxi nach Auschwitz. Feuilletons. Berlin; Wien, 2002. S. 4, 3
168 Diner D. Nation, Migration and Memory: On Historical Concepts of Citizenship //
Constellations. 1998. Vol. 4. № 3. Р. 303.169 Rothberg M., Yildiz Y. Memory Citizenship: Migrant Archives of Holocaust
Remembrance in Contemporary Germany // Parallax. 2011. Vol. 17. № 4. Р. 32–48.
Иван Зорин. Вечность мига. Роман двухсот авторов
- Иван Зорин. Вечность мига. Роман двухсот авторов. — М.: РИПОЛ классик, 2015. — 304 c.
Грандиозная мистификация, в которой умещается вся история художественного слова; произведение, равное «1001 ночи»; лабиринт, из которого невозможно выбраться; патент жанра «экслибрис», где авторы выступают наравне с персонажами, а персонажи обретают равноправие с авторами; роман, который можно читать с любой страницы; библиотека, заархивированная в том; бумажный змей длиной в бестселлер; оригинальнейшее произведение последних десятилетий…
ДЕЛО СЛУЧАЯ
Один палач вошёл в темницу к юноше, которого приговорили к казни.
— Ты боролся с тиранией, которой я служу, — обратился он к нему. — Но и мне ведома справедливость, поэтому я отпущу тебя.
— Где бы я ни находился, — возразил юноша, — меня всюду схватят слуги раджи.
— Тогда, — предложил палач, — давай поменяемся платьем, и уйду я, а ты займёшь моё место — в тюрьме тебя не будут искать.
С тех пор палач устраивает заговоры, а юноша рубит заговорщикам головы.
Сатиочандра Датта. «Бенгальские пураны» (1687)
СТАРАЯ ИСТИНА
Один влюблённый монах секты дзэн сочинял любовное послание. Искушённый в каллиграфии, он выводил строку за строкой, держа перед глазами древний сборник китайских стихотворений. Но ни одно его не удовлетворяло, и он, комкая бумагу, бросал шарики в печь. Близился вечер, луна уже повисла на ветвях сакуры, как вдруг на монаха нашло просветление, и он послал возлюбленной чистый лист.
Его возлюбленная была образована и тоже исповедовала дзэн. Распечатав конверт, она прежде всего подумала, что форма есть пустота, а потом сообразила, что письмо содержит как раз то, о чём она размышляла весь день. Закрывшись ширмой, она стала готовить ответ. Мысленно перебирая тысячу строк, она машинально обмакивала в тушечницу кисточку из тончайшей шерсти, так что чернила капали с неё, как слёзы, но подходящей не находила. И тогда сочла за лучшее отослать монаху его же листок. Получив ответ, монах поцеловал белую бумагу и, не медля, отправился к ней на свидание.
Языку любви не нужны слова.
Бэнкэй по прозвищу Мумон. «Дверь без двери или 101 история дзэн» (1228)
ЖИЗНЬ — ТЕАТР
В спектакле муж играл мужа, жена — жену, а её любовник — любовника. Из вечера в вечер муж убивал любовника, а зал глох от холостого выстрела и крика обезумевшей женщины. Это тянулось годами. Но однажды пистолет оказался заряженным, зрителей забрызгало кровью, а актриса, изображавшая истерику, до конца жизни не вышла из роли.
Аскольд Едреинов. «Под занавес» (1911)
ОБРАТНАЯ ХРОНОЛОГИЯ
Пробивая висок, пуля вылетела из ствола. «Не задержу», — откликнулся он бармену секундой раньше, когда, протирая за стойкой стаканы, тот бросил: «Мы закрываемся». За последние дни бармен привык к посетителю, засиживающемуся допоздна. Сосредоточившись на рюмке, он в одиночестве тянул виски, лишь изредка поднимая палец, чтобы повторить. А появился он с крашеной брюнеткой, яркая помада которой странно контрастировала с заплаканными глазами и бледным, осунувшимся лицом. Они заняли дальний столик, едва освещавшийся миньоном, закурив, молча выпили по бокалу. Его рука безвольно лежала на столе, и женщина накрыла её своей. «Трогательное прощанье», — подумал бармен, уловив исходящую от них тихую грусть. Но он не слышал состоявшегося до этого разговора. «Ты не можешь так поступить! — кричала она, кусая губы. — Мы вместе уже семь лет! Я отдала тебе молодость, а теперь ты бросаешь меня! И ради чего? Ты даже не можешь объяснить толком, куда едешь! Ну зачем тебя посылают в эти чёртовы джунгли?» Он вспомнил, как лгал ей про эпидемию среди африканцев, про долг врача, видя, что она не верит, гнул своё, убеждая, что не может отказаться. Он и сейчас только махнул рукой. Повторяться не было желания, а для правды пришлось бы многое рассказать. Да и к чему? Лишняя боль. А ещё он вспомнил, как они познакомились. Худенькая, неуклюжая, как подросток, она поступила в отделение под вечер, когда он уже осмотрел всех пациентов. «У меня что-то страшное? — испуганно сжимала она сумочку. — Только не обманывайте, доктор, ради бога, не обманывайте!» И он дал слово никогда ей не врать. Хотя врал с самого начала. А через неделю её выписали, и из больницы они пошли в церковь. Он уже был женат, неудачно, — как и все ранние браки, держащиеся на постели, его — быстро распался. Так что разводились, как чужие, и у него даже в мыслях не было рассказать о диагнозе, поставленном ему накануне. «Ты сам врач, — прятал глаза коллега. — Процесс затормозился, но ты носишь бомбу…» «Каждый носит свою смерть», — хватило у него сил усмехнуться. И натянутость пропала. Слушая, что до «часа икс» он абсолютно здоров и может дышать полной грудью, перебил: «Конец будет мучительным?» Коллега опустил глаза. А он твёрдо решил до него не доводить и, прикрывая дверь, подумал, что очень кстати приобрёл месяцем раньше пистолет.
Яя Соверш-Турэ. «Эксперименты со временем» (1963)
ВТОРОЕ ИМЯ
Его давали на Руси при крещении, чтобы не сглазили. Известно оно было только духовнику, родителям да самым близким. Первым именем прикрывались на людях, храня в тайне настоящее. Бывало, к человеку всю жизнь обращались Федот, а на поминках выяснялось, что Федот, да не тот. Что при рождении его нарекли Дмитрием. Известен случай, когда боярский сын под одним именем служил в царском войске, а под другим дезертировал, с явным именем венчался, а с тайным проходил в холостяках, и так привык к своей двуимённости, что, когда был убит под первым, под вторым ещё долго здравствовал.
Ермолай (первое имя) Костожаров. «По русскому обычаю» (1860)
СЮЖЕТ
Проснувшись, А. выходит из дому. И тут замечает, что его преследует Б. Безликий негодяй в бежевом плаще с косым шрамом на щеке. А. догадывается, что Б. хочет его убить. Он пытается скрыться в привокзальной толпе — в спешке не обращая внимания на её неподвижность, потом в загородном доме, из двери которого торчит ключ. Напрасно! В подъезде мелькает зловещая тень, потом, в предрассветных сумерках, тень превращается в силуэт, который обретает черты негодяя в бежевом плаще. А. снова спасается бегством. Но в безлюдном кафе его настигают, Б. запускает руку в карман плаща. Загораживаясь от кошмара, А. вскидывает ладони.
И тут Б. просыпается.
Вскоре он выходит на улицу. И вдруг замечает, что за ним следят. Безликий негодяй в бежевом плаще с косым шрамом. Б. понимает, что тот хочет его убить. В ужасе он отправляется на вокзал, потом — за город. И повсюду: в скудном мерцании уличных фонарей, в доме с торчащим наружу ключом, в опустевшем кафе — его настигает В.
А когда Б. вскидывает ладони, В. пробуждается
Для В. события из сна наяву повторяются до мелочей. Роль его «убийцы» играет злонамеренный незнакомец в плаще и со шрамом. Он загоняет В. в опустевшее кафе. Вот он сунул руку в карман. Однако В., ожидая развязки, уже не боится, осознавая себя героем чужого сна.
Обрывая кошмар, просыпается А.Педро Эрнастио Далглиш. «Сновидение» (1979)
ТОСКА ПО УТРАЧЕННОМУ СМЫСЛУ
— Многие перед смертью чувствуют, что умирают, а я не чувствую, что живу. Я хожу на работу, занимаюсь любовью, но делаю всё, как во сне. Мне советуют отдохнуть, съездить к морю. Но, боюсь, здесь что-то глубинное.
Эндрю Т., 38 лет, менеджер. На препаратах полгода. Дозы не увеличивать.
— Доктор, мне страшно! Я едва сдерживаюсь, чтобы не убить собственного ребёнка! Бывают мгновенья, когда я ненавижу его, ненавижу! Я старею, у меня появляются морщины, дряблая кожа, а он всё время смеётся! Наливается, как яблоко, и смеётся! Разве это справедливо? Я дала ему жизнь, а он не может ею поделиться! Я понимаю, он не виноват, а я? Это странная разновидность зависти сводит с ума, и я потихоньку превращаюсь в мамашу-психопатку из американского ужастика.
Кстати, доктор, вам нравится Голливуд?
Элизабет Н., 33 года, домохозяйка. Антидепрессанты употребляет месяц. Лечение не отменять.
— Моя девушка обожает вестерны. В кафе она садится напротив, и пока мы ждём заказ, выкладывает на середину стола купюру. «Сыграем в ковбоев?» Я завожу в «мобильном» мелодию, и мы, сложив руки, как школьники, замираем, сверля друг друга глазами. А когда музыка кончается, как револьверы, хватаем деньги. И я всё время накрываю её ладонь. Тогда я лезу в карман за новой купюрой. Играем до тех пор, пока к ней не перекочуют все мои деньги, так что она расплачивается за обоих. А ещё она строит из себя крутую. Если нам мешает официант, который топчется с подносом, она щурится, как гангстер: «Твоё дело крысячье: подал и — в подвал!» Чёрт возьми, до чего лёгкая у неё рука! Она вскидывает её, будто муха слетела!
Однажды я попробовал обмануть — дёрнулся за бумажкой, едва зазвучала мелодия — она и тут опередила меня!
Доктор, мне хочется пристрелить её. Я уже приобрёл пистолет.
Грегори М., 19 лет, студент. К врачу не обращался. Прописаны лёгкие транквилизаторы.
— Я печатаю вслепую, как судьба, властвуя над бумагой. По раскладке букв на клавиатуре сослуживцы дразнят меня: «Фыва Прол». А мне слышится — «фифа прол». Откуда им известно, что я из рабочей семьи? Я презираю своё низкое происхождение! А они издеваются! И портят аппетит, не хуже диеты. Кстати, какую вы мне посоветуете? Ту, что рекламируют по телевизору? Ну, ту, в которой бегемот восклицает: «Фигура прежде всего!» Впрочем, какая разница, моя жалоба в другом — я не испытываю множественного оргазма, про который пишут женские журналы.
Фаина П., 27 лет, сотрудница офиса. Показан медикаментоз.
— Спасибо, док! После вашего курса я избавился от комплексов! У меня всё О.К.! Я уже выплатил кредит за дом, а жене купил новую машину. И через месяц меня повысят, это пока тайна, но вам — можно! А помните, каким неудачником я пришёл, самого сейчас оторопь берёт. И всё — вы! Дайте мне руку, док, убедитесь, какое крепкое у меня пожатие!
Пауль Ш., 43 года, банковский служащий. Проходил лечение в клинике. Назначен повторный курс.
— В поездах и самолётах, доктор, я много думаю. Вот миллиарды клеток внутри меня живут сами по себе, делятся, стареют, умирают, и вся их орава, точно сетью, тащит меня за собой. Получается, меня и нет? Тогда кто же думает? А знаете, отчего мы страдаем? Мы обделены — даже мухи счастливее! А виной всему земная поверхность и гравитация, которые ограничивают наше жизненное пространство, делая его двумерным. Да-да, мы, в отличие от птиц или пчёл, существа без третьего измерения! Нам только кажется, что мы пребываем в нём, но по большому счёту мы его не чувствуем, ползая, как тараканы, на плоскости. От этого наше сознание плющится — вот вам корень зла, вот разгадка человеческой неудовлетворенности!
Заметьте, мысль, залетая в мою голову, не умирает от одиночества! Тогда почему я продаю женское бельё?
Иосиф А., 52 года, коммивояжёр. Рекомендована госпитализация.
— Я больше не могу. Не могу! НЕ МОГУ-У-У-У!!!
Зигфрид Г., 57 лет, психиатр. Неизлечим.
д-р Зигфрид Грейд. «Болезни среднего класса» (2007)
НА СВОЁМ ЯЗЫКЕ
В тот вечер Моника решилась.
— Почему ты не женишься на мне? Тебе не нравится моя грудь?
Анджей отвернулся. Они уже год занимались любовью в дешёвых гостиницах, но разве это повод для знакомства? Моника не знала, что он писатель, что его последний роман забраковала критика, что профессор Зайонский опять рекомендовал ему лечь в клинику. Ему и в голову не приходило делиться этим с Моникой, кроме постели у них было мало общего. А теперь женитьба. Он знал, что рано или поздно всё придёт к этому, но вопрос всё равно застал его врасплох. И теперь приходилось мучительно искать слова. В какой-то момент Анджею захотелось пойти напролом, говорить о себе, своих планах, рассказать о той щемящей пустоте, которая в последнее время не покидает его даже во сне.
Он уже открыл рот, но вместо этого глухо произнёс:
— Да, мне не нравится твоя грудь…
Кшиштоф Беднарский. «Да или нет» (1975)
ТАЛАНТ НЕ ВЫБИРАЕТ
Одно время у Трибунского в Одессе было столько подражателей, что начинающим поэтам давали советы как стать вторым Трибунским. Или как им не стать. Удивительно легко его стихи находили дорогу и к сердцу юной девушки, и её бабушки, покоряли и утончённого художника, и портового грузчика. Без преувеличения, половину города составляли его поклонники, другую — поклонницы. И вот меня, молодого сотрудника «Литературной Одессы», отправили брать у него интервью! «Баловень судьбы», — перечитывал я ночью строки, за которыми вставал образ Печорина и Чайльда Гарольда. А утром, разыскав нужный дом на Молдаванке, долго топтался перед массивной, дубовой дверью. «Из газеты, — торопливо пробормотал я вышедшей в грязном халате женщине, по-видимому, домработнице. — Можно видеть Трибунского?» «Трибунка?» — хихикнула она. И проводила на пропахшую рыбой коммунальную кухню, где костлявый, бойкий старичок в цветастых трусах чесал языком с красномордыми толстухами-соседками.
Аркадий Южный. «По ту сторону поэзии» (1926)
Чеслав Милош. Легенды современности: Оккупационные эссе
- Чеслав Милош. Легенды современности: Оккупационные эссе / Пер. с польск. Анатолия Ройтмана. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2016.
«Легенды современности: Оккупационные эссе» — книга военного времени (1942–1943), включает эссе, посвященные выдающимся литературным (Дефо, Бальзак, Стендаль, Толстой, Жид, Виткевич) и философским (Джеймс, Ницше, Бергсон) текстам, а также полемическую переписку Чеслова Милоша и Ежи Анджеевского. Исследуя современные мифы и предубеждения, апеллируя к традиции рационализма, Милош пытается найти точки опоры для униженной двумя мировыми войнами европейской культуры: «Основная их тема, уснащенная различными отступлениями, — очищение поля от убеждений о врожденных импульсах человека или же о естественных условиях его жизни, — не без надежды, что, разрушая легенды, которые он сам о себе творит, человек сумеет найти более надежную точку опоры».
Легенда острова
Я знал пожилую женщину, которая в трудные минуты
жизни медленно подносила руки к вискам и говорила:
«Ах, оказаться бы на необитаемом острове, не иметь с
людьми ничего общего, убежать, убежать куда-нибудь
далеко». Всегда вижу ее, стоящую у окна, за которым
колышутся осенние деревья и белесым пятном поблескивает озеро. Слова ее звучали не на фоне городского
движения, их нельзя было приписать недружелюбному
отношению к толпе, заполняющей улицы, фабрики и
кофейни. Вокруг простирались глубокая деревня, леса и
бездорожье. Люди, от которых она хотела убежать, — ее
ближайшая родня, кухарка, старый сторож лесопилки.
Вспоминая этот образ, я думаю обо всех женщинах
и мужчинах, которые подобным жестом и подобными
словами выражали тоску по полному одиночеству, о
поколениях, которые взращивали легенду острова. Необитаемый остров! Облеченная в конкретную форму в
«Робинзоне Крузо» и передаваемая из рук в руки как
рождественский подарок, как первая книга о мире —
она была одним из тех символов, обретенных уже в детстве,
которым язык взрослых пользовался для обозначения сложных переживаний. Необитаемый остров —
это легенда и — как всякая легенда — заключает в себе
содержание более глубокое, чем события, ее породившие и образующие ее внешний скелет. Определенные
предметы, благодаря их «подспудным» связям с характерными особенностями человеческой природы, приобретают над человеком почти магическую власть, входят
в обиходный словарь, служат для называния потаенных
желаний. Сказать «остров» — значит в то же время сказать об отстранении от земли преградой, трудной для
преодоления, но преградой прозрачной, голубой, не
представляющей помехи для взгляда. Остров означает
безопасность его жителей в отличие от борьбы, споров
и войн остального человечества. Это — отсутствие угрозы, присущее всякой легенде о счастье, будь то библейский рай или вынесенный за пределы истории «золотой
век», открывающий «Метаморфозы», — суще ственная
особенность острова. Таким он представляется воображению ребенка (ни учитель, ни родители уже не сумеют нас настигнуть — излюбленное мечтание во время
урока), таким он представлялся воображению разных
эпох («острова блаженных», остров Утопия).Можно еще предположить, что остров вводит иное
понятие времени, чем время, в котором мы обычно живем. Человек воспринимает время с помощью образов
пространства (время течет, «отрезок» времени, большой
«промежуток» времени), видит время как некий изменчивый флюид, парящий над землей. Выкраивая остров
из материка, окружая его голубизной моря, человек
склонен, путем многих удивительных и прекрасных
ошибок, отделять его время от материкового времени,
склонен придавать острову другое время, как он дает
ему законы и привилегии, отличающиеся от материковых. Действие времени на человека — и, следовательно
старение — мучительно там, где молодость окружающих его людей на каждом шагу напоминает о числе
прожитых лет. Островитяне из легенды составляют
одно поколение, и время теряет свою ядовитость. Пребывание на острове нимфы Калипсо дарит вечную жизнь
или вечное спокойствие смерти. Когда хороводы влюбленных, в прощальном жесте застывших на берегу,
среди высоких оперившихся деревьев — «Отъезд на
остров Цитеру» Ватто, — двинутся из зеленого порта,
их ждет вечное счастье на острове любви. Просперо из
«Бури» Шекспира в известном смысле является властителем времени — ибо дар вызывать и усмирять бури,
каким обладает этот герой наиболее «островного» произведения в истории театра, в конечном счете представляет собой дар изменять и регулировать время, его атмосферу. Наверное, этому же следует приписать то, что
Робинзон после стольких лет, проведенных на острове,
не постарел, но покидает его, полный энергии и запала
для дальнейших путешествий.Необитаемый остров к этим общим особенностям
любого острова добавляет еще одну — на нем есть фауна и флора, но след человеческой ступни на песке —
явление неслыханное, способное ввергнуть в остолбенение. На необитаемом острове тот, кто его посещает
и вступает во владение им, сталкивается с миром без
всякой помощи и посредничества, он один, все связи с
обществом разорваны. Его поступки уже не находят
отзвука среди существ, ему подобных, — причины и
следствия поведения лежат в нем самом и нигде, кроме
него. Легенда о Робинзоне отличается от островных
легенд прошлого этим осуждением героя на жизнь в
одиночестве. Есть в этом и попытка подвергнуть природу человека экзамену, чтобы показать, кем, собственно говоря, он является, когда спадут украшающие его
одеяния условностей и приличий, и тонко обозначенное
убеждение, что в одиночестве, освободившись от пагубного влияния толпы, он способен извлечь из себя добродетели, до тех пор приглушенные, заслоненные плохими
привычками. И, следовательно, тут есть противопоставление отдельной личности коллективной жизни, слабый
набросок теории Руссо о человеке, добром от природы.
Старая женщина, тоскующая по необитаемому острову,
кажется, верит, что источник зла лежит где-то вне ее,
в ее окружении. И хотя свои слова она не принимает
всерьез, с их помощью она выражает это остранение
себя, это бегство в глубину своего существа, столь знакомые нам, когда мы видим, как механизм межчеловеческих отношений производит зло, не выделяя ни виновных, ни жертв: все одновременно являются виновными
и жертвами.После всего сказанного становится ясно, что «Робинзон Крузо» вырастает до размеров явления, которое
по своему значению намного превышает как замысел
английского романиста, так и свою литературную, художественную ценность. Книга является свидетельством, клубком, на который наматывается нить одного
из современных нам мифов. Книга христианская, но уже
есть толика сомнения в доброте мира, гримаса горечи,
последствия которой почувствует только XIX век. Христианская, поскольку Робинзон оказывается выброшенным на остров, который становится для него островом
покаяния и исправления. Спасенный рукой Провидения
из морских пучин, когда вся команда гибнет, он приходит в сознание на неизвестной земле. Первый его
рефлекс — проклясть судьбу и впасть в отчаяние. Однако, погружаясь в себя, он находит в себе самом причину
нынешнего положения: свой грех. Случай приобретает
характер справедливого приговора и в то же время милостивой опеки. Приговор Бога велел ему оказаться на
острове. Опека Бога послала ему необходимые орудия
в корпусе разбитого корабля, не забыв даже о щепотке
зерна, которое он легкомысленно высыпал, но высыпал,
ведóмый Божественной рукой, в месте, где оно могло
взойти и вызреть. Не имея моральной поддержки близких, в качестве единственной опоры располагающий
только Библией, он находит в себе самом цельную систему добра и зла и приходит к пониманию собственной
вины, определенной в соответствии с принципами
протестантско-купеческой морали: он грешил непослушанием по отношению к родителям и жаждой незаработанных барышей. Если перевести это на язык этических понятий, человек обладает врожденным умением
различать зло и добро, и по своей природе он религиозен. Стоит оторвать его от коллективных маний и коллективных пороков, и он предстанет чистым, во всем
блеске незапятнанного достоинства.Но для того чтобы такая перемена произошла, понадобилась чрезвычайная мера, неожиданное потрясение,
каким явилось постигшее Робинзона и его товарищей
кораблекрушение, потребовался разрыв с цивилизацией. Не означает ли это, что цивилизация порочна? Не
заключается ли в этом спокойное, но уже вполне определенное осуждение ее даров? <…>Формула бегства: «начать жизнь заново». С момента, когда ее сознательно или бессознательно начинают
повторять массы, — можно с большой вероятностью
сказать, что общественный барометр показывает критически высокое давление. Начать жизнь заново, как
«я», или начать жизнь заново, как сообщество? В легенде острова «я» еще находится в центре интересов, оно
существует не как вид, а как отдельное создание. Но в
то время как католик, тоже заботящийся о личности,
советовал превозмочь собственные страсти, житель воображаемого острова питает надежду самим фактом
изоляции обеспечить расцвет каким-то еще неведомым,
не проявляющимся среди повседневных дел достоинствам. Укрощение желаний уже не является для него
обязательным, поскольку тогда он, наедине с суровым
и милостивым, похожим на руководителя крупной фирмы Богом, не находит в себе иных стремлений, кроме
стремления к добру. Остров покаяния в то же время
является островом милости.Робинзон смотрит на мир антропоцентрически. Ему
не придет в голову мысль доискиваться родства между
собой и животным, растением, насекомым — он не заметит даже родства между собой и диким караибом.
Преступник или дикарь только в случае их обращения
могут претендовать на какое-то равенство. Под крышей
неба, где властвует патриархальный Бог, в этом великом здании, предназначенном для исключительного
пользования и эксплуатации человеком справедливым,
все, что растет из почвы, летает в воздухе, плывет в воде,
всякий лесной зверь и похожий на зверя варвар, — все
является средством для приумножения славы и могущества личности, силу которой составляет договор, заключенный с повелителем небес. Можно лишь поражаться
продуманному устройству мироздания: начиная от солнца, которое греет и радует, от звезд, указывающих направление мореплавателям, до самого маленького растения — всюду видна рука, озабоченная тем, чтобы
справед ливому человеку, который сумеет надлежащим
образом использовать земные вещи, хватало всего. Восхищение жильца, вступающего во владение домом: «И все
это для меня? И столько труда Ты задал себе, Господь,
в заботе обо мне? Тебе моя признательность, смирение
и благодарение».Что же, однако, произойдет с этим упорядоченным
домом, когда наступит момент постижения, краткий
проблеск сочувствия и общности со всем, что должно
было быть лишь инструментом, а оказалось чувствующим и страдающим. Ястреб, раздирающий птицу, — это
я сам. Птица, раздираемая ястребом, — это я сам. Смертельные битвы муравьев — это битвы человеческих
армий. В самопожирании бактерий, в подкарауливании
жертвы змеей среди субтропических лиан, в любовном
акте богомолов, удивительных насекомых, самка которых, намного более сильная и лучше приспособленная, съедает самца во время спаривания, — всюду поток
чего-то таинственного и неизвестного, что называется жизнью и чему подчиняется человек, хотя он и прилагает усилия вырваться из-под власти примитивных
законов.Всюду нечуткость и жестокость, борьба всех против
всех. Тогда и отгораживание себя от зрелища человеческой подлости не способно спасти веру в собственную
незаурядность и собственную возвышенную справедливость. Робинзон, прогуливаясь по своему острову, мог
бы остановиться перед сетью, сплетенной пауком, слушать сонное жужжание страдающей мухи, его могла
бы посетить одна из тех мыслей, которые способствуют
возникновению ереси и совершают философские революции. «Если тот же самый закон жизни управляет
мною и пауком, может, я не так добр, как мне кажется,
даже тогда, когда я исполняю заповеди закона Божьего. Зло сидит во мне глубоко под поверхностью вещей,
которые я знаю о себе, и мой разум может вводить меня
в заблуждение, приукрашивая спокойными светлыми
красками слепое действие инстинкта. Я уже не знаю,
не составляет ли зло моей глубочайшей, наиболее истинной субстанции».Таким образом, с какой стороны ни взглянуть, волны сомнений подмывают островок, на котором должен
был состояться единственный в своем роде эксперимент: исследование атома человечности, предпринятое,
чтобы на примере доказать истинность заранее принятой аксиомы: о врожденной доброте и врожденной религиозности человека.