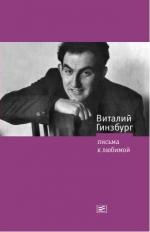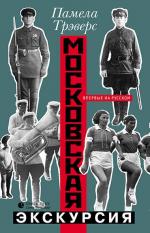- Марио Варгос Льоса. Скромный герой / Пер. с исп. К. Корконосенко. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. — 384 с.
Марио Варгас Льоса — выдающийся перуанский прозаик, лауреат Нобелевской премии по литературе. Продолжая линию великих латиноамериканских писателей, таких как Хорхе Луис Борхес, Гарсиа Маркес, Хулио Кортасар, он создает удивительные романы, балансирующие на грани реальности и вымысла. В новом романе Варгаса Льосы «Скромный герой» в завораживающе изящном ритме маринеры виртуозно закручиваются две параллельные сюжетные линии. Главный герой первой — трудяга Фелисито Янаке, порядочный и доверчивый, который становится жертвой странных шантажистов; герой второй — успешный бизнесмен Исмаэль Каррера, который на закате жизни стремится отомстить двум сыновьям-бездельникам, ждущим его смерти. И Исмаэль, и Фелисито, конечно же, вовсе не герои. Однако там, где другие малодушно соглашаются, эти двое устраивают тихий бунт. На страницах романа мелькают и старые знакомые — персонажи мира, созданного Варгасом Льосой.
I Фелисито Янакé, владелец компании «Транспортес Нариуалá», вышел из своего дома в то утро — как и каждый день с понедельника по субботу — ровно в полвосьмого, после того как посвятил тридцать минут гимнастике цигун, принял холодный душ и приготовил свой обычный завтрак: кофе с козьим молоком, тосты с маслом и капелькой меда. Дон Фелисито жил в центре Пьюры1, и на проспекте Арекипа уже бурлила утренняя толчея, высокие тротуары были заполнены горожанами, которые спешили на работу, на рынок или вели детей в школу. Благочестивые прихожанки направлялись к собору, чтобы успеть к восьмичасовой мессе. Бродячие торговцы надсаженными голосами предлагали медовые сласти, леденцы, жевательную резинку, пирожки и прочую снедь, а на углу под козырьком длинного дома в колониальном стиле уже расположился слепой Лусиндо с жестянкой для милостыни у ног. Все было, как и в прочие дни с незапамятных времен.
За одним лишь исключением. В это утро кто-то прикнопил на старую деревянную дверь, на высоте бронзового молотка, голубой конверт, на котором большими буквами было четко обозначено имя адресата: ДОН ФЕЛИСИТО ЯНАКЕ. Насколько помнил дон Фелисито, ему впервые доставляли письмо подобным образом, словно повестку в суд или квитанцию на штраф. Обычно почтальон просовывал письма в специальную щель на двери. Фелисито снял конверт, открыл и принялся читать, шевеля губами:
Сеньор Янаке!
Дела вашей компании «Транспортес Нариуала» идут очень хорошо, и это большая гордость для Пьюры и ее жителей. Но это также и риск, поскольку любое успешное предприятие может пострадать от вымогательства и вандализма людей озлобленных, завистливых и беспутных, каковых здесь, как вам хорошо известно, предостаточно. Однако не беспокойтесь. Наша организация возьмет на себя защиту «Транспортес Нариуала», а также вас и вашего достойного семейства от любой обиды, домогательства либо угрозы со стороны злоумышленников. Наше вознаграждение за эту работу исчисляется в пятьсот долларов в месяц (скромная сумма для вашей фирмы, как вы сами понимаете). Мы своевременно свяжемся с вами по поводу условий оплаты.
Нет необходимости напоминать, что это письмо следует сохранить в тайне. Все вышеизложенное должно остаться между нами.
И да хранит вас Бог.Вместо подписи стоял неумелый рисунок — нечто вроде паучка.
Строки были написаны неровным почерком, с чернильными кляксами. Коммерсант был удивлен и заинтригован, впрочем ему показалось, что все это дурацкая шутка. Он смял письмо и конверт и чуть было не выбросил в урну рядом со слепым Лусиндо. Но передумал, разгладил бумагу и спрятал в карман.
Его дом на улице Арекипа и офис на проспекте Санчеса Серро2 разделяла всего дюжина куадр3. В то утро Фелисито по дороге не планировал свое рабочее расписание, как привык делать каждое утро, а продолжал прокручивать в голове письмо паучка. Принимать ли его всерьез? Может, заявить в полицию? Шантажисты предупреждали, что свяжутся с ним «по поводу условий оплаты». Быть может, лучше подождать, пока они этого не сделают, а уж потом обращаться в полицию? Возможно, все это было просто шалостью какого-нибудь лоботряса, решившего его напугать? Преступность в Пьюре с недавних пор действительно возросла: домовые кражи, уличные ограбления и даже похищения, организованные, как поговаривали, мафиозными семьями, в одной из которых заправлял Худышка, в другой — Горожане. Фелисито чувствовал себя растерянным, нерешительным, но в одном он точно был уверен: никогда, ни при каких обстоятельствах он не станет платить этим бандитам ни сентаво4. И снова, как бывало много раз в его жизни, Фелисито вспомнились предсмертные слова отца: «Сын, никогда не позволяй себя топтать. Этот совет — единственное наследство, которое ты получишь». Сын прислушался к отцовскому совету и никогда не позволял себя топтать. И теперь, прожив уже больше полувека, он не собирался менять свои привычки. Дон Фелисито настолько погрузился в эти размышления, что едва успел кивком поприветствовать поэта Хоакина Рамоса5 и тут же ускорил шаг; обычно он останавливался, чтобы переброситься парой слов с этим неисправимым гулякой, который, проведя ночь в каком-нибудь шалмане, плелся домой со стеклянным взглядом, с неизменным моноклем в правом глазу, подгоняя свою козочку, которую именовал газелью.
Когда Фелисито дошел до офиса «Транспортес Нариуала», в путь уже отправились, точно по расписанию, автобусы в Сульяну, Талару и Тумбес, в Чулуканас и Морропон, в Катакаос, Ла-Уньон, Сечуру и Байовар — все с достаточным числом пассажиров, так же как и маршрутки в Чиклайо, и грузотакси в Пайту. У окошек люди отправляли посылки или интересовались расписанием вечерних автобусов и маршруток. Секретарша Хосефита, такая востроглазая, с крутыми бедрами, в открытой блузке, уже положила на рабочий стол хозяина список предстоящих сегодня встреч и поставила термос с кофе, который он обычно выпивал в течение утра, до обеда.
— Что с вами, шеф? — возгласила Хосефита вместо приветствия. — Да на вас лица нет! Что, ночью кошмары снились?
— Так, мелкие проблемы, — буркнул Фелисито, снимая шляпу и пиджак, определяя им положенное место на вешалке. Но, сев за стол, он тотчас же вскочил и снова оделся, словно вспомнил о неотложном деле.
— Скоро вернусь, — бросил Фелисито секретарше, направляясь к выходу. — Иду в полицию подавать заявление.
— Вас что, ограбили? — Хосефита выпучила накрашенные глаза. — Теперь в Пьюре такое каждый день случается.
— Нет-нет, после расскажу.
Дон Фелисито уверенным шагом направился в комиссариат полиции, который располагался совсем недалеко от его конторы, на том же самом проспекте Санчеса Серро. Время было еще раннее и жара — терпимая, но коммерсант знал, что меньше чем через час тротуары перед туристическими агентствами и транспортными компаниями начнут плавиться и он вернется в свой офис весь в поту. Его сыновья, Мигель и Тибурсио, не раз говорили, что это просто безумие — носить пиджак, жилет и галстук в городе, где все — и бедняки, и богатеи — круглый год ходят в одних рубашках или безрукавках. Но Фелисито никогда не расставался с этими предметами гардероба с самого момента основания «Транспортес Нариуала», гордости всей его жизни; и зимой и летом он всегда надевал шляпу, жилетку, пиджак и галстук, завязанный крошечным узлом. Фелисито был мужчина невысокий и очень худой, немногословный и работящий; в Япатере, где он родился, и в Чулуканасе, где ходил в школу, он никогда не носил ботинок. Ботинки у него появились, только когда отец забрал его в Пьюру. В свои пятьдесят пять лет Фелисито оставался здоровым, энергичным и работящим. Он полагал, что своей хорошей физической формой обязан утренним упражнениям цигун; этой гимнастике коммерсант выучился у своего друга, покойного бакалейщика Лау. Это был единственный вид спорта, которым Фелисито занимался помимо прогулок, — если только можно назвать спортом эти движения словно в замедленной съемке, служащие вовсе не укреплению мускулов, — нет, то был иной, мудрый способ дыхания. Дон Фелисито добрался до участка в поту и в ярости. Шутка это или нет, но человек, написавший письмо, заставил его потерять целое утро.
Изнутри комиссариат напоминал плавильный котел, а поскольку все окна были закрыты, то двигаться приходилось в полутьме. При входе стоял вентилятор, но он не работал. Дежурный за столом, безбородый юнец, спросил Фелисито о цели прихода.
— Будьте добры, я хотел бы переговорить с вашим начальником. — Фелисито протянул дежурному свою визитную карточку.
— Комиссар в отпуске, будет через несколько дней, — ответил юнец. — Если хотите, вас может принять сержант Литума6, сейчас он здесь главный.
— Что ж, тогда я поговорю с ним, спасибо.
Коммерсанту пришлось прождать четверть часа, пока сержант не соизволил его принять. Когда дежурный проводил его в крохотную клетушку, весь платок Фелисито был мокрый от постоянного промакивания лба. Сержант не поднялся из-за стола, чтобы приветствовать посетителя. Он просто протянул дону Фелисито пухлую влажную пятерню и указал на стул перед столом. Литума был мужчина дородный, склонный к полноте, с добродушным взглядом и двойным подбородком, который он любовно оглаживал время от времени. Одет он был в пропотевшую под мышками рубашку цвета хаки, расстегнутую сверху. На столике перед Литумой стоял вентилятор, который действительно работал. Фелисито был благодарен сержанту за дуновение свежего воздуха, омывавшего его лицо.
— Чем могу быть вам полезен, господин Янаке?
— Я только что получил это письмо. Его прикрепили к двери моего дома.
Сержант Литума надел очки, которые придавали ему вид провинциального адвоката, и принялся изучать послание.
— Прекрасно, прекрасно, — изрек он наконец с совершенно непонятным для Фелисито выражением лица. — Таковы следствия прогресса.
Увидев растерянность на лице коммерсанта, сержант, не выпуская письма из рук, объяснился:
— Пока Пьюра была бедным городом, таких штучек не случалось. Кому тогда могло прийти в голову стричь купоны с коммерсанта? Но теперь, когда у людей завелись денежки, пройдохи показывают когти, они не прочь поживиться за чужой счет. Во всем этом, сеньор, виноваты эквадорцы. Поскольку они не доверяют своему правительству, то изымают свои капиталы и пытаются вложить деньги здесь. Они набивают карманы за счет нас, пьюранцев.
— Это меня никак не утешает, сержант. К тому же, если послушать вас, создается впечатление, что если в Пьюре дела сейчас идут хорошо, то это просто беда.
— Такого я не говорил, — высокомерно перебил сержант. — Речь только о том, что все в этой жизни имеет свою цену. И вот она, цена прогресса.
Литума снова помахал письмом паучка, и Фелисито показалось, что его смуглое округлое лицо скривилось в издевательской гримасе. В глазах Литумы поблескивали желто-зеленые огоньки, как у игуаны. Где-то в дальней комнате раздался пронзительный вопль: «Самые лучшие задницы Перу — здесь, в Пьюре. Вот так-то, мля!» Сержант улыбнулся и покрутил пальцем у виска. Фелисито нахмурился, он ощущал приближение приступа клаустрофобии. Среди этих деревянных панелей, увешанных объявлениями, сводками, фотографиями и вырезками из газет, почти не оставалось места на двоих. Пахло потом и сыростью.
— А у стервеца, который это написал, с орфографией полный порядок, — заметил сержант, еще раз пробежав глазами письмо. — Я, по крайней мере, грамматических ошибок не нахожу.
Фелисито почувствовал, как закипает его кровь.
— Я в грамматике не силен и не думаю, что это так уж важно, — неприветливо буркнул он. — И как, вы полагаете, теперь следует поступить?
— Пока никак, — безразличным тоном ответствовал сержант. — Я на всякий случай запишу сведения о вас. Возможно, этим письмом все и ограничится, если кому-нибудь из ваших знакомых просто пришло желание вам напакостить. А может быть, все это всерьез. Тут сказано, что они свяжутся с вами в отношении оплаты. Если так и будет, то приходите обратно к нам, мы разберемся.
— Вы как будто не придаете этому делу никакой важности! — возмутился Фелисито.
— А никакой важности пока и нет. — Сержант невозмутимо пожал плечами. — Передо мной всего лишь скомканный лист бумаги, сеньор Янаке. Может быть, это всего- навсего глупая шутка. Однако, если дело окажется серьезным, заверяю вас, полиция тотчас вмешается. А теперь — за работу.
Дону Фелисито пришлось еще долго диктовать сведения о себе и о своей конторе. Сержант Литума записывал их в тетрадь с зеленой обложкой, то и дело слюнявя карандашик. Коммерсант отвечал на излишние, по его мнению, вопросы с растущим чувством уныния. Приход в полицию с заявлением оказался пустой тратой времени. Этот фараон ради него и палец о палец не ударит. К тому же не зря ведь полицию называют самым продажным из всех государственных учреждений. Возможно, что и само письмо с паучком пришло к нему из этой зловонной пещеры. Когда Литума объявил, что письмо должно остаться в комиссариате полиции в качестве вещественного доказательства, Фелисито так и подпрыгнул на стуле:
— Вначале я хочу снять с него копию.
— Здесь у нас нет копира. — Сержант обвел взглядом по-спартански строгую обстановку. — Зато на проспекте вы найдете их сколько угодно. Сходите, сделайте копию и возвращайтесь, дон. Я буду ждать вас здесь.
Выйдя на проспект Санчеса Серро, Фелисито отыскал копировальный аппарат недалеко от продовольственного рынка. Пришлось дожидаться, пока какие-то инженеры снимали копии с целой стопки планов, и он решил не возвращаться на допрос к сержанту. Фелисито передал копию письма желторотому дежурному, сидевшему за столом в первой комнате, а сам, вместо того чтобы вернуться в офис, снова нырнул в толчею центральных кварталов, заполненных прохожими, автомобильными гудками, жарой, звуковой рекламой, машинами, мототакси и ревущими мотороллерами. Фелисито пересек проспект Грау7, прошел под сенью тамарисков на Пласа-де-Армас и, подавив искушение выпить фруктовый коктейль в кафе «Лошадник», направился в старинный квартал возле скотобойни у реки, в Гальинасеру, где прошла его юность. Фелисито молил Бога, чтобы Аделаида оказалась у себя в лавке. Ему сейчас очень хотелось с ней побеседовать. Эта беседа сильно бы его успокоила, а возможно, Святоша поможет добрым советом. Жара уже стояла невыносимая, а ведь еще не было и десяти. У Фелисито вспотел лоб, к затылку как будто приложили раскаленную пластину. Он двигался быстро, мелкими энергичными шажками, сталкиваясь с другими прохожими на узких тротуарах, пропахших мочой и пригоревшим мясом. Где-то рядом радио на полную мощь наяривало сальсу «Мерекумбе».
Фелисито иногда говорил сам себе — а несколько раз сообщил жене и сыновьям, — что Господь, дабы вознаградить его за труды и жертвы всей жизни, свел его с двумя людьми: бакалейщиком Лау и гадалкой Аделаидой. Без них он никогда не продвинулся бы в делах, не открыл бы транспортную контору, не создал бы достойную семью и не обладал бы железным здоровьем. Фелисито никогда не был человеком компанейским. С тех пор как беднягу Лау свела в могилу желудочная инфекция, только Аделаида оставалась его другом. По счастью, она оказалась на месте, сидела за прилавком, заваленным травами, вышивками, фигурками святых и разными безделушками, и разглядывала фотографии в журнале.
— Здравствуй, Аделаида. — Фелисито протянул женщине руку. — Ты мне пятерку не разменяешь? Как я рад, что тебя застал!
Аделаида была мулатка без возраста, крепенькая, толстозадая, сисястая, она всегда ходила по земляному полу своей лавочки босиком, с распущенными кучерявыми волосами до плеч, в одной и той же мешковатой рубахе землистого цвета, доходившей до самых щиколоток. У нее были огромные глаза, которые не просто смотрели, а буравили, но этот взгляд смягчался приветливым выражением лица, так что люди сразу ей доверяли.
— Если ты ко мне пришел, значит с тобой случилось или вскоре случится что-то нехорошее, — рассмеялась Аделаида, шлепая себя по пузу. — Ну и в чем же твоя проблема, Фелисито?
Коммерсант протянул ей письмо:
— Сегодня утром его прикрепили к моей двери. Не знаю, что делать. Я заявил в полицию, но думаю, это просто без толку. Фараон, с которым я разговаривал, не слишком со мной церемонился.
Аделаида ощупала письмо, а потом обнюхала: прорицательница как будто вдыхала аромат духов. Потом она поднесла бумагу к губам, и Фелисито почудилось, что Аделаида даже обсосала уголок письма.
— Прочитай-ка мне вслух, Фелисито, — попросила она, возвращая письмо. — Я вижу, это не любовная записка, вот жалость какая!
Аделаида слушала очень внимательно. Когда Фелисито дочитал до конца, она скроила смешную гримасу, раскинула руки и вопросила:
— И чего же ты от меня хочешь, куманек?
— Ответь, Аделаида, это вообще всерьез? Следует мне беспокоиться или нет? А может быть, это просто глупая шутка? Пожалуйста, объясни мне, в чем тут дело.
Святоша рассмеялась так, что все ее крепкое тело сотряслось под бурым балахоном.
— Я не Господь Бог, чтобы знать про такие вещи! — воскликнула она, пожимая плечами и всплеснув руками.
— А озарения тебе ничего не подсказывают, Аделаида? За все двадцать пять лет, что мы знакомы, ты ни разу не дала мне плохого совета, все твои слова пошли мне на пользу. Я вообще не знаю, кумушка, как бы жил без тебя. Так присоветуй мне что-нибудь и сейчас.
— Нет, дружочек, не могу, — ответила Аделаида делано печальным голосом. — Не приходит ко мне озарение. Прости, Фелисито.
— Ну ладно, что ж поделаешь, — согласился коммерсант и полез за бумажником. — Не приходит так не приходит.
— За что же ты платишь, если я ничего не посоветовала? — возмутилась женщина. Но в конце концов, повинуясь настоятельным уговорам Фелисито, спрятала в карман купюру в двадцать солей.
— Можно я чуток посижу здесь, в тенечке? Уж очень я набегался, Аделаида.
— Садись и отдыхай, куманек. Я принесу тебе холодной водички попить, фильтрованной. Давай располагайся.
1 Пьюра — город на северо-западе Перу, на побережье Тихого океана, место действия многих произведений Варгаса Льосы. — Здесь и далее примеч. перев.
2 Луис Мигель Санчес Серро (1889–1933) — военный и политический деятель родом из Пьюры, президент Перу с 1931 по 1933 год.
3 Куадра — мера длины, около 125 метров.
4 Перуанский соль составляет 100 сентаво.
5 Хоакин Рамос со своей козой-газелью упоминается на первых страницах повести Варгаса Льосы «Кто убил Паломино Молеро?» (1986).
6 Литума — персонаж многих произведений Варгаса Льосы.
7 Мигель Грау Семинарио (1834–1879) — адмирал, национальный герой Перу. Родился в городе Пайта, неподалеку от Пьюры; погиб в войне с Чили.
Рубрика: Отрывки
Александр Эткинд. Кривое горе: Память о непогребенных
- Александр Эткинд. Кривое горе: Память о непогребенных / Авториз. пер. с англ. В. Макарова. — М.: Новое литературное
обозрение, 2016. — 328 c.Это книга о горе по жертвам советских репрессий, о культурных механизмах
памяти и скорби. Работа горя воспроизводит прошлое в воображении, текстах и ритуалах; она возвращает мертвых к жизни, но это не совсем жизнь.
Культурная память после социальной катастрофы — сложная среда, в которой
сосуществуют жертвы, палачи и свидетели преступлений. Среди них живут
и совсем странные существа — вампиры, зомби, призраки. От «Дела историков» до шедевров советского кино, от памятников жертвам ГУЛАГа до постсоветского «магического историзма», новая книга Александра Эткинда рисует
причудливую панораму посткатастрофической культуры.8. ИСТОРИЯ ДВУХ ПРЕВРАЩЕНИЙ
В самом важном фильме о сталинском периоде русской истории — «Хрусталев, машину!» Алексея Германа (1998) — его
протагониста, генерала медицинской службы, везут в тюрьму.
По дороге генерала Кленского насилует группа зэков, выполняя кровавый советский ритуал, прелюдию к дальнейшим пыткам. Но
вдруг его, истекающего кровью и калом, переодевают в парадную форму,
обрызгивают одеколоном и привозят к больному Сталину. Там к изнасилованному генералу возвращаются военная выправка и клиническая
сосредоточенность. Сталин умирает у него на руках; доктору удалось
лишь помочь старику испустить накопившиеся газы. Пока Кленский
из мучимой жизни заключенного возвращается к своим обязанностям
профессионала, офицера и гражданина, — за то же мгновение всемогущий диктатор испускает дух и газы, пройдя стадию голой, смердящей
жизни. В этой центральной сцене вождь и отверженный встречаются,
меняясь местами: один поднимается из гражданской смерти через голую
жизнь к политическому бытию, другой — падает с вершин через голую
жизнь в смерть. Встретившись на миг, траектории их движения образуют
Х-образную схему.Герман был учеником Григория Козинцева, автора советского
«Гамлета» (см. главу 7). До «Хрусталева» он снял несколько выдающихся фильмов, в частности «Мой друг Иван Лапшин» (1984) по
повестям своего отца Юрия Германа, который и сам писал о врачах
и чекистах. Террор не тронул его, и «Хрусталев» родился, по словам
Алексея Германа, как фантазия о том, что произошло бы с отцом в случае его ареста: «Все идет из моего детства — лица, чувства, вообще
все»2.
В обоих этих фильмах Германа, «Лапшине» и «Хрусталеве»,
рассказчиком является сын, но в «Лапшине» отец восхищается советской властью и прославляет НКВД (что он и делал десятилетиями),
тогда как в «Хрусталеве» сын оплакивает отца, ставшего жертвой той
же власти. Работая с этими гамлетовскими темами после Козинцева,
Герман обращается к совсем другой культурной традиции — к плутовскому роману. Отту да он заимствует своего необыкновенного героя,
просвещенного и властного, наделенного магическими способностями
и уязвимого, как это свойственно человеку. Из плутовского романа
пришел и контраст между героем и его варварским окружением, немотивированные перемещения этого героя-трикстера в социальном
пространстве и общая атмосфера тоскливой, непроясненной горечи2.
Эта особенная традиция, которую принимали за «мировую культуру»,
была важна и для других позднесоветских авторов — Синявского,
Свешникова, Козинцева; восходя к религиозным войнам постсредневековой Европы, эта традиция вполне выявилась в последнем фильме
Германа, «Трудно быть богом». Значение этой плутовской традиции
велико и в критической теории ХХ века; ее имели в виду Вальтер
Беньямин и Михаил Бахтин, подчеркивая способность плутовских
сюжетов высмеивать власть, проблематизировать статусы и поминать
жертвы. Размышляя о связи между сталинским ГУЛАГом и бахтинским
карнавалом, я стал замечать, что конструкция плутовского романа
характерна для многих российских фильмов о советском прошлом.
В некоторых и, возможно, наиболее примечательных постсоветских
фильмах действие тоже развивается, как в «Хрусталеве», через превращения двух героев: гражданин становится жертвой, жертва становится гражданином и оба встречаются в центральной точке этого
Х-образного пути.Большой Икс
Забавно работают эти превращения в эпической трилогии Никиты
Михалкова «Утомленные солнцем» (1994, 2010, 2011). Первая, самая
успешная в прокате часть трилогии заканчивается сценой, в которой
красного командира Котова (его играет сам Михалков) арестовывают
и избивают агенты НКВД. В одно мгновение блестящий Котов превращается в окровавленное тело, комок мучимой жизни. Через пятнадцать лет, во второй части фильма, зрители снова увидели Котова;
в исполнении неутомимого Михалкова он, в белой парадной форме,
принимает у себя на даче самого Сталина. Жена Котова (ее, в отличие
от мужа, играет теперь другая актриса, так что героиня по-прежнему
молода) испекла для гостя огромный торт: шоколадный портрет вождя плавает поверх белого крема. Рябой, но великодушный Сталин
хочет попробовать торт, только никто не решается в его присутствии
разрезать его портрет. Наконец вождь делает это сам, склонившись над
своим шоколадным отражением; но тут Котов толкает его лицом в торт.
Захлебываясь кремом, Сталин барахтается в торте, а Котов истерично
кричит и просыпается. Он в лагерном бараке, и мы понимаем: все произошедшее было сном заключенного. В этом кратком и драматичном сне
Сталин и Котов меняются местами: первый спускается с небес прямо
лицом в торт, а второй, наоборот, возносится над жизнью заключенного, на миг возвращая себе чин, выправку и мужество. Перед нами вновь
Х-образная схема двух превращений.Главный герой фильма Александра Прошкина «Холодное лето пятьдесят третьего» (1987) — бывший капитан военной разведки, выживший на фронте, а потом в ГУЛАГе. После смерти Сталина он живет
в северной деревне и, отказываясь работать, питается подачками местных жителей. Все знают его как Лузгу, а его настоящее имя и прошлое
никому не нужны. Он настоящий доходяга — истощенный, апатичный
и молчаливый. Но когда банда амнистированных лагерников приходит
грабить и насиловать деревенских, а советская администрация лебезит
перед уголовниками, Лузга принимает бой и спасает деревню3. В микрополитике «Холодного лета…» доходяга становится сувереном. Он приносит мир своей земле, убивая врагов и принося в жертву друзей. Перед
нами вновь Х-образное перемещение по политическому пространству:
власти предержащие оказываются рабами, а низший из низших с достоинством осуществляет власть.Лузга ожесточен, но автономен и под конец даже доволен собой.
«Холодное лето…» продолжает традицию британских и американских
фильмов о шпионах: умелый герой сохраняет достоинство, невзирая
на обстоятельства; кем бы он ни прикидывался, он остается чужд пространству, в котором оказался. Но в отличие от своих более удачливых
коллег вроде Джеймса Бонда, Лузга принадлежит тому же политическому сообществу, куда входят и его враги-бандиты, и жители деревни.
Конечно, маловероятно, чтобы истощенный, годами недоедавший герой
мог уничтожить вооруженную банду. Но ведь непостижимо и то, что тысячи боевых офицеров победившей армии оказались в ГУЛАГе. История
Лузги, как и множество других историй сталинской эпохи, невообразима и необъяснима. Этот конфликт между непостижимостью ГУЛАГа
и его общеизвестной реальностью обеспечил успех фильму Прошкина.Итак, на наших глазах все три жертвы — Кленский, Котов и Лузга — превращаются в героев. Такую трансформацию можно считать
гулаговской версией сказок о Братце Кролике, Иване-дураке или Принце и Нищем, в которых чудесное вмешательство поднимает низшего из
низших на самый верх. Антропологи считают эти народные сюжеты
«оружием слабых», скрытыми транскриптами, которые сочиняют угнетенные, чтобы отречься от подчиненного положения и подготовить
в уме черновики будущих восстаний4. И все же никаких восстаний в этих
трех фильмах мы не видим. Преображения их плутовских героев происходят в моральной, а не политической вселенной.Это различие особенно отчетливо в фильме Павла Лунгина «Остров» (2006). Фильм был снят в Кеми, где находился транзитный лагерь
ГУЛАГа на пути в Соловки; но в нем почти нет отсылок к ГУЛАГу
и сталинизму. Действие картины начинается во время войны, в 1942-м.
Главный герой, моряк Анатолий, оказывается жалким трусом. Он предал немцам своего капитана и по их требованию убил его, чтобы спасти
свою жизнь. Эта вводная сцена снята в черно-белой гамме, знакомой
по советским фильмам о войне. Потом из 1942 года мы переносимся
в 1974-й, картинка становится цветной, а Анатолий — мудрым и набожным старцем, живущим в православном монастыре. Он творит чудеса,
говорит правду властям и вызывает у других монахов благоговейный
трепет. Все в фильме — сценарий, режиссерское решение фильма, игра
двух очень разных актеров, показывающих героя в разные периоды
жизни, — подчеркивает преображение Анатолия.В центральной сцене «Острова» Анатолий снова встречается со
своим бывшим капитаном. Чудом пережив когда-то выстрел Анатолия,
тот стал теперь адмиралом. Дочь его одержима бесами, и он привозит ее
к святому старцу на исцеление. Тут, на сеансе экзорцизма, они и узнают
друг друга. Фильм старательно подчеркивает трудности узнавания: на
роли героев в старости подобраны актеры, которые совсем не похожи на
тех, кто играет их в молодости. Две жизненные траектории пересеклись
и почти что поменялись местами. Трус и предатель превратился в святого, а герой, смело встречавший смерть с папиросой в зубах, — в страдающего отца и нервного бюрократа. «Не бойся», — говорит Анатолий
своему бывшему командиру, который когда-то ничего не боялся. Так
Анатолий узнает, что он не убил капитана; теперь и ему бояться нечего.
Он не совершил смертного греха, поэтому он готов умереть. На наших
глазах он умирает без страха.В этом фильме мы снова видим траектории, ведущие с самого низа
на самый верх и наоборот, с самого верха в самый низ: пути обмена
между голой и суверенной жизнью. Мир лежит между этими полюсами,
но он в этих фильмах отсутствует. Плутовской сюжет, неожиданно появившийся в коммерчески успешных постсоветских фильмах, нуждается
в объяснении. Я полагаю, что мы имеем дело не с отражением истории,
а с механизмами памяти5.
1 Эти строки первоначально были вычеркнуты цензурой. В неподцензурном издании 1918г. Маяковский заменил «который-то» на «шестнадцатый». Он хотел показать, что предсказывал революцию, но не хотел, чтобы пророчество выглядело подозрительно точным.
1 «Алексей Герман», документальный фильм Петра Шепотинника (канал «Рос-
сия», 2005).2
О трикстерах в советской и постсоветской литературе см.: Lipovetsky M. Charms of
the Cynical Reason: Tricksters in Soviet and Post-Soviet Culture. New York, 2010.3
Об историческом контексте амнистии 1953 года см.: Dobson M. Khrushchev’s Cold
Summer: Gulag Returnees, Crime, and the Fate of Reform aft er Stalin. Ithaca, N.Y.: Cornell
University Press, 2006.4
См.: Scott J.C. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven,
Conn.: Yale University Press, 1985; Levine L.W. Th e Unpredictable Past: Explorations
in American Cultural History. Oxford: Oxford University Press, 1993.5
О горе и кинематографической памяти см.: Santner E. Stranded Objects: Mourning,
Memory and Film in Postwar Germany. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1990; Rosenstone
R.A. (ed.). Revisioning History: Film and the Construction of a New Past. Princeton, N.J.:
Princeton University Press, 1995; Lowenstein A. Shocking Representation: Historical Trauma,
National Cinema, and the Modern Horror Film. New York: Columbia University Press, 2005.
Вероника Боде. Доктор Гоа
- Вероника Боде. Доктор Гоа. — М.: Новое литературное обозрение, 2016. — 480 с.
Это книга о любви. О любви Индии к людям, человека — к животным,
людей — друг к другу. И к Индии. Из Москвы и Киева, Петербурга
и Алма-Аты, с Урала и Кубани в деревню на берегу океана приезжают
люди со сложными, часто изломанными судьбами, усталые, отчаявшиеся, разочарованные. Приезжают и остаются там жить. У каждого своя неповторимая история, и эти истории они рассказывают автору книги. В Гоа начинается новая жизнь. Но и такой путь совсем не прост. Об этом — в новой книге
художественно-документальной прозы Вероники Боде.НАДЯ
С Надей нас буквально свела судьба в Непале. Мы познакомились в Гоа, но жили далеко друг от друга и общались там
мало. Надя работала переводчиком у тайваньского доктора
Куку, а я была его пациенткой. В конце сезона я случайно
узнала, что Надя уехала в Катманду. И вдруг возникла очень
четкая мысль: значит, я ее там встречу, ведь я тоже еду
в Непал. Вообще-то шансов на это было немного: Катманду — город не такой уж маленький, это не гоанская деревня,
где знакомых встречаешь на каждом углу. Но я почему-то
была уверена, что мы увидимся.Гестхаус в Катманду я нашла в Интернете. Списалась с хозяином, и он встретил меня в аэропорту. По дороге сообщил,
что у него уже живет одна русская женщина, ее зовут Надя.
Так мы и встретились: я приехала прямо в гест, где она жила.
Видимо, судьбе было угодно, чтобы я взяла у Нади это интервью. Впоследствии многие непальцы говорили мне о Наде
как об одном из лучших гидов по стране. И в тот момент
у нее начиналась работа: через два дня после моего приезда
Надя уходила на три недели с группой в горный поход, так
что времени было мало, но она все-таки нашла пару часов
для беседы.В Непале свет дают по расписанию, часов на двенадцать
в сутки. В тот вечер электричества у нас в гесте не было.
Надя пришла ко мне в комнату с фонариком, и мы записали
интервью при свете свечи.Мне 47 лет. Я родилась и выросла в Петербурге. По образованию — историк: закончила истфак Герценовского
университета. Работала в школе, в разных ипостасях: от
учителя до заместителя директора. Потом защитила диссертацию, работала в Академии педагогического мастерства,
читала лекции завучам и директорам школ. Затем закончила
Восточно-Европейский институт психоанализа в Петербурге,
занималась частной практикой. Параллельно продолжала
работать в образовательных проектах. Тогда Британский
совет организовывал в России крупные проекты, я была
координатором.В 2003 году я со своей подругой случайно оказалась в Индии
и попала к истоку Ганги, в Ганготри. Я почувствовала себя
там очень хорошо: и физически, и внутренне. Потом были
и долина Кулу, и Дарамсала, и другие места. В следующий
раз я приехала в Индию в 2006 году с группой друзей. Мы
составили маршрут большого путешествия по долине Спити,
по Кейнору в штате Химачал-Прадеш, по индуистским, по
буддийским местам. А оттуда я прилетела в Катманду: думала,
что ненадолго, а оказалось вот — надолго.— А когда вы начали работать гидом?
— Я не гид. Я довольно долго ходила по Гималаям сама — в Непале и в Индии, смотрела разные места. Как раз в 2006 году
в Непале закончилась гражданская война и стали открываться дальние области на западе страны, прежде закрытые
гималайские долины. У меня был и исторический интерес,
и в горах хотелось быть подольше — вот все это вместе меня
туда и водило. Сначала погуляла немного в районе Аннапурны, потом съездила в Лумбини, посмотрела Читван. А затем
стала приезжать сюда регулярно и жить подолгу: по полгода,
иногда дольше. Здесь хорошие сезоны — осень и весна, но
бывало так, что я и на зиму задерживалась. Последние два
года я и лето провожу в основном здесь, больше живу тут,
чем в Индии и в России.— У вас есть семья?
— У меня двое взрослых сыновей. А в сентябре я стала бабушкой.
— Как семья относится к тому, что вас почти
никогда нет дома?— Сыновья очень рады. Им больше места в квартире остается.
— Вы водите людей по Непалу. У вас на визитке
написано «Путешествия и приключения». И при
этом говорите, что вы — не гид. Кто же вы?— На моей визитке написано, что я являюсь консультантом
туристической компании (это одна из крупнейших компаний
в Непале). Меня познакомили с ее президентом в 2007 году,
и он меня попросил разработать новые маршруты для европейских путешественников. Туризм в Непале существует как
минимум полвека, и многие маршруты стали уже избитыми,
исхоженными, так что было интересно, какие новые программы может сделать свежий человек. Я стала ходить в те новые
районы, которые открылись после окончания гражданской
войны, после того как стало безопасно путешествовать по
ранее закрытым территориям, по отдаленным районам, вблизи
от тибетской границы. Мы делали такие разведывательные походы. Сейчас все эти маршруты уже довольно популярны.— То есть вы были первооткрывателем этих
маршрутов?— Есть долины, где из русских я была первой, — например,
долина Верхний Цзум. Я не получаю зарплату ни в какой
компании, не работаю по найму. Я просто помогаю, консультирую. Это не статус, не профессия. В каком-то смысле
я — проводник, то есть могу провести людей, но это скорее
какой-то совместный интерес, реализация неких общих планов, и это мне больше интересно, чем просто зарабатывание
денег в профессии гида. Я встречаю людей из России: тех,
кому интересно не просто так сходить в трек, позаниматься
физкультурой, а тех, кто приезжает с более точными целями,
понимая, что именно ему здесь нужно. Я помогаю организовывать экспедиции для российских ученых, например для
Санкт-Петербургского союза ученых: географов, биологов.
Вожу по Непалу специалистов по индуизму, специалистов по
восточным коллекциям из наших музеев, биологов, которые
интересуются гималайской флорой и фауной, и людей, которым интересна религиозная жизнь страны. Регулярные туристы — совсем не мой профиль, я стараюсь избегать работы
со сборными группами случайных людей.— Я от вас слышала словосочетание «эзотерический тур». Вы и такие туры организуете?
— Есть группы, которые проводят ретриты в разных районах
Азии. Существуют и у нас такие походы-ретриты по Гималаям. Собираются довольно большие группы людей, человек
по двадцать — двадцать пять, они идут в горы в поисках
мест, связанных, например, с именами буддийских учителей
прошлого, медитируют там, беседуют, прикасаются к этому
великому культурному наследию. А в Гималаях очень много
сакральных мест, которые известны людям уже несколько
тысячелетий, и паломники стремятся хотя бы раз в жизни
побывать там.— Чем все-таки так привлекает вас Непал?
— А здесь все есть, весь мир тут собран. Есть и равнины,
и джунгли, и реки, и горы, и теплые места, и ледяные пустыни. Можно за два-три дня переместиться из высокогорной
каменистой пустыни в джунгли, к равнинным рекам с крокодилами и пресноводными дельфинами, на равнину со слонами
и носорогами. Непал маленький, но вместе с тем огромный,
бесконечный, совершенно безграничный.— Я слышала от вас такую фразу: «Страна
у нас небольшая, но прекрасная». Меня поразило
вот это «страна у нас», то есть «наша страна». Означает ли это, что Непал сейчас для
вас — в большей степени родина, чем Россия?— Нет. Моя родина — Россия. Это невозможно отменить:
я оттуда пришла, туда и вернусь. Просто с Непалом мой
мир расширился, из замкнутого пространства открылся
в нескончаемый, безграничный мир. И это не вопрос перемещения туда или сюда, это вопрос свободного пребывания
везде. Это не бегство, не уход. Я и здесь, и там — везде,
где хочу быть.— Вы довольно много времени проводите в Гоа.
Что там вас привлекает?— Ничего, кроме доктора Куку, меня в Северном Гоа не привлекает. Я люблю Южный Гоа, долго там жила — как раз в те
зимы, когда нужно было ехать куда-то греться из Непала.
А в Кандолиме, в Северном Гоа, я просто работаю для Куку.— Что вам дает эта работа? Куку ведь — интересный человек, мастер дзен…
— Мастер дзен Куку ничего не дает, он все отнимает: все
иллюзии, все фантазии, все наши бессмысленные блуждания,
все наши скачки и прыжки. Просто отсекает все это, освобождает от лишнего.— Ну, это тоже кое-что…
— Посмотрим, не знаю…
— Скажите, а какие у вас отношения со здешними религиями — буддизмом, индуизмом? Вы сами — какого вероисповедания?
— Я — крещеная, православная, но это не имеет значения.
С какой бы стороны ты ни подходил к вопросам собственного бытия, тот путь, который тебе помогает ответить на твои
вопросы, который работает, — тот и нужно использовать.
Если ты находишься в пространстве буддизма, ты можешь
найти для себя какие-то ответы в этом пространстве. В поле
индуизма — тоже. Как и в христианстве: в православии или
в католицизме. Нет границ, которые разделяли бы отдельные
верования или подходы. Важно то, с какими вопросами ты
обращаешься и как ты к ним прикасаешься, что ты способен
воспринять.— Вы, пребывая в этом регионе, получили ответы на какие-то свои вопросы?
— Все больше и больше получаю сейчас, когда происходит
принятие того, что нет этих границ и все, что угодно, может
произойти в любой момент. И вот, как только наступает это
расслабление, как только уходит тревога и напряжение по
поводу самого поиска, все приходит сразу. Как только ты становишься внутренне спокойным, оказываешься в собственном
центре, оттуда все воспринимается, приходят ответы. Знаете,
есть люди, которые судорожно ищут ответы на вопросы
собственного бытия, на вопросы существования Вселенной,
смысла жизни — длинный перечень таких вечных вопросов.
И люди очень беспокоятся, что не успеют найти ответы в течение своей жизни или что они движутся по неправильному
пути, тревожатся, верного ли учителя они себе нашли и так
далее. В этих тревогах они, собственно, и проводят время,
перебегая от одной школы к другой, от одного гуру к другому,
от одной конфессии к другой. Как только у тебя появляется
возможность этот поиск остановить, тревога проходит, и тут
же приходит понимание, что не нужно ничего искать: все уже
есть внутри. Соприкосновение с внешними вещами может
только немного поправить фокус, сместить свой собственный взгляд внутрь себя в правильном направлении — вот и все.
Бенгт Янгфельдт. Ставка – жизнь. Владимир Маяковский и его круг
- Бенгт Янгфельдт. Ставка — жизнь. Владимир Маяковский и его круг / Пер. со швед. Аси Лавруши и Бенгта Янгфельдта.— М.: АСТ : Corpus, 2016. — 528 c.
Книга Бенгта Янгфельдта «Ставка — жизнь» написана о людях, окружавших главного поэта революции Владимира Маяковского, в первую очередь — о Лиле и Осипе Брик. Герои рассказанных автором историй пережили водовороты политических, литературных и личных страстей, которые для многих из них оказались гибельными. Поклонников творчества поэта привлечет занимательность повествования, а специалистов — редкие фотографии и не известные до сих пор документы из личного архива Л. Ю. Брик и архива британской госбезопасности.
Облако в штанах
1915–1916
Сердце обокравшая,
всего его лишив,
вымучившая душу в бреду мою,
прими мой дар, дорогая,
больше я, может быть, ничего не придумаю.Владимир Маяковский.
Флейта-позвоночник«Маяковский ни разу не переменил позы, — вспоминала Лили. — Ни на кого не взглянул. Он жаловался, негодо-вал, издевался, требовал, впадал в истерику, делал паузы
между частями.Вот он уже сидит за столом и с деланной развязностью
требует чаю. Я торопливо наливаю из самовара, я молчу,
а Эльза торжествует — так я и знала!»Эльза добилась своего. «Это было то, о чем так давно мечтали, чего ждали, —
вспоминала Лили. — Последнее время ничего не хотелось читать».Первым пришел в себя Осип, объявивший, что Маяковский великий поэт,
даже если он не напишет больше ни строчки. «Он отнял у него тетрадь, —
вспоминает Лили, — и не отдавал весь вечер». Когда Маяковский снова взял
тетрадь в руки, он написал посвящение: «Лиле Юрьевне Брик». В этот день
ее имя появилось над поэмой Маяковского в первый, но не в последний раз:
до самого конца его жизни все его произведения будут посвящены Лили.Судя по всему, Лили и Осип были первыми слушателями окончательной
версии «Облака». До этого Маяковский читал фрагменты поэмы многим,
в частности Максиму Горькому, Корнею Чуковскому и Илье Репину — с одинаково ошеломляющим эффектом. Горького, например, Маяковский «испугал
и взволновал» так, что тот «разрыдался, как женщина». Услышав от Горького,
что «у него большое, хотя, наверное, очень тяжелое будущее», Маяковский
мрачно ответил, что хотел бы «будущего сегодня», и добавил: «Без радости —
не надо мне будущего, а радости я не чувствую!» Разговаривал он, как впоследствии вспоминал Горький, «как-то в два голоса, то — как чистейший лирик, то резко сатирически <…> Чувствуется, что он не знает себя и чего-то
боится… Но — было ясно: человек своеобразно чувствующий, очень талантливый и — несчастный».Тринадцатый апостол Что же заставило Горького зарыдать, а Лили — приветствовать «Облако в штанах» как нечто новое и долгожданное? Для читателя, знакомого с ранними
стихами Маяковского, «Облако» звучало не особенно «по-футуристически».
Поэма изобиловала дерзкими образами и неологизмами, но формально не являлась сложным произведением вроде его прежних кубофутуристических стихов, создавших ему скандальную репутацию. Нет, новизна заключалась прежде всего в посыле и в интонации — скорее экспрессионистской, нежели
футуристической.Наблюдение Горького о «двух голосах» Маяковского было на редкость точным. Через несколько недель после читки у Бриков Маяковский публикует
статью «О разных Маяковских», в которой представляется так, как ему кажется, его воспринимает публика: нахалом, циником, извозчиком и рекламистом, «для которого высшее удовольствие ввалиться, напялив желтую кофту,
в сборище людей, благородно берегущих под чинными сюртуками, фраками
и пиджаками скромность и приличие». Но за двадцатидвухлетним нахалом,
циником, извозчиком и рекламистом скрывается, объявляет он, другой человек, «совершенно незнакомый поэт Вл. Маяковский», написавший «Облако
в штанах», — после чего приводится ряд цитат из поэмы, раскрывающих эту
сторону его личности.Спустя три года, после революции, Маяковский опишет «идеологию» поэмы следующими лозунгами: «Долой вашу любовь», «Долой ваше искусство». «Долой ваш строй», «Долой вашу религию». Подобной систематики или симметрии в поэме нет, но если идеологическое «ваш» заменить местоимением первого лица единственного числа, описание можно считать правильным:
«Облако в штанах» рассказывает об этих вещах, но не о «ваших» — то есть капиталистического общества, — а о моей, Маяковского, мучительной и безответной любви, моем эстетическом пути на Голгофу, моем бунте против несправедливостей, моей борьбе с жестоким и отсутствующим богом.
«Облако» — один сплошной монолог, в котором поэт протестует против внешнего мира, против всего, что является «не-я». Начинается поэма дерзким самовосхвалением в духе Уитмена:
У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огрóмив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.Уже здесь, в прологе, читателя готовят к резким перепадам чувств, которыми
пронизана вся поэма:Хотите —
буду от мяса бешеный
— и, как небо, меняя тона —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а — облако в штанах!В первой части поэмы рассказывается о любви к молодой женщине, Марии, одним из прообразов которой послужила Мария Денисова. Ожидая ее
в условленном месте, Маяковский чувствует, что «тихо, как больной с кровати, спрыгнул нерв», вот уже «и новые два мечутся отчаянной чечеткой», такой
свирепой, что в гостиничном номере этажом ниже, где они должны встретиться, падает штукатурка.Нервы —
большие,
маленькие,
многие! —
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!Когда Мария наконец появляется и объявляет, что выходит замуж за другого,
поэт спокоен, «как пульс покойника». Но это спокойствие вынужденное —
кто-то другой внутри него стремится вырваться из тесного «я». Он «прекрасно болен», — то есть влюблен — у него «пожар сердца». Подоспевших пожарных поэт предупреждает, что «на сердце горящее лезут в ласках», и пытается
сам тушить огонь «наслезнёнными бочками». Когда у него не получается, он
пытается вырваться из себя, опираясь о ребра, — «не выскочишь из сердца!»
и не избавишься от вечной тоски по любимой: «Крик последний, — ты хоть —
/ о том, что горю, в столетия выстони!»В следующей части настроение резко меняется: отчаявшийся поэт с горящим сердцем теперь выступает в роли футуристического бунтаря, который «над всем, что сделано», ставит nihil:
Никогда
ничего не хочу читать.
Книги?
Что книги!Поэты, которые «выкипячивают из любовей и соловьев какое-то варево», принадлежат прошлому, теперь «улица корчится безъязыкая — ей нечем кричать
и разговаривать». Только новые поэты, которые «сами творцы в горящем гимне — шуме фабрики и лаборатории», способны воспевать современную жизнь,
современный город. Но путь Маяковского тернист. Турне футуристов представлено как путь на Голгофу:…и не было ни одного,
который
не кричал бы:
«Распни,
распни его!»Поэтический дар Маяковского отвергается и обсмеивается современниками,
как «длинный скабрезный анекдот». Но будущее принадлежит ему, и в мессианском пророчестве он видит «идущего через горы времени, которого не видит никто». Он видит, как приближается, «в терновом венце революций», «который-то год»:1И когда,
приход его
мятежом оглашая,
выйдете к спасителю —
вам я душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая! —
и окровавленную дам, как знамя.В третьей части развиваются все предыдущие темы, но мотив бунта становится
более четким. Облака — «белые рабочие», которые «расходятся», «небу объявив озлобленную стачку», и поэт призывает всех «голодненьких, потненьких, покорненьких» к восстанию. Однако его чувства противоречивы: хотя он видит «идущего через горы времени, которого не видит никто», он знает, что «ничего не будет»: «Видите — небо опять иудит / пригоршнью обрызганных предательством звезд?» Он ежится, «зашвырнувшись в трактирные углы», где «вином обливает душу и скатерть». С иконы на стене «трактирную ораву» «одаривает сиянием» другая Мария, Богоматерь: история повторяется, Варавву снова предпочитают «голгофнику оплеванному», то есть Маяковскому:Может быть, нарочно я в человечьем месиве
лицом никого не новей.
Я,
может быть,
самый красивый
из всех твоих сыновей.
…………………………….
Я, воспевающий машину и Англию,
может быть, просто,
в самом обыкновенном евангелии
тринадцатый апостол.Несмотря на то что протест Маяковского не лишен социальных аспектов,
на самом деле речь идет о более глубоком, экзистенциальным бунте, направленном против времени и миропорядка, превращающего человеческую жизнь
в трагедию. Это становится еще яснее в заключительной части поэмы, где
молитва о любви опять отвергается, в строках, пророческий смысл которых
автору, к счастью, пока неведом: «…я с сердцем ни разу до мая не дожили, /
а в прожитой жизни / лишь сотый апрель есть».Виноват в несчастной, невозможной любви Маяковского не кто иной, как сам Господь, который «выдумал пару рук, / сделал, / что у каждого есть голова»,
но «не выдумал, / чтоб было без мук / целовать, целовать, целовать»:Я думал — ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.
Крылатые прохвосты!
Жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
отсюда до Аляски!Любовь доводит человека до грани безумия и самоубийства, но Вселенная
безмолвствует, и не у кого требовать ответа. Миропорядок поколебать невозможно, мятеж напрасен, все растворяется в тишине: «Вселенная спит, / положив на лапу / с клещами звезд огромное ухо».«Облако в штанах» — молодой, мятежный монолог, заставивший Пастернака вспомнить о юных бунтарях Достоевского, а Горького воскликнуть, что
«такого разговора с богом он никогда не читал, кроме как в книге Иова». Несмотря на некоторые композиционно-структурные слабости, поэма представляет собой значительное достижение, особенно учитывая возраст автора. Благодаря эмоциональному заряду и новаторской метафорике она занимает
центральное место в творчестве Маяковского; к тому же поэма является концентратом всех главных тем поэта. Многие из них — безумие, самоубийство,
богоборчество, экзистенциальная уязвимость человека — сформулированы
еще в написанной двумя годами ранее пьесе «Владимир Маяковский» — экспрессионистическом, ницшеанском произведении с жанровым определением «трагедия». «Владимир Маяковский» — не имя автора, а название пьесы.«Трагедия называлась „Владимир Маяковский“, — прокомментировал Пастернак. — Заглавье скрывало гениально простое открытие, что поэт не автор,
но — предмет лирики, от первого лица обращающейся к миру». Когда Маяковского спросили, почему пьеса названа его именем, он ответил: «Так будет
называть себя тот поэт в пьесе, который обречен страдать за всех». Поэт — козел отпущения и искупитель; одинокий, отверженный толпой, он принимает
на себя эту ношу именно в силу того, что он поэт.Когда в феврале 1915года отрывок из поэмы «Облако в штанах» был опубликован в альманахе «Стрелец», она носила жанровое определение «трагедия»,
а в статье «О разных Маяковских» поэт называет ее своей «второй трагедией», тем самым устанавливая прямую связь между поэмой и пьесой. Эта связь
становится еще более очевидной, поскольку изначально «Облако» называлось
«Тринадцатый апостол» — которым был не кто иной, как Маяковский. Будучи
вынужденным по требованию цензуры изменить название, Маяковский выбрал «Облако в штанах» — еще одну свою ипостась. Все три названия: «Владимир Маяковский», «Тринадцатый апостол», «Облако в штанах» синонимичны авторскому «я» — естественный прием поэта, чье творчество глубоко
автобиографично.Страшный хулиган Несмотря на то что «Облако» получило одобрение таких авторитетов, как
Максим Горький и Корней Чуковский, Маяковскому было трудно найти издателя. Услышав об этом, Брик предложил профинансировать издание и попросил Маяковского узнать стоимость. Поэты-футуристы были бедны и находились в постоянных поисках денег на свои дела, так что поначалу Маяковский рассматривал Осипа как потенциального мецената. Поэтому он указал
завышенную сумму, положив часть денег в собственный карман. Когда много
лет спустя он понял, что Лили и Осип знали об этом, ему было очень стыдно.Однако Маяковскому скоро стало ясно, что Осип не обычный богач, а искренне увлекается футуризмом. Но это было новым увлечением. Помимо
единственной до чтения «Облака» личной встречи, Лили и Осип видели Маяковского лишь однажды, на публичном выступлении. Когда в мае 1913года
в Россию после многих лет эмиграции вернулся поэт-символист Константин
Бальмонт, в его честь был устроен вечер, на котором выступал Маяковский,
приветствовавший Бальмонта «от имени его врагов». Маяковского ошикали,
и среди шикающих были Лили и Осип.Теперь, в 1915году, Маяковский считался обещающим поэтом, но широкая
слава к нему пока не пришла. Его немногочисленные стихи печатались в газетах и малоизвестных футуристических изданиях, а когда осенью 1913года
в Петербурге поставили пьесу «Владимир Маяковский», Лили и Осип жили
в Москве. На самом деле пока он был известен главным образом как устроитель футуристических скандалов.Чтение «Облака в штанах» мгновенно развеяло скепсис Лили и Осипа.
В сентябре 1915-го поэма вышла с окончательным посвящением «Тебе, Лиля»
на титульном листе, издательским именем ОМБ — инициалы Осипа — на обложке и новым жанровым определением: не «трагедия», а «тетраптих» — композиция из четырех частей, ассоциативно уводящая к «триптиху», трехчастной иконе. Тираж 1050 экземпляров. Строки, в которых цензура разглядела
богохульство или политическую крамолу, были заменены точками.Мы знали «Облако» наизусть, — вспоминала Лили, — корректуры ждали как
свидания, запрещенные места вписывали от руки. Я была влюблена в оранжевую обложку, в шрифт, в посвящение и переплела свой экземпляр у самого
лучшего переплетчика в самый дорогой кожаный переплет с золотым тиснением, на ослепительно белой муаровой подкладке. Такого с Маяковским еще
не бывало, и он радовался безмерно.Продажи, однако, шли вяло, согласно Маяковскому, потому что «главные потребители стихов были барышни и барыни, а они не могли покупать из-за заглавия».
Очень жалко, что книга Маяковского тебе не понравилась, — писал Осип
Олегу Фрелиху в сентябре, — но думаю, что ты просто в нее не вчитался.
А может быть, тебя отпугнула своеобразная грубость и лапидарность формы. — Я лично вот уже четвертый месяц только и делаю, что читаю эту книгу;
знаю его наизусть и считаю, что это одно из гениальнейших произведений
всемирной литературы <…> Маяковский у нас днюет и ночует; он оказался
исключительно громадной личностью, еще, конечно, совершенно не сформировавшейся: ему всего 22 года и хулиган он страшный.«Брики отнеслись к стихам восторженно», а Маяковский «безвозвратно полюбил Лилю» — так подвела итог Эльза после чтения «Облака». Будучи
младшей сестрой, она всегда пребывала в тени Лили, а порой, например
в случае с Гарри Блюменфельдом, даже наследовала ее увлечения. Тем не менее в этот раз вышло наоборот: отныне Маяковский не видел никого, кроме Лили.
1 Эти строки первоначально были вычеркнуты цензурой. В неподцензурном издании 1918г. Маяковский заменил «который-то» на «шестнадцатый». Он хотел показать, что предсказывал революцию, но не хотел, чтобы пророчество выглядело подозрительно точным.
Денис Драгунский. Мальчик, дяденька и я
- Денис Драгунский. Мальчик, дяденька и я. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016. — 318 с.
Герой новой книги Дениса Драгунского «Мальчик, дяденька и я» вспоминает свою юность, прошедшую на Рижском взморье. Среди героев есть и реальные лица, и вымышленные. Перед читателем встает череда сложных и важных вопросов. Где кончается фантазия и начинается реальность? Когда прошлое вновь становится настоящим? И почему мы так часто любим не тех, кто нас любит, а совсем наоборот?
ДОЧЬ ПИСАТЕЛЯ
Один раз, когда мы с Олей ехали в Ригу из Юрмалы, с нами рядом на соседней скамейке ехала — а до этого вместе с нами покупала билет на 12:07 — молодая женщина с чемоданом на колесиках. Наверно, у нее кончился срок отдыха.
Одинокую женщину на отдыхе жальче, чем одинокого мужчину. Хотя, конечно, бывает по-разному. Но всё равно жальче. Я вспомнил дочку писателя Полубаринова. Это была странная история. Вернее, совсем не странная и даже не история, а просто кусочек курортной жизни.
Давным-давно, кажется, в лето имени Вари Бессарабовой, то есть году в семидесятом, мы с ребятами сидели на крыльце одного из деревянныхкорпусов, курили и болтали о том о сем. Слышно было, как подъехала электричка, постояла, а потом отошла. Было поздно, одиннадцать часов с минутами; может быть, это была последняя электричка или предпоследняя — не важно. Она уехала, стало тихо. Машин тогда было мало, а ночью их не было, можно сказать, вовсе. Поэтому стало совсем тихо. И в этой тишине мы услышали приближающийся звук каблучков по асфальту. Кто-то дошел до калитки нашего Дома творчества, открыл ее с тихим дачным скрипом. Легкое цоканье каблуков тут же сменилось шуршанием гравия, им была засыпана широкая подъездная дорога, по которой фургончики привозили еду в столовую. Шаги остановились. Мы затихли тоже. Потом кто-то что-то сказал, не относящееся к этим шагам. И вот тут снова раздалось цоканье каблуков, потому что гравийная дорога сменилась асфальтовой тропинкой, и буквально через три секунды мы увидели девушку, ну, то есть, в смысле, молодую женщину лет двадцати пяти или около того, с чемоданом в руке, коротко стриженную, большеглазую, рыжевато-блондинистую. Она подошла к крыльцу. Мы замолчали. Она смотрела на нас, мы на нее. Я был самый старший в компании, поэтому именно я сказал: — Добрый вечер. А вы, простите, кто?
Она сказала:
— Здравствуйте. Я дочь писателя Полубаринова.
Она понимала, наверное, что мы первый раз слышим о таком писателе.
О многих писателях мы слышали в первый раз. У нас даже была такая забава — играть в писателей. Дело в том, что почти в каждом писательском доме был справочник Союза писателей. Десять тысяч человек писателей было в СССР, страшное дело. Этот справочник переиздавался почти каждый год, и поэтому у разных людей были справочники разных лет. Игра же состояла вот в чем: мы ставили на кон деньги, например, по копейке или по две, и дальше кто-то говорил (или волчок вертели, или на пальцах выкидывали), и получалось, например, 145 и 6. Это значило: 145-я страница, 6-й писатель сверху. Как правило, выигрывал тот, кто мог сказать: «Да, я знаю этого писателя». Везло тому, кто случайно наталкивался на писателя, действитель но всем известного. Тут уж никто не сомневался, что этого писателя человек знает, потому что его знали все. Если же попадался писатель неизвестный, которого человек знает, вернее, утверждает, что знает, то это надо было доказать. Например, назвать одну-две книги. Врать не всегда получалось. Потому что попадется тебе какой-нибудь Иван Козлов, ты скажешь: «Конечно, знаю». Ведущий спроит: «Ну и что же ты этого Ивана Козлова читал?» Ты соврешь и скажешь: роман «Мать партизана» и повесть «На границе». Придумаешь такое типичное советское название, а тебе закричат: «Врешь, врешь, врешь!!!» И торжествующе прочтут: «Козлов Иван Петрович, поэт, переводчик с армянского». Поэтому добраться до известного писателя было довольно трудно. Ставки по копейке всё время повторялись, и победитель, бывало, уносил с собой рубль, а то и полтора.
В это же лето я разговорился с парнем лет на десять старше меня, очень худым и смуглым, с восточным лицом. Он отдыхал вместе с пузатым папашей, который выходил на пляж в кремовом летнем костюме и начинал раздеваться, демонстрируя сатиновые трусы до колена и лиловатую майку-фуфайку. Насколько представителен и джентльменист он был в костюме, настолько же нелеп и затрапезен в этих синих сатиновых трусах и линялой майке.
— Отец? — спросил я у парня.
— Ага, — сказал он и, отвечая на мой незаданный вопрос, добавил: — Классик.
— В смысле? — не понял я.
— Классик нашей литературы, — сказал он, — которая наследует великим творениям Востока, — у него подрагивали губы, он, наверное, старался не рассмеяться, — но расцвела новым цветом в лучах Октября.
— А что он пишет? — спросил я.
— В смысле? — теперь он повторил мой вопрос.
— Ну, поэт, прозаик, драматург?
— Кака разныца? — сказал парень, нарочно изображая среднеазиатский акцент. — Что хочет, то и пишет. Думаешь, я читаю? Сказано — классик, и все дела.
Спрыгнул со скамейки и помчался к воде. И долго бежал, поднимая брызги, потому что до глубины надо было идти метров сто, я же говорил. А классик живым монументом в сатиновых трусах стоял на берегу. Он вообще, мне кажется, никогда не садился.
Так вот, дочка писателя Полубаринова прекрасно понимала, что мало кто знает писателя Полубаринова, и поэтому добавила:
— Писателя Полубаринова из Читы.
— Вы из Читы? — спросили мы все хором.
— Да, — сказала она. — Вот, приехала отдыхать по путевке. А как здесь заселяться?
Мы всей гурьбой проводили дочку писателя Полубаринова до администрации, которая располагалась — не помню, говорил я об этом или нет, — в первом и единственном этаже недостроенного главного корпуса. Совершенно не помню, как ее зовут. Мы все с ней как-то не сдружились. Но не потому, что не нашли общего языка или, упаси боже, поссорились или не понравились друг другу. Всё проще: мы для нее были слишком молодыми. Нам было по восемнадцать лет, а некоторым и вовсе по четырнадцать, как уже упомянутой Варе. Вообще у нас было довольно много малышни. Наша компания была сфокусирована на этом прекрасном возрасте абитуриентов и старшеклассников. Даже я в свои двадцать сам себе казался для этой компании староват. Случай с Варей — прекрасное тому подтверждение. А дочке писателя Полубаринова было самое маленькое двадцать пять. А в этом возрасте каждый год весит гораздо тяжелее, чем в сорок или пятьдесят, сами понимаете. Поэтому в нашу компанию дочка писателя Полубаринова не вошла, а ко взрослой компании, там, где были люди от сорока и старше, тоже как-то не прибилась. Так и ходила она одна по аллейкам, ездила на экскурсии, лежала на пляже. Миленькая, беленькая, хорошенькая, с перламутровым лаком на пальцах рук и ног — совсем одна. Так и уехала.
Но, может быть, я вообще ничего не понимаю ни в жизни, ни в людях.
Может быть, она приехала в Ригу из Читы не за тем, чтобы развлекаться в шумной компании, или завести роман, или подцепить себе какого-нибудь писателя. Вовсе нет. Может быть, она приезжала отдохнуть, просто отдохнуть, в самом прямом и непосредственном смысле слова. Я, кстати, так и не спросил, кем она работает у себя в Чите. Может быть, она была школьной учительницей и до отчаяния устала от орущего класса, от бесконечного школьного галдежа, беготни по переменам, от классных собраний, дежурств и педсоветов. Может быть, она лежала на пляже, закрыв глаза, и думала: «Боже мой, какое счастье! Тишина, никто не пристает!»
Но, может быть, я просто был невнимателен, неприметлив, в общем, не разбирался в людях, в чем меня однажды упрекнул отцовский приятель, старый актер и театральный педагог Семен Гушанский. Я вспомнил одного нашего знакомого, тоже папиного товарища, и Семен сказал:
— Жуткий потаскун, страшный бабник.
Я сказал:
— Да-а-а??? — не просто из вежливости сказал, а в самом деле не мог и предположить, что этот папин друг, такой тонкий, хрупкий, седой и даже отчасти застенчивый, говорящий тихим голосом, мягкий, уступчивый, интеллигентный и всё такое, — что он, оказывается, страшный потаскун, бабник и вообще жеребец, как сказал Семен.
— Не может быть, — сказал я. — Так вроде и не скажешь.
— Эх ты, драматург! — сказал Семен.
Я как раз пришел к Семену, чтобы передать ему свою пьесу, которую он обещал передать своему старому приятелю Плятту.
Плятт пьесу прочитал, позвонил мне по телефону, выражал свои восторги, просил разрешение передать пьесу в дирекцию, вот прямо такими словами, с ума сойти. Потом мне звонил директор. Уже распределили роли, но в последний момент, разумеется, всё сорвалось. Но это так, к слову.
— Эх ты, драматург, — сказал Семен. Взял папку с моей пьесой и слегка стукнул меня по лбу. — Да какой же ты, к чертовой матери, драматург, если ты в людях совершенно не разбираешься? Да на нем же просто написано, какой он кобель!
Может быть, в моей пьесе и в самом деле недоставало знания людей, и вот поэтому ее все-таки не поставили. Хотя поначалу она всех поразила. Мне с годами начинает казаться, что в 99 % случаев пьесу не ставят — правильно, справедливо.
Впрочем, потом эту пьесу все-таки поставили.
В Болгарии. Но прошла она всего раз десять или пятнадцать, не больше. Один сезон. Так что всё правильно.
Так что, может быть, дочка писателя Полубаринова завела себе потрясающий головокружительный роман в нашем Доме творчества, может быть, она сломала судьбу какому-нибудь пожилому поэту или прозаику. Или жена какого-нибудь поэта или прозаика сломала о башку своего мужа пишущую машинку «Колибри» — были такие машинки-малютки, игравшие роль нынешних ноутбуков.
Но этого я не знаю. Всё это — мои домыслы, всё это — фантазии не слишком наблюдательного человека.
— Театр, театр! — сказал дяденька. — Вот мы тутжили в гостинице «Юрмала». В Риге в эти дни были гастроли театра «Ленком». Актеры жили в этой же гостинице. Это был то ли восемьдесят второй, то ли восемьдесят четвертый год. Завтраков, как теперь, типа «пти дежене», включено в стоимость тогда не было. Надо было ходить в буфет. Буфеты были в торце здания на каждом этаже. Может быть, даже в обоих торцах. То есть буфетов было много. Надо было ходить в буфет и там брать какой-то завтрак. Творог со сметаной, вареные яйца и что-то в этом роде. Приятно было стоять в очереди прямо за Инной Чуриковой. Какой я был тактичный тогда! Нет бы познакомиться или просто выразить свой восторг. Фильмы
«Начало», «Прошу слова», не говоря уже о «В огне брода нет», были, как сейчас говорят, культовыми.
И, конечно, был Янковский, невозможной красоты и обаяния. Каждое утро в течение двух недель я наблюдал такую картину: Янковский с цветной простынкой и полотенцем выходил на пляж, расстилал простынку, ложился на нее, надев темные очки, и загорал, то ли читая книгу, то ли просто подремывая. И немедленно рядом с ним, со всех четырех сторон, то есть справа, слева, в голове и ногах — крестом, а вернее, свастикой — укладывались четыре девушки. Обворожительные, в модных очках, с идеальными фигурами, с ухоженными личиками, в доведенных до минимума, почти что несуществующих купальниках. Они молча лежали вокруг и чего-то ждали. Потом Янковский, назагоравшись, поднимался, складывал свою простынку и уходил, перешагивая через одну из этих девиц. Девицы сквозь темные очки смотрели ему вслед, а потом меняли расположение. И вот так две недели подряд. Янковского давно уже нет. Есть ли эти девицы? Во что они превратились? Они были чуть моложе меня. Мне тогда уже было лет тридцать с маленьким хвостиком, а им лет по двадцать пять, но никак не меньше. Значит, они сейчас пенсионерки, бабушки. Очень бы хотелось на них посмотреть. Не растолстели ли они, не одрябли? Не покрылись ли морщинами, не появились ли венозные узлы и подагрические шишки на их чудесных стройно-бархатистых, отпедикюренных ножках? Иногда мне кажется, что я вижу их на сегодняшнем Юрмальском пляже: три крепких жилистых старухи, а четвертой уже нет. Или нет, пусть живет. А четвертая жирная, такая жирная, что ходит с двумя костылями-канадками. Фу! Фу, какая я сволочь! Пусть четвертая тоже будет подтянутая, жилистая и даже не старуха, а женщина, которая прекрасно выглядит.
В то лето было очень много ос и много странного мороженого. Двухсотграммовое эскимо, но зато без шоколада. Мы с дочкой почему-то объедались этим мороженым. Мороженое капало на голые колени. Осы слетались. Мы соскакивали со скамейки, бежали в другое место. Осы летели следом — или это были уже другие осы, осы из другого места. Вся Юрмала была в эти полосатых зудящих тварях. А мы через две недели переехали в другой пансионат, вернее, в другую гостиницу: из Майори, из гостиницы «Юрмала» — в Лиелупе, в гостиницу «Zinātnes nams», что в переводе значит «Дом науки». Как вы поняли, это был пансионат Академии наук. От этой гостиницы до моря было далековато, зато рядом была речка Лиелупе. Мы катались на лодках. Я уже рассказывал, как это было, — как нас чуть не утопила «Ракета», как нас чуть не утопил буксирный катер в камышовых островах. Это было ничем не замечательное место. Настолько ничем не замечательное, что даже удивительно, как в такой скукоте и вялой тишине могут отдыхать люди. Впрочем, нам там было неплохо. Ос, во всяком случае, было меньше. А десять минут пешком до моря даже приятны. Дорога шла по аллеям дачного поселка, в котором чуть ли не с тридцатых годов жили высокопоставленные персоны. И потом, в советское время, тоже.
— Мы гуляли по этому поселку, — вздохнул дяденька, — и кто-то нам показал бывшую дачу Балодиса, министра обороны в правительстве Ульманиса. Говорят, он был картежник, гуляка, пьяница и милейший человек.
Элис Манро. Луны Юпитера
- Элис Манро. Луны Юпитера. — СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2015. — 320 с.
Рассказы Элис Манро, обладательницы Нобелевской премии по литературе 2013 года, продолжают с отточенной регулярностью переводиться на русский язык. Очередной сборник малой прозы канадской писательницы «Луны Юпитера» получился неоднозначным по настроению и тематике. Впрочем, фирменные лейтмотивы — темы семьи, предательства, жизненной катастрофы, увядания и смерти — представлены, как всегда, убедительно, с высоким художественным мастерством, что надолго обеспечит новые переводы и переиздания текстов Элис Манро.
Праздничный ужин
В шесть вечера без нескольких минут Джордж, Роберта,
Анджела и Ева выходят из пикапа (переселившись на
ферму, Джордж обменял свою легковушку на пикап) и
шагают через палисадник Валери, под сенью двух надменных роскошных вязов, которые знают себе цену. По
словам Валери, эти деревья стоили ей поездки в Европу.
Под ними все лето поддерживается газон, окаймленный
полыхающими георгинами. Дом сложен из бледно-красного кирпича, дверные и оконные проемы подчеркнуты
декоративной кладкой более светлого оттенка, изначально — белым кирпичом. В Грей-каунти такой стиль не редкость; видимо, это был фирменный знак одного из первых подрядчиков.Джордж несет складные кресла, захваченные по
просьбе Валери. Роберта несет замороженный десерт
«малиновая бомба», приготовленный из ягод, собранных в середине лета на их собственной ферме (на ферме
Джорджа). Десерт обложен кубиками льда и завернут
в кухонные полотенца, но Роберта стремится как можно
скорее поставить свое творение в морозильник. Анджела и Ева несут вино. Анджела и Ева — дочери Роберты.
По договоренности Роберты с мужем, девочки проводят
летние каникулы на ферме, а в течение учебного года
живут с отцом в Галифаксе. Муж Роберты — офицер военно-морского флота. Анджеле семнадцать лет, Еве двенадцать.Четверо гостей одеты так, будто направляются в совершенно разные места. Джордж, коренастый, смуглый,
с мощной грудью, сохраняющий грозное профессиональное выражение непререкаемой самоуверенности (в прошлом он учитель), приехал в чистой футболке и каких-то нелепых штанах. Роберта надела светло-бежевые брюки и свободную блузку из натурального шелка. Цвет
мокрой глины в принципе неплохо подходит к темным
волосам и бледному лицу Роберты, особенно когда она в
хорошей форме, но сегодня она явно не в лучшей форме.
Подкрашиваясь перед зеркалом в ванной комнате, она
про себя отметила, что кожа у нее смахивает на вощеную
бумагу, которую вначале скомкали, а потом разгладили.
В то же время Роберта порадовалась своей стройности
и решила добавить гламурный штрих — надеть облегающий серебристый топ с бретелькой через шею, но в последнюю минуту передумала. Глаза пришлось скрыть за
темными очками: в последнее время на нее накатывают
приступы слезливости, причем не в самые скверные моменты, а в промежутках; приступы неудержимые, сродни чиханию.Что же до Анджелы и Евы, те соорудили себе фантастические наряды из старых занавесок, обнаруженных
у Джорджа на чердаке. Анджела выбрала изумрудно-зеленый выгоревший полосами дамаск и присборила его
так, чтобы обнажить золотистое от загара плечико. Из
той же шторы вырезала виноградные листья, наклеила
на картон и закрепила в волосах. Высокая, светленькая,
Анджела еще не привыкла к своей недавно раскрывшейся красоте. Может всячески выставлять ее напоказ, вот
как сейчас, но стоит кому-нибудь отметить эту божественную внешность, как Анджела зальется краской и надуется с видом оскорбленной добродетели. Ева откопала несколько кружевных занавесок, тонких, пожелтевших
от времени, заложила складки, скрепила булавками, тесьмой и украсила букетиками диких флоксов, которые уже
изрядно подвяли и начали опадать. Одна занавеска, повязанная вокруг головы, спадает на спину, как подвенечная фата образца двадцатых годов. На всякий случай
под свой наряд Ева надела шорты, чтобы сквозь кружево не просвечивали трусы. Девочка строгих правил, Ева
не вписывается в общие рамки: она занимается акробатикой, выступает с пародиями, по натуре оптимистка,
возмутительница спокойствия. Ее личико под фатой вызывающе размалевано зелеными тенями для век, темно-
красной помадой и черной тушью. Эта боевая раскраска
подчеркивает детскую бесшабашность и смелость.Анджела и Ева приехали сюда в кузове пикапа, растянувшись в креслах. Фермы Джорджа и Валери разделяет всего три мили, но Роберта велела дочкам, ради их же
безопасности, сесть на пол. Каково же было ее удивление, когда Джордж поднял голос в их защиту, сказав, что
подметать пол вечерними туалетами — это себя не уважать. Он пообещал не слишком давить на газ и объезжать все ухабы; сказано — сделано. Вначале Роберта слегка нервничала, но расслабилась, увидев с его стороны
снисхождение и даже сочувствие к тем манерам — позерству, рисовке, — которые, по ее расчетам, должны были
вызвать у него только раздражение. Сама она, к примеру,
давно отказалась от длинных юбок и платьев, потому как
Джордж заявил, что на дух не переносит женщин, которые щеголяют в такой одежде: их вид, по его словам, однозначно указывает на склонность к безделью и жажду
комплиментов и ухаживаний. Он-то жажду эту на дух не
выносит и борется с ней всю свою сознательную жизнь.Когда Джордж помог девочкам забраться в пикап и
проявил к ним такую благосклонность, Роберта понадеялась, что он, усевшись за руль, поговорит и с нею, а может, даже возьмет за руку в знак прощения недоказанных
преступлений, но этого не произошло. И вот они вдвоем,
в замкнутом пространстве, ползут по раскаленному гравию со скоростью катафалка, придавленные убийственным молчанием. Из-за этого Роберта съеживается, как
желтушный лист. Она понимает: это истеричный образ.
Столь же истерично и желание завыть, распахнуть дверцу и выброситься на гравий. Чтобы не впадать в истерику, не драматизировать, ей приходится делать над собой
усилие. Но ведь Джордж постоянно себя накручивает,
молча ищет повод выплеснуть на нее свою ненависть
(ненависть, что же еще?), как смертоносное зелье. Роберта пытается сама нарушить молчание, тихонько цокает
языком, поправляя полотенца, которыми обмотана форма с малиновым десертом, а потом вздыхает — этот натужный, шумный вздох призван сообщить, что она утомилась, но всем довольна и едет с комфортом. Вдоль дороги тянутся кукурузные поля, и Роберта думает: до чего
же унылая картина — эти однообразные длинные стебли,
грубые листья, какое-то безмозглое полчище. Когда же
это началось? Да накануне утром: не успели они встать,
как она уже почувствовала неладное. А вечером они пошли в бар, чтобы только развеять тоску, но разрядка оказалась недолгой.Перед тем как отправиться в гости, Роберта в спальне
застегивала на груди серебристый топ; тут вошел Джордж
и спросил:— Ты в таком виде собираешься ехать?
— Да, как-то так. Сойдет?
— У тебя подмышки дряблые.
— Разве? Ну ладно, надену что-нибудь с рукавами.
В кабине пикапа, когда Роберте уже стало ясно, что
идти на мировую он не желает, она позволяет себе вернуться мыслями к этой сцене. В его тоне было явное
удовольствие. Удовольствие от выплеснутой гадливости.
Ее стареющее тело внушает ему гадливость. Этого следовало ожидать. Роберта начинает что-то мурлыкать себе
под нос, ощущая легкость, свободу и большое тактическое преимущество пострадавшей стороны, которой бросили хладнокровный вызов и непростительное оскорбление.А если допустить, что он не видит за собой непростительного выпада, если допустить, что это она в его глазах не заслуживает прощения? Она всегда виновата; на
нее, что ни день, валятся новые напасти. Раньше, едва
заметив малейшие признаки увядания, Роберта начинала с ними бороться. Теперь все ее старания только приводят к новым бедам. Она лихорадочно втирает в морщинки крем — а на лице высыпают прыщи, как в подростковом возрасте. Сидит на диете, добиваясь осиной
талии, а щеки и шея усыхают. Дряблые подмышки… какие есть упражнения против дряблости подмышек? Что
же делать? Пришла расплата, а за что? За тщеславие.
Нет, даже не так. За то, что в свое время ты была наделена приятной наружностью, которая говорила вместо тебя; за то, что твои волосы, плечи, бюст всегда производили впечатление. Застыть во времени невозможно, а как
быть — непонятно; вот и открываешься для всяких унижений. Так размышляет Роберта, и жалость к себе — истолкованная ею в меру своего разумения — бьется и плещется горькой желчью у нее в душе.Надо уехать, надо жить одной, надо переходить на
длинные рукава.Из увитого плющом зашторенного окна их окликает
Валери:— Заходите же, смелее. Мне только колготки надеть.
— Не надо! — дружно кричат ей Джордж и Роберта.
Можно подумать, они всю дорогу только и делали,
что обменивались милыми нежностями.— Не надо колготки! — вопят Анджела и Ева.
— Ну, ладно, если колготки вызывают такой протест, — откликается из окна Валери, — я могу даже платье не надевать. Возьму да и выйду как есть.
— Только не это! — кричит Джордж и, пошатываясь,
закрывается складными креслами.Но Валери, которая уже появилась на пороге, одета
великолепно: на ней свободное платье-балахон, сине-зеленое с золотом. По части длинных платьев ей не приходится считаться с предрассудками Джорджа. Так или
иначе, она у него вне подозрений: никому бы и в голову
не пришло, что Валери напрашивается на комплименты и ухаживания. Это высоченная, совершенно плоская
женщина с некрасивым вытянутым лицом, которое светится радушием, пониманием, юмором, умом и доброжелательностью. Волосы у нее густые, черные с сединой, вьющиеся. Этим летом она решительно обкорнала
кудри, сделав короткую волнистую стрижку, которая открыла и длинную жилистую шею, и морщины на скулах,
и большие приплюснутые уши.— По-моему, я стала похожей на козу, — говорила
она. — Люблю козочек. У них такие дивные глаза. Мне
бы такие горизонтальные зрачки, как у них. Дико красиво!Ее дети твердят, что она и без того сама дикость.
Дети Валери ждут в холле; туда же втискиваются
Джордж, Роберта и Анджела с Евой; Роберта сетует, что
у нее потек лед, а потому нужно как можно скорее засунуть этот пафосный шар в морозильник. Ближе всех
к гостям оказывается двадцатипятилетняя Рут, едва ли
не двухметрового роста, как две капли воды похожая на
мать. Отказавшись от мысли стать актрисой, она склоняется к профессии педагога-дефектолога. В руках у нее
охапка золотарника, хвоща и георгинов — цветы и сорняки вперемешку; все это она театральным жестом бросает на пол и раскрывает объятия «малиновой бомбе».— Десерт, — любовно говорит она. — Объедение! Анджела, ты ослепительно хороша! И Ева тоже. Я знаю,
кто у нас Ева. Ламмермурская невеста!— Какая невеста? — Ева довольнехонька. — Чья невеста?
Анджела с готовностью — и даже с восторгом — принимает похвалу Рут, потому что Рут (наверное, единственная в мире) вызывает у нее восхищение.
На пороге гостиной стоит сын Валери, Дэвид, двадцати одного года от роду, студент-историк; он с терпеливой и сердечной улыбкой взирает на этот ажиотаж.
Рослый, худощавый, темноволосый, смуглый, он похож
на мать и сестру, но неспешен в движениях, говорит тихо, никогда не суетится. Заметно, что в этом семействе,
не лишенном разнонаправленных подводных течений,
экспансивные женщины испытывают некое ритуальное
благоговение перед Дэвидом, словно так и ждут от него
покровительственного жеста, хотя совершенно не нуждаются в покровительстве.Когда с приветствиями покончено, Дэвид объявляет:
«Это Кимберли» — и знакомит гостей, всех по очереди, с
девушкой, возникшей у его локтя. Она вся аккуратненькая, правильная, в белой юбке и розовой блузке с короткими рукавами. В очках; без косметики; волосы короткие,
прямые, чистые, приятного светло-каштанового цвета.
Каждому она протягивает руку и сквозь очочки смотрит
прямо в глаза. Держится абсолютно вежливо, даже скромно, но почему-то выглядит как официальное лицо на
встрече с шумной заморской делегацией.
Элла Берту, Сьюзен Элдеркин. Книга как лекарство. Скорая литературная помощь от А до Я
- Элла Берту, Сьюзен Элдеркин. Книга как лекарство. Скорая литературная помощь от А до Я. — М.: Синдбад, 2016. — 496 с.
Давно известно, что в трудные минуты жизни люди тянутся к книге — чтобы отвлечься от тягостных мыслей или получить разумный совет. Британские «библиотерапевты» Э. Берту и С. Элдеркин пошли еще дальше, предположив, что чтением можно лечить не только душу, но и тело. Они составили своеобразный «литературный лечебник», из которого читатель узнает, какие именно книги лучше всего читать при тех или иных заболеваниях. В этом справочнике литературных лечебных средств — бальзамы от Бальзака, кровоостанавливающие жгуты от Толстого, мази от Сарамаго, слабительное от Перека и Пруста и многое другое. Кроме того, «Книга как лекарство» — прекрасный обзор шедевров мировой литературы.
Предисловие
Перед вами — медицинский справочник. Но очень необычный.
Во-первых, описанные в нем целебные средства предназначены для лечения не только физических, но и душевных недомоганий: вы найдете на его страницах рекомендации, которые помогут вам справиться и с болью при сломанной ноге, и с тоской при разбитом сердце. Авторы также включили в перечень «заболеваний» проблемы и трудности, подстерегающие многих из нас на жизненном пути. Это и потеря любимого человека, и горечь одиночества, и воспитание ребенка в неполной семье, и печально знаменитый кризис среднего возраста. В общем, что бы вас ни мучило — икота или похмелье, тяжкое бремя взятых на себя непомерных обязательств или плохое настроение, — мы считаем, что всё это — болезни, которые нужно лечить.
Во-вторых — и это самое главное — идти за нашими целебными средствами надо не в аптеку, а в книжный магазин или библиотеку (электронная читалка тоже подойдет). Мы — библиотерапевты. Мы лечим книгами. На наших полках — бальзамы от Бальзака, кровоостанавливающие жгуты от Толстого, мази от Сарамаго, слабительное от Перека и Пруста и многие десятки и сотни тонизирующих препаратов, созданных гением человечества за более чем двухтысячелетнюю историю литературы, — от «Золотого осла» Апулея (II век) до современных романов Али Смита и Джонатана Франзена.
Библиотерапия, в том числе чтение популярных книг по психологии, помогающих человеку разобраться в себе и окружающих, успешно используется на протяжении нескольких последних десятилетий. Поклонникам художественной литературы уже не одно столетие отлично известно, что можно лечиться романами. В следующий раз, когда на вас нападет хандра или вы поймете, что запутались в собственных чувствах, возьмите в руки хорошую книгу. Наша вера в благотворное воздействие на читателя художественной литературы основана на опыте общения с многочисленными «пациентами» и подкрепляется массой примеров. Иногда вас так захватывает сюжет, что вы забываете обо всем на свете; иногда, поддавшись чарующему ритму красивой прозы, сами не замечаете, как успокаиваетесь; иногда с изумлением обнаруживаете, что у героя романа — точно те же проблемы, что и у вас, и с его помощью находите для них нетривиальное решение. В любом случае литературные произведения переносят вас в другую реальность, позволяя взглянуть на мир с другого ракурса. Погрузившись в перипетии той или иной вымышленной истории, вы смотрите глазами ее персонажей, прикасаетесь к тому, к чему прикасаются они, и слышите то, что слышат они. И хотя вы уверены, что сидите на диване у себя в гостиной, некая часть вашей сущности — ваши мысли, чувства, переживания — переносится в какие-то другие места. «Читая книгу того или иного писателя, я не просто вникаю в смысл того, о чем он рассказывает, — пишет Андре Жид. — Я путешествую вместе с ним, сопровождаю его повсюду». Подобные путешествия оставляют в душе человека глубокий след.
Чем бы вы ни «болели», мы горячо рекомендуем вам самый простой способ излечения: возьмите интересную книгу (или две) и прочитайте. В некоторых случаях вас ждет полное исцеление. В других — вы получите утешение и сознание того, что вы не одиноки. Но во всех без исключения — испытаете по меньшей мере временное облегчение, ведь литература отвлекает и стимулирует воображение. Есть произведения, которые лучше «принимать» в виде аудиокниги или читать вслух вместе с другом. Как любое другое лекарство, библиотерапия показывает наилучшие результаты после приема полного курса. Но мы не только рекомендуем «лечебные препараты», мы еще и даем «назначения» по их применению, например, объясняем, как быть, если вы так заняты, что времени на чтение совсем не остается. Из нашего лечебника вы узнаете, какие книги наверняка спасут вас от бессонницы, какие лучше читать в том или ином возрасте (мы подобрали по десять названий на каждые десять лет жизни), а какие — в переломные моменты жизни.
Мы искренне надеемся, что наши беллетристические микстуры, пилюли, пластыри и припарки принесут вам пользу и сделают вас не только здоровее, но мудрее и счастливее.
ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ Блуждание в литературных джунглях Обратитесь к библиотерапевту Прочесть все книги на свете невозможно. И даже все хорошие книги. Если при мысли об эвересте написанных книг у вас начинается головокружение, сделайте глубокий вдох. Единственный выход — тщательный отбор. На чтение и так трудно найти время — не хватало еще тратить его на проходные книжки. Читайте только шедевры. Но и шедевров в мировой литературе создано так много, что необходимо поставить себе какие-то ограничители.
Чтобы не заблудиться в литературных джунглях, используйте в качестве «навигатора» хотя бы нашу книгу. Хорошо, если у вас есть личный «библиотерапевт» — разбирающийся в литературе человек, мнению которого вы доверяете. Обратитесь к нему за помощью. Он выяснит, каковы ваши литературные вкусы и пристрастия, и составит вам индивидуальный список книг.
Чтобы чтение доставляло удовольствие и способствовало вашему внутреннему росту, советуйтесь с «библиотерапевтом» всякий раз, когда у вас возникнет потребность расширить или изменить этот список. Хорошая книга, прочитанная в подходящий момент, поднимает настроение, дарит вдохновение и заряжает позитивной энергией. Какой смысл читать романы, которые ничего не дают ни уму, ни сердцу, если в вашем распоряжении — вся сокровищница мировой литературы?
Высокое кровяное давление Чтение успешно выводит из тревожного состояния. Значит, оно полезно тем, у кого повышенное кровяное давление, особенно если читать, держа на коленях маленького пушистого зверька. Однако следует проявлять осторожность в выборе произведений. Остросюжетный роман или рвущая душу мелодрама заставят ваше сердце качать кровь еще быстрее. Чтобы снизить давление, старайтесь поменьше волноваться. Выберите книгу из представленного ниже списка романов, в которых действие не движется стремительно к развязке, а течет размеренно, спокойно, воспевая достоинства безмятежного существования. Отсутствие динамики компенсируется в них красотой повествования и описаниями, будящими воображение.
Десятка лучших романов, помогающих снизить кровяное давление Николсон Бейкер. Бельэтаж.
Шарлотта Бронте. Городок.
Майкл Каннингем. Часы.
Карсон Маккалерс. Сердце — одинокий охотник.
Вирджиния Вулф. Волны.
Сельма Лагерлёф. Перстень Левеншёльдов.
Эмиль Золя. Страница любви.
Джованни Орелли. Год лавины.
Эрленд Лу. Лучшая страна в мире.
Джон Ирвинг. Молитва об Оуэне Мини.Также см. Стресс; Трудоголизм.
Если вам за тридцать Десятка лучших романов для тех, кому за тридцать Мартин Эмис. Лондонские поля.
Энн Бронте. Незнакомка из Уайлдфелл-Холла.
Джеффри Евгенидис. Средний пол.
Эрнест Хемингуэй. И восходит солнце.
Сомерсет Моэм. Бремя страстей человеческих.
Эптон Синклер. Джунгли.
Роберт Пенн Уоррен. Вся королевская рать.
Энтони Троллоп. Барчестерские башни.
Джон Голсуорси. Сага о Форсайтах.
Федор Достоевский. Идиот.Если вам за сорок Десятка лучших романов для тех, кому за сорок Дж. Г. Баллард. Бетонный остров.
Сол Беллоу. Лови момент.
Ивлин Во. Пригоршня праха.
Перл С. Бак. Земля.
Джордж Элиот. Миддлмарч.
Фэнни Флэгг. Дейзи Фэй и чудеса.
Антония Байетт. Обладать.
Хавьер Мариас. Белое сердце.
Джонатан Коу. Невероятная частная жизнь Максвелла Сима.
Джон Фаулз. Женщина французского лейтенанта.Если вам за пятьдесят Десятка лучших романов для тех, кому за пятьдесят Дж. М. Кутзее. Бесчестье.
Стеф Пенни. Нежность волков.
Салман Рушди. Сатанинские стихи.
Энн Тайлер. Обед в ресторане «Тоска по дому».
Ричард Йейтс. Плач юных сердец.
Доррис Лессинг. Пятый ребенок.
Донна Тартт. Щегол.
Сигрид Унсет. Улав, сын Аудуна из Хествикена.
Майгулль Аксельссон. Лед и вода, вода и лед.
Лев Толстой. Воскресение.Зубная боль Если у вас когда-нибудь болели зубы, вы поймете Вронского из романа Толстого «Анна Каренина»: «Щемящая боль крепкого зуба, наполнявшая слюною его рот, мешала ему говорить. Он замолк, вглядываясь в колеса медленно и гладко подкатывавшегося по рельсам тендера». Мгновением позже зубную боль вытесняет другая, еще более мучительная. Вид рельсов напоминает Вронскому ее, то есть «то, что оставалось еще от нее», когда он увидел на столе казармы железнодорожной станции «бесстыдно растянутое посреди чужих окровавленное тело, еще полное недавней жизни; закинутая назад уцелевшая голова с своими тяжелыми косами и вьющимися волосами на висках, и на прелестном лице с полуоткрытым румяным ртом застывшее странное, жалкое в губах и ужасное в остановившихся незакрытых глазах выражение, как бы словами выговаривавшее то страшное слово — о том, что он раскается, — которое она во время ссоры сказала ему».
Если это описание тела несчастной Анны не поможет, вспомните какую-нибудь другую ужасную сцену, описанную в литературном произведении. Надеемся, это поможет вам унять боль, но к зубному врачу все-таки запишитесь.
Любовная тоска В Средние века литературные герои и героини относились к любви не так, как мы. Паламон из «Кентерберийских рассказов» Джеффри Чосера («Рассказ рыцаря») увидел из окна башни, где он томился в плену, Эмилию и, понимая, что ему никогда не соединиться с ней, стал на глазах чахнуть от любви. В нашу менее романтическую эпоху мы в похожих случаях прибегаем к помощи психотерапевтов и лекарственных препаратов.
Любовная тоска охватывает, когда рядом нет любимого: вы в вынужденной разлуке, или он вас отверг (см. Безответная любовь), или вы потеряли его навсегда. Симптомы недуга у большинства проявляются одинаково: апатия, упадок сил, нежелание видеть окружающих, пристрастие к шоколаду. Родным и близким «больного» приходится нелегко (см. Семья). Альтернативное лечение заключается в приеме солидной дозы взаимной любви.
Именно этому посвящен искрометный роман Иоанны Хмелевской с говорящим названием «Клин клином» (по нему снят фильм с не менее красноречивым названием «Лекарство от любви»). Даже если вы не последуете примеру его героини Иоанны, которая часами сидит у телефона в надежде, что позвонит неверный возлюбленный, и незаметно втягивается в детективную историю, заканчивающуюся разоблачением шайки фальшивомонетчиков, настроение у вас точно поднимется.
Также см. Аппетит; Безнадежный романтизм; Безрассудная страсть; Бессонница; Вожделение; Неспособность сосредоточиться; Одержимость; Разбитое сердце; Смерть близкого человека; Томление; Тошнота; Усталость и эмоциональное возбуждение.
Простуда От простуды нет лекарств. Зато она — отличный повод, чтобы закутаться в одеяло, взять в постель грелку, попивать горячий чай и читать замечательные книги.
Десятка лучших романов для чтения во время простуды Артур Конан Дойл. Этюд в багровых тонах.
Артур Голден. Мемуары гейши.
Сью Монк Кид. Тайная жизнь пчел.
Туве Янссон. Муми-тролль и комета.
Лорен Вайсбергер. Дьявол носит Prada.
Эдит Уортон. Век невинности.
Джозефина Тэй. Мистификация.
Сара Раттаро. Я сделаю с тобой все, что захочу.
Себастьян Жапризо. Убийственное лето.Также см. «Мужской грипп».
ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ Чтение как замена жизни
Чтобы глубже чувствовать литературу, живите полнокровной жизнью
«Люди, жизнь которых совсем не похожа на роман, нередко пишут романы», — говорит Томас Гарди о своих коллегах-литераторах в романе «Голубые глаза». Если вы предпочитаете реальной жизни книги, вы рискуете лишить себя очень многого. К тому же оценить по достоинству самые лучшие книги способен только тот, кто располагает богатым жизненным опытом. Как можно проникнуться сочувствием к Анне Карениной, если вы сами никогда не совершали безрассудных поступков, продиктованных любовью?
Чтобы найти золотую середину, постарайтесь посвящать свой досуг не только чтению книг. А мудрость, почерпнутую из романов, используйте в жизни. Вместо того чтобы писать письма дорогому человеку, навестите его, как это сделал герой романа Рейчел Джойс «Невероятное паломничество Гарольда Фрая». Совершите необыкновенное путешествие, как доктор Фергюсон в романе Жюля Верна «Пять недель на воздушном шаре». Читайте, чтобы жить, а не наоборот.
Виталий Гинзбург. Письма к любимой
- Виталий Гинзбург. Письма к любимой / Составление, подготовка к публикации
и комментарий Г. Е. Горелика. — М.: Время, 2016. — 384 с.: ил.Основа книги — письма выдающегося физика Виталия Гинзбурга
(1916–2009) к Нине Ермаковой. Познакомились они в 1946 году
в Горьком, где она жила в ссылке после тюрьмы и лагеря и куда он
приезжал из Москвы читать лекции. В том же году поженились. Семь
лет переписки и тягостных разлук (вплоть до смерти Сталина) были
для В. Л. Гинзбурга насыщены событиями — он участник астрофизической экспедиции в Бразилию, «низкопоклонник», «космополит»,
изобретатель (вместе с А. Д. Сахаровым) водородной бомбы, намеченная жертва «лысенкования» физики и, наконец, автор идеи, принесшей
ему Нобелевскую премию.
10/VI 46
Ниночка, милая, родная. Мне так хотелось бы быть вместе с тобой, и я столько хорошего сказал бы тебе; сейчас,
во всяком случае, у меня такое теплое чувство, что я даже
ручаюсь, что ты оценила бы его. Но пишу я, увы, какие-то
блеклые и пошловатые фразы, или, честнее, я боюсь, что
они тебе покажутся такими. Я хотел написать все время,
давно не испытывал потребности писать кому-либо, но все
время себя сдерживаю, я знаю, что все это писание не то.
Но ведь нечего сейчас еще делать, поэтому хочу хотя бы написать. Надеюсь, ты получила мое письмо. Я оставил его
у Ревекки Сауловны; она мне не понравилась, трудно сказать почему. Думаю, что дело в том, что она принадлежит
к предыдущему, более жизнеспособному, но и более пратично-жесткому поколению, в общем, «души не чувствуется». Ну, впрочем, может быть, я и ошибаюсь, но вряд ли.
Мне почему-то, в этой связи, было неприятно, что я оставил письмо к тебе у нее; но надеюсь, что оно в целости попало в твои руки. Ниночка, кстати, извини, что я вообще
об этом упоминаю, но мне было бы крайне неприятно,
если бы кто бы то ни было видел мои письма к тебе. Ничего, конечно, в них нет, но ты, может быть, не понимаешь,
что таким, каким я был и, надеюсь, буду с тобой, я не бы-
ваю ни с кем и был только с Олей и, может быть, Ирочкой
и отцом, иногда. Поэтому хотя, к сожалению, в письмах
это плохо и мало проявляется, но все же я не хочу, чтоб эта
сторона вышла наружу. Я ведь боюсь, что даже тебе может
что-то показаться неприятным, сентиментальным или гиперболичным. Один раз, может быть, ты помнишь — ты
обратила внимание на одно мое гиперболическое выражение, я помню какое, и я до сих пор это вспоминаю, ты
была, впрочем, права.
Сейчас у меня, как-то сбилось настроение писать, так
как я сделал вынужденный перерыв на 2–3 часа, — ко мне
пришли М. А. Леонтович, Б. Гейликман и еще один товарищ, и мы трепались. Кстати, М. А. написал Мише с неделю тому назад, и я просил его поскорее высылать отзыв.
В отношении Фока вполне можно ограничиться отзывом,
имеющимся у Габы*. Кстати, я зашел к его сестрам. Им
туго приходится, особенно старшей, у которой арестован
муж и сын где-то на юге учится «на матроса» — это мальчик 16 лет! Лия (младшая) тоже живет плохо, хотя до конца я ее не понимаю и мне не все ясно.
Все вокруг замечают, что у меня плохое настроение,
я совсем не умею скрывать его. Приходится как-то отбрыкиваться. Ты думала, что я начну всем рассказывать здесь,
но ошиблась, я нем как рыба. Рассказать это значит как-то
все нарушить. В случае Габы просто было уж совсем паршиво на душе, и он находился тоже не в форме.
Впрочем, я кое-что сказал Оле. Я писал тебе, что у нас
был крупный, вернее грустный разговор в день моего приезда, и я уже хотел все сказать, но потом не смог, увидел,
что уж очень ей будет нехорошо. Поэтому как-то замял все,
и получилось так, что я просто за тобой приволокнулся или
что-то в этом духе и «случайно» поцеловал. Ну черт с этим
враньем. Ты только не сердись и не обижайся, я, конечно,
виноват, что начал вообще, но то, что я не сказал правду
(правда в том, что для меня это совсем не пустяк), было хорошо, иначе было бы очень тяжело. Вся эта проблема меня
сильно угнетает. Ситуация у нас примерно такая: я думаю
о тебе и, так как нахожусь довольно далеко и не знаю когда увижу, — мрачен и сижу как чужой. Оля чувствует это,
и я вижу, что она страдает, а тогда во мне просыпается к ней
хорошее, и я могу ее успокоить, что и делаю, так как хочу,
чтобы ей было лучше. Все это тяжело, по существу тяжело,
это настоящее противоречие. Не знаю, зачем пишу это тебе,
но ты уже убедилась, наверное, в моей печальной привычке
все сообщать для самооблегчения. Ты, пожалуйста, только
не вздумай заняться самоизничтожением. Ты ни за что не
несешь ни тени ответственности.
Кстати, я сижу дома и пишу спокойно, семейство на
даче, я вчера перевез их, а сегодня рано утром приехал. Как
доехала твоя мама? Мне очень жаль, что я ее не видел, но
6-го я сделал все, что мог, для этого, а 7-го утром скис и поехал к Р. С.
Такого кабака (кажется, получилось малограмотно),
как здесь, трудно себе представить. Сегодня, например,
писал всякие академические представления и сидел на
коллоквиуме. Не работал совершенно. Завтра в 12 совещание заместителей завлабораториями, в 3-м часу я должен
участвовать в обсуждении памирских работ и в 6 ч наш теоретический коллоквиум. Когда что-либо делать, не знаю.
Впрочем, и делать нет охоты. Приятнее разглядывать фотографии Н. Ермаковой. Что она делает и о чем думает?
Я все писал о себе и наставил такое количество «я», что прямо тошно, но поверь, думаю о тебе значительно больше.
Все же до конца мне все не ясно. У меня есть рабочая схема
для всего, и я ей мысленно следую, но правильна ли она?
Ниночка, обязательно напиши. С Рытовым, Габой
или еще кем-нибудь, с мамой. На мой домашний адрес
не пиши. После того, как я сказал кое-что, это получится
плохо. Если не будет оказии — пиши на ФИАН: Москва,
3-я Миусская, д. 3, Физический институт АН СССР, В. Л. Г.,
без обратного адреса, так как наши «дамы» канцелярские
во все лезут.
Мне так хотелось бы получить от тебя письмо, письма.
Боюсь только, что ты, так же как я, мало передаешь бумаге. Что у тебя? Что ты делаешь, о чем думаешь и вообще —
пиши обо всем. Я до получения хотя бы одного письма
писать больше не буду, иначе это может получиться как-
то не так — дело, конечно, не в счетах, а в боязни попасть
пальцем в небо. Что я хочу написать в конце этого письма,
так же как хотел это сделать в конце предыдущего, можешь
догадаться сама.
Была ли ты у врача? Сходи обязательно. Если тебе это
удобно, передай горячий привет Мише и Г. С. Как Н. К.?
Горький стал совсем родным.
Витя
[Горький, 1?/VI 46]
Витенька! Если бы знал, как я рада была, получив от
тебя письмо. Чувствую, что ты очень грустный. Не надо,
милый. Все пройдет, если уже сейчас не прошло.
Большое тебе спасибо за плащ.
Скучала я без тебя первые дни очень сильно, сейчас стало легче. Милка** грозилась рассказать тебе об этом, если
придется вам увидеться, но, как видишь, я сама этого не скрываю.
Талисман мне твой действительно приносит удачу
(но пока не счастье) — взяла его с собой на экзамен и получила 5, хотя ничего не знала, так как после твоего отъезда
только и делала, что грустила да мечтала.
Карточки наши, к сожалению, еще не готовы, так что
привезет их в Москву не С. М. [Рытов], а моя мама. Мне
еще осталось 2 экзамена.
Насчет лета никаких определенных планов пока нет,
одни предположения.
Благодаря приезду мамы я очень отдохнула.
Часто думаю о тебе, и очень хочется, чтобы тебе было
хорошо.
Пиши мне подробно о своей жизни, если сможешь это
сделать.
Я сама не очень хорошо умею это делать, как видишь.
Перескакиваю с одной мысли на другую, и в результате получается полный сумбур.
Мишка зубрит целый день философию и от этого стал
преглупый. Надеюсь, что это у него временное и скоро
пройдет.
Мне почему-то очень не хочется писать тебе почтой,
поэтому буду письма посылать с оказией. Только вот не
знаю, как тебе их передавать в Москве, по какому телефону можно тебе об этом сообщать. Например, когда приедет
мама — как ей тебя разыскать?
Но возможно, что карточки можно будет переслать
и раньше.
Больше ничего не пишется. Кончаю.
Не скромничаю, как ты, и очень нежно целую.
Нина
P. S. Да, чуть не забыла. Вчера покупала мороженое,
и у меня было на вафлях с одной стороны Витя, а с другой
Миша.
Здорово?
И еще: очень прошу не сердиться на грязь и беспорядок
письма.
Еще раз целую твои чудные глаза.
Нина
[1?/VI 46]
Ниночка, родная. Получил сегодня утром твое письмо,
оно такое хорошее, я очень обрадовался ему, я понял, что
я тебе действительно дорог. Но письмо и плохое, потому
что ты грустишь и не счастлива, как мне очень бы хотелось. Я думал сейчас написать подробнее, но совершенно
нет здесь (в ФИАНе) возможности. М. Т. Грехова*** уезжает,
и я хочу с ней отправить письмо, а с другой стороны, сейчас
за мной приедут и мне придется уехать и несколько дней
что-то делать. Я даже не успеваю перечитать твое письмо.
Милая моя и хорошая, перестань ты так грустить, мы не
виделись только 20 дней и увидимся обязательно. Я не то сейчас пишу, что нужно. Ниночка, нужно послать к черту
пессимизм и верить, что будет много хорошего, и я верю.
Я напишу или лучше скажу тебе массу вещей. Не хочется
сейчас писать, так как это главным образом ругня по моему адресу. Ник, я очень хочу тебя видеть и, конечно, не
только видеть, но я нарочно удерживаюсь от письменного
планирования, так как плохо будет, если не выйдет так,
как хочешь, а сейчас как раз еще ничего у меня организационно не установилось. Обязательно буду у твоей мамы.
Целую тебя крепко. Твой Витя
Тебе должно же быть приятно от того хорошего, что
у нас есть. Будь молодцом.
19/VI [46]
Ниночка, милая! Получил вчера твое письмо с С. М.
и очень обрадовался, так как последние дни все время
ждал письма, и в особенности вчера утром.
У меня ничего нового. Ну, потом обо мне. Что это у тебя
за личные изменения? Какие бы они ни были, обязательно
пиши, иначе я думаю, что это неприятное, так как о хорошем ты, наверное, писала бы. Ниночка, пиши все, мне
можно (какова самонадеянность?!). Действительно можно. Мне жаль, что мои письма заставляют тебя грустить,
но настроения как-то не скроешь. У меня ничего нового
и ничего хорошего. К сожалению, совсем не работаю, так
как все время занят всякой бузой: семинарами, консультациями, переездами, болтовней («научной»), партпоручениями
(обследую аспирантов) и т. п. Когда же я свободен, я думаю о Н. И. Ермаковой и мечтаю по-мальчишески о всем
самом хорошем — у меня с детства осталась такая привычка, я хожу или лежу и думаю, выдумываю, довольно
примитивно, но приятно! Плохо, только когда спускаешься на землю. По-настоящему стараюсь думать поменьше,
конечно, это достойно лишь страуса, но ведь и человек —
животное, это все, чем могу себя утешать. У меня сейчас
нет настроения писать как следует, в значительной мере
потому, что пишу на телеграфе и обстановка не располагает, а откладывать письма не хочу. Хочется, чтобы ты
узнала поскорее потрясающую новость: известный лоботряс и ловелас В. Л. Гинзбург за 15 дней еще не успел тебя
забыть и вспоминает n! раз в день, где n велико. Мишка
назвал бы такое остроумие «прапродавщиной» и был бы
прав.
Милый парень. Меня все же мучает, что я, конечно,
косвенно, сделал кое-что нехорошее. Ну ладно, об этом не
напишешь. Ниночка, пиши с оказией, но сообщить о приезде твоей мамы вполне можно по адресу ФИАНа (я его
сообщил), и я к ней зайду — очень буду рад познакомить-
ся, почему-то думаю, что она мне понравится и что она
такая же хорошая, как ты. Даже уверен. Вообще пиши на
ФИАН о том, кто едет, и о пустяках во всяком случае, но не
удивляйся, если я письма не получу, у нас дикий кабак. Что
будет летом? Я заведомо никуда не поеду, если не поедем
вместе, и буду на даче. Надеюсь Олю отправить на юг, она
совсем изнервничалась. Я начинаю верить в мистику —
до того она чувствует мои мысли, даже на расстоянии, но
все же не до конца. В общем, в этой области такое творится, что и писать не хочется — не думай ничего плохого,
но просто сложно и неприятно. Жалею о том, что написал
в конце. Не обращай на это внимания. У меня, в общем,
не такое уж плохое настроение, и я надеюсь на хорошее,
а не на плохое. Ниночка, перечитал письмо и увидел, что
ничего не написал путного. Наконец-то я могу написать,
что крепко тебя целую и не стесняться, мне действительно
было неудобно это писать. До свиданья, дорогая.Была ли ты у врача? Твой Витя
Пиши обо всем подробно.
P. S. Посылаю полученную вчера памирскую фотографию. Виды есть значительно лучше, но я чванливо выбрал
дрянной вид со своей драгоценной особой.
Ви
* Грехова М. Т. — физик, организатор и декан радиофизического
факультета Горьковского универитета.** Мила Рождественская — подруга Нины Ивановны.
*** Г. С. Горелик, в доме которого В. Гинзбург познакомился с Ниной.
Памела Трэверс. Московская экскурсия
- Памела Линдон Трэверс. Московская экскурсия / Пер.
с англ. Ольги Мяэотис. — СПб.: Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2016. — 288 с.В 1932 году будущая английская писательница Памела Трэверс, автор знаменитой «Мэри Поппинс»,
посетила Советскую Россию. В отличие от столпов
западной литературы, почетных гостей СССР, таких
как Бернард Шоу, Ромен Роллан, Анри Барбюс, молодая журналистка Трэверс увидела здесь не парадный
фасад, а реальную картину — сложную и противоречивую. Она не готова восхвалять новый революционный
порядок, но честно и по мере сил старается осмыслить
то, что видит. Результатом этого осмысления явилась
эта книга, вышедшая в Англии в 1934 году.Хотела бы я знать, неужели все туристы в глубине души подозревают, что их водят за нос? Неужели тот, кто
любовался ночным Парижем, катя в шарабане, вернувшись в отель, терзается тайными сомнениями: уж не потратил ли он впустую свои
пятьдесят франков; а тот, кто отправился в
кругосветное путешествие, не задумывается ли
порой: а увидел ли он весь мир на самом деле?
Конечно, трудно дать однозначный ответ на подобный вопрос, ведь, почувствовав сомнения,
турист торопится заглушить их и принимается
показывать коллекцию почтовых открыток или
бронзовые безделушки из Индии. Но те, кто
возвращается из Советской России, привозят
менее материальные, но куда более изысканные трофеи. Пусть их нельзя развесить по стенам,
как африканские копья или тигровые шкуры,
зато вернувшийся из путешествия очевидец способен поразить слушателей образчиками пропаганды и статистическими данными, убедительно свидетельствующими о том, что со времен
Ветхого Завета земля Ханаанская значительно
сместилась на северо-восток.Тех, кто не бывал в Советской России, подобные рассказы заставляют поверить, что туристам там показывают все самое лучшее. Вот и я,
отправляясь в Россию, верила (сколько меня ни
отговаривали) этим рассказам. Каково же было
мое разочарование, когда я поняла, что во всех
этих историях правды нет ни на грош! Настоящая Россия (которую все, кроме безнадежных
романтиков, должны считать лучшей Россией)
тщательно скрывается от глаз праздных простаков-туристов, как содержимое священного реликвария от обычных сынов Израилевых. Для
туриста десять дней — пустой звук. Он слышал,
что они потрясли мир, но их умирающее эхо не
долетело до его ушей. Этого не допустили. Вместо этого ему представили возрожденную Россию с ее фабриками, яслями, музеями и электростанциями — внешнюю оболочку, подобную
сброшенной коже. Если технические школы,
детские сады и электрифицированные заводы —
это все, что вы желали бы увидеть в России, то
советую вам поберечь деньги и купить билет в
Танбридж Велс или Брайтон. Там вы с равным
успехом сможете воочию познакомиться с результатами десяти дней — точь-в-точь такими же,
как их эквиваленты в Советской России. В конце концов, русский ребенок в русской колыбели
мало чем отличается от любого другого младенца, а обувные фабрики и электрические столбы
одинаковы по всему миру.Но, боюсь, туристу не избежать осмотра подобных достопримечательностей. Волей-неволей ему приходится выполнять роль доверчивого простака, у которого нет и не может быть
своего мнения и которому все едино — что обувная фабрика, что Британский музей. Впрочем,
сам факт того, что новая страна организует
туристские поездки, уже свидетельствует о том,
что она остепенилась и занялась своими делами. И хотя у нее нет времени потакать капризам
чересчур любознательного путешественника,
по финансовым причинам она поощряет его интерес. Чтобы по-настоящему увидеть Россию, не
следует ехать туда туристом. Надо выучить язык
и путешествовать в одиночку без сомнительной
опеки государственных гидов. В противном случае путешественник с мало-мальским знанием
истории оказывается в недоумении: большинство исторических событий видоизменились в
трактовках до неузнаваемости, настолько они
подправлены марксизмом и целесообразностью. Правда о прошлом, особенно о том, что относится к царизму, столь ужасна, что не нуждается в приправах, но гиды, по инструкции или
из-за слишком живого воображения, склонны
трактовать ее исходя из советских принципов,
а бедные туристы, хоть и готовы из вежливости
разделять в разумных пределах гнев красных,
не могут не замечать, что гнев этот настолько
преувеличен, что уже приводит к contretemps*.
Именно эта намеренная фальсификация больше, чем что-либо другое, вызывает в вас возмущение, возможно, тоже чрезмерное, современным советским режимом. Как и тот очевидный
факт, что это новое государство, которое столь
благородно и героически сражалось в те десять
дней, просто переродилось ныне в новую, более
сильную форму буржуазной бюрократии. Вы
ищете новую страну, а наталкиваетесь на старую, принаряженную в новую шляпу, но все равно узнаваемую, прежнюю.Письма, из которых состоит эта книга, содержат впечатления туристки, которая путешествовала по СССР прошлой осенью. Эти совершенно
личные заметки, конечно, не лишены предубеждения, поскольку изначально были обращены к одному-единственному адресату и не предназначались для публикации. Даже само название отражает их чисто временную значимость,
и любой, кто решит искать в них обстоятельное
рассмотрение Советского государства, обречен
на разочарование. Вопреки условию, поставленному (если не по закону, то по прецеденту)
авторам книг о России, эти письма не претендуют на исчерпывающую правду. Точно так же
как они не выражают поддержки ни одной из
партий. В мире, безумно балансирующем между
фашизмом и коммунизмом как двумя формами
тирании, писатели, оказавшись перед выбором,
предпочитают последний. Но это жалкая альтернатива, поскольку коммунизм в России существует лишь для одного-единственного класса и
поэтому имеет мало общего с определением из
словарей. Государство, где лев мирно лежит подле ягненка, а кулак — бок о бок с пролетарием,
существует лишь на бумаге. Считать, что превратив столь непримиримых противников в супругов, спящих в одной постели, можно создать желанное бесклассовое общество, значит признать
себя жалким идеалистом и благодушествующим
филантропом по отношению к России, поставившей своей целью механизацию, а не гуманизацию государства.Просто диву даешься: в России, возвестившей
о своем стремлении к бесклассовому обществу,
все поделено на ранги и классы! Это основа государственного устройства. Вас пытаются убедить, что на границах, словно злобный дракон
святого Георгия, затаился классовый враг —
главная угроза современной России. И пусть
число таких врагов сократилось, тень их не стала меньше, что омрачает жизнь советским рабочим и воодушевляет их на все новые трудовые
подвиги. Как удачно классовый враг заменил
легендарное чудовище прошлого! Но не ищите
его на этих страницах: туристу известно о нем
только понаслышке — как жителям Крита о Минотавре. Жаль, но я его не встретила. Сладкая
ложь, может, и лучше горькой правды, только
верится в нее с трудом.Нельзя не восхищаться мужеством и стойкостью нации, решившей ограничить свою жизнь
лишь материальной стороной. Впрочем, восторги не стоит доводить до крайности. Вера в
личность и в расширение человеческих возможностей не позволяет нам восхищаться механизированным государством, как бы прекрасно
оно ни было спланировано. Рационализация,
доведенная до своего логического завершения,
может означать только смерть. Разложив что-то
на составные части, мы не поймем целого; расчлененное тело не объяснит нам, как в него вдохнули жизнь.И все же ни один путешественник, и уж точно ни один турист не осмелится отрицать, что
русская раса, темная, неведомая, исполненная
внутренней мощи, обладает силой, способной
переплавить разнообразные частички жизни в единый шаблон.В заключение хочу отметить, что все персонажи этой книги собирательные, я намеренно
дала им вымышленные инициалы. Если кто-то
узнает здесь самого себя, я позволю деликатно
возразить: это ошибка. Наверняка это кто-то другой.
Отрывки этих писем были опубликованы
в недавних номерах The New English Weekly.
И я благодарна издателю за разрешение перепечатать их.П. Т.
Март 1934
* Препятствие, затруднение (фр.)
Марина Степнова. Где-то под Гроссето
- Марина Степнова. Где-то под Гроссето. — М.: Издательство АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2016. — 282 с.
Новая книга Марины Степновой «Где-то под Гроссето» — это собрание историй о людях, которых не принято замечать, да и они сами, кажется, делают все, чтобы остаться невидимками. На самом деле, их «маленькие трагедии» и «большие надежды» скрывают сильные чувства: любовь, боль, одиночество, страх смерти и радость жизни. Все то, что и делает нас людьми.
Боярышник
Слово, которое я первый раз в жизни читаю вслух, — «мёд».
Банка стоит на кухне — литровая, перевернутая, вся в солнечных липких наплывах. Остатки мёда торжественно стекают по стеклянным бокам в заботливо подставленную пластмассовую крышку. Все до последней капельки. Мёд — дефицит. Я его не люблю. Мёд означает простуду, окрашенную в тревожные, праздничные тона: розовый тетрациклин, голубой больничный листок, багровый жар воспаленного горла. По горячему белому молоку плывут желтые медово-масляные разводы. Ухо стреляет ярким, лиловым, грозовым. Я рыдаю, отбрыкиваюсь от маминых проворных рук, нападающих со всех сторон с капельками, компрессом, стареньким пуховым платком. Примиряет меня с простудой только камфара. Она хорошо пахнет, по-летнему — сухо, жарко, и на самом дне этого горячего аромата стрекочут тоже горячие температурные сверчки.
МЭ. ЙО. ДЭ.
Тут написано «мёд»?
Мама оборачивается — невысокая, легкая, молодая. Руки у нее в фарше, фаршем полна миска — много-много красно-белых пухлых червячков. Я люблю котлеты (с соленым огурчиком), папа — суп с фрикадельками, старший брат — пельмени. Мама успевает приготовить для всех. Она вообще всё успевает: делать ремонт, стирать, два раза в день мыть полы и работать на полторы ставки. Мама — врач в медсанчасти. Как она скажет, так и будет. Это я знаю твердо. Все знают. Мама в доме главная. Зато папа защищает всю страну. Он офицер.
Тут написано «мёд»? Я показываю на банку пальцем, хотя меня уже убедили, что это неприлично.
Ты откуда знаешь? Тебе баба Маня сказала?
Баба Маня — наша соседка. Когда меня не с кем оставить, бабе Мане стучат прямо в стенку и она прибегает, сухенькая, востроносая, шустрая, крепко пахнущая потом, кислой капустой и рыбным ́ пирогом. Пирог баба Маня делает с тюлькой. Тюльки, поджав ротик, смотрят из теста — каждая одним испуганным круглым глазом. У них даже хвостики целые! Мама не ест, брезгует, а мне вкусно. Бабе Мане сорок пять, и я очень ее жалею: такая старая. Мама дает ей рубль и говорит: Посидите с ребенком, пожалуйста. Посидеть — это просто такое слово. На самом деле мы с бабой Маней не сидим, а ползаем — по ковру, потом за креслами и снова по ковру. Играем в скорую помощь. Когда баба Маня устает и сдается, я делаю ей операцию. Аппендицит! Это мое любимое слово. Когда я вырасту, тоже обязательно буду врачом.
Нет, не баба Маня. Это я сама прочитала.
Мама хмурится. Не верит. Мне четыре года, я давно знаю все буквы, очень давно. С полутора лет. Но читать меня никто не учил. Бабушка считает, что учиться читать так рано — вредно. Бабушка — учительница и потому главнее мамы. Летом, когда меня отвозят к бабушке, мама слушается ее так же, как я. Даже еще лучше. С бабушкой не забалуешь. У нее губы в нитку, и она ни разу в жизни меня не поцеловала.
Пойдем. Мама моет испачканные фаршем руки под краном и вытирает их — тщательно-тщательно. Пойдем и проверим.
И мы идем.
В нашей с братом комнате очень много книг. И во всех остальных комнатах — тоже. Мама стоит, нахмурясь, по щиколотку в щекотном солнечном свете. Март. Окна еще заклеены, но ликующее воробьиное чириканье уже прорывается сквозь двойные рамы, стянутые лейкопластырем. Между рамами лежит посеревшая за зиму вата — для тепла. Мама берет с полки «Колобка». Нет, это ты наизусть знаешь. Лучше вот эту.
Мама сажает меня на кровать и сует в руки книжку. Большую. Очень большую. «Сказка о Золотом петушке». Я знаю в ней наизусть только картинки — очень красивые.
— Читай, — говорит мама. — Раз умеешь — докажи.
И — р-раз — вкусно, с хрустом открывает книжку, как будто разламывает пополам пирожное безе. Мне и брату. Я смотрю на гладкие страницы. Открылась как раз моя любимая картинка — с шамаханской царицей. Царица такая красивая, что я заляпала ее повидлом из пирожка. Не нарочно. Просто разинула рот от восторга. Я смотрю на подсохший коричневатый потек на царицыном шатре. И еще один — точно такой же — на другой странице. Если поскрести ногтем и облизать — будет сладко. Призрак прошедшей радости.
— Ну же, — говорит мама. — Читай. Или не хвастайся без дела. Ты же знаешь, я терпеть не могу брехни.
Я переворачиваю книжку вверх ногами и начинаю, аккуратно переваливаясь с одной неловкой буквы на букву, выводить:
— И. СИ. ЙА. ЙА. КА. АК. ЗЫ. А. РЯ.
— А вместе?
Мама смотрит на меня, напряженно хмурясь. Она всё еще не верит, но уже готова сдаться, как в цирке, когда фокусник прямо у тебя под носом сшивает из быстрого воздуха самую настоящую скрипящую атласную ленту, которую ты только что самолично разрезал тяжелыми ножницами. Тоже настоящими. Каждому хочется верить в чудо. Маме тоже.
Я поднимаю на нее глаза и повторяю:
— Иси яя какза ря!
— И что это значит?
— Это значит красивая, как солнышко!
Мама подхватывает меня на руки и смеется.
— Вот молодец! Кто тебя научил? А книжку зачем переворачиваешь?
От маминых вопросов щекотно, и я тоже смеюсь. Меня никто не научил. Я сама. Буква просто тянет за собой другую, как будто переводит за ручку через улицу. Иногда улица длинная, иногда короткая — называется «стихи».
— А вверх ногами почему?
Это еще проще. Вечерами я сижу на диване напротив брата и с обожанием смотрю на его белую макушку. Брат светлый-светлый, как молоко, а у меня волосы совсем темные. Мама говорит, что, когда мы оба вырастем, станем одинаковые, русые, но я не очень верю. Перед братом — книжка, он уже большой, учится в школе, и я люблю его больше всего на свете. Даже больше, чем маму и папу. Брат лупит меня, не пускает в комнату, таскает за волосы, дразнит Марлиндой — но я всё равно выйду за него замуж, когда вырасту. И когда стану врачом.
Я читаю ту же книжку, что и брат, только перевернутую. Читаю вверх ногами, быстро (куда быстрей, чем как надо) и сразу про себя, потому что, если бубнить вслух, получишь по заднице. Брат свое слово держит: по заднице я получаю часто. Сам он бубнит как раз вслух — он учит пушкинского «Пророка», которого я понимаю через слово, даже через два, но мне очень, очень нравится. «И он к кустам моим приник!» Я тоже ползаю за братом по кустам — подглядываю, как он с большими пацанами играет в ножички и в дурака, — поэтому вполне разделяю энтузиазм шестикрылого серафима.
Серафим — вообще мой любимый герой. Я рисую его в альбоме (у меня есть альбом!), а потом на обоях в родительской спальне. Серафим длинный, как такса, и крылья грозным гребнем торчат у него вдоль спины, одно за другим. Внизу я пририсовываю лапы — их тоже шесть, чтобы серафиму было удобнее держать равновесие. Голова у серафима круглая, словно шар, и вся в тугих пружинках, как у Пушкина. Пушкина я тоже знаю. Это он придумал серафима. И шамаханскую царицу. Еще Пушкин придумал про рыцарей, они воюют вместе с серафимом. Я в них играю. Ивиждь! — выкрикиваю я грозно, нападая на подушку. — Ивиждь! Ивнемли! И рыцари нападают вместе со мной, так что подушка отвечает испуганными пыльными вздохами.
Мама сердится — опять обои испортила! — и смеется, когда я объясняю ей про серафима и про рыцарей. Ты еще маленькая; если будешь читать всё подряд, ничего не поймешь и голова зарастет сорняками.
Сорняков я боюсь, поэтому читаю не все подряд книжки, а через одну. Мои две полки — нижние. Книжки на них большие, яркие. Я их давно все знаю, многие даже на память. Неинтересно. Поэтому я пробираюсь в большую комнату (там вообще нет детских книг), лезу на кресло и дотягиваюсь до одинаковых томиков, которыми тесно уставлены полки. Во всю стену! Книжки толстые, отличаются только по цветам и называются «собрания сочинений». Я тоже люблю сочинять, бабушка называет меня «тыща слов в минуту» и огорченно говорит маме — разбаловала ты ее, больно умная. Хотя на самом деле мне нисколечко не больно.
На полке, до которой я достаю, только черные книжки и синие. Называются «Горький» и «Чехов». С марта до августа я прочитываю их все не подряд, а через одну (сорняки!), а потом снова через одну, но в обратном порядке, и ровные мелкие буквы похожи на мак из булки — такие же круглые и поскрипывают. Одну книжку (черную, горькую) я даже затрепала, но пока никто не заметил. В ней про сокола и ужа, очень торжественно, но не стихи. Ужа я ужасно жалею. Он спал на сырых камнях (очень вредно!), а потом упал и ушибся. Сокола мне тоже жалко, но меньше. Он умер, а в книжках это невзаправду. И вообще невзаправду. Дедушка тоже умер, и ничего не произошло. Я его даже не помню. Когда умер, уже ничего нет. Это не страшно.
Я читаю Оксанке про ужа — и она слушает, поджав круглый, как у тюльки, рот. Оксанка живет на втором этаже. Мы — на первом. Она старше меня на два года и умеет сидеть, как лягушка, распластав по полу коленки и уставив пятки в разные стороны. Зато я умею читать. Оксанка — нет. Мама у нее работает в школе для дураков, а папа не настоящий. Отчим. Смешное слово, как будто ириской чавкнули. Отчим Оксанки тоже смешной — ушастый. А в школе для дураков — одни дураки. Мама сказала, что тебя тоже возьмут, если читать не перестанешь! — грозит Оксанка мстительно, и я чувствую, как к горлу медленно поднимается круглый, горячий, красный рев. Дураков я знаю. Их выводят гулять за острым черным забором, и дураки, выстроившись парами, покорно вышивают по дорожкам круги и петли, пока головы их зарастают высокими шуршащими сорняками.
Оксанка какое-то время с удовлетворением наблюдает, как я жую нижнюю губу, чтоб не тряслась, а потом сжаливается.
Пошли, — говорит она. — Пошли, чего покажу!
И мы идем.
Только недалеко, — ною я по дороге. — Ладно? Мама не разрешает далеко, я обещала. Оксанка даже не смотрит на меня — так ей противно. Ей-то разрешают куда угодно — она даже на автобусе ездила одна, только ее быстро ссадили. А я в автобусе вообще ни разу в жизни не была — у нас машина, и я ее ненавижу, потому что внутри воняет бензином. Мама всегда дает мне с собой в дорогу соленый огурец и целлофановый мешочек. И огурец никогда не помогает, а мешочек — всегда.
Оксанка приводит меня за школу, и я успокаиваюсь. Школу видно из нашего окна. Это правда недалеко. Мама не будет ругаться. Школа белая, длинная и без забора, потому что не для дураков. Сюда ходит мой брат, и меня тоже отдадут — через два года. Или через год. Я сама слышала, как бабушка и мама ругались. Мама говорила — да что ей делать в первом классе? Она же со скуки там помрет. Надо сразу во второй, а то и в третий. А бабушка отвечала, что это непедагогично по отношению к другим детям и что я буду самая младшая в классе, а это грозит проблемами в пубертате. Проблемы в пубертате, — бормочу я восхищенно. — Проблемы в пубертате! Звучит таинственно, как туманность Андромеды. Эту книжку я тоже читала. И Таис Афинскую. И мамин «Справочник практического врача».
Оксанку отдадут в школу уже через месяц, первого сентября, но она бегает сюда каждый день всё лето. Осваивается. Я покорно плетусь за ней и всё время боюсь. Я вообще всё время боюсь. Брат дразнит меня трусихой. Это правда. Но за шко лой — ничего страшного. Самая обычная спортивная площадка. Тишина. Остовы пустых ворот, перед ними вытоптано до глины. Вокруг площадки — заросли, непродирные, густые, я туда не хочу, но лезу следом за Оксанкой, спотыкаясь о какие-то коряги и ржавые консервные банки. Вокруг пронзительно звенят насекомые, пахнет мокрым, горячим, зеленым и в самой чаще торчит скелет трехколесного велосипеда. У меня велосипеда нету. Мама боится, что я упаду с него и расшибусь. Как уж из книжки.
Оксанка останавливается так резко, что я тыкаюсь лбом в ее спину — расцарапанную, сутулую, перечеркнутую лямками ситцевого сарафана.
Боярышник, говорит Оксанка торжественно, и я сразу его вижу — как будто Оксанка сказала волшебное слово, от которого боярышник проступил на свет. Боярышник красный. Нет. Красновато-коричневатый, спекшийся. Огромный куст. Ой, даже два. Крупные ягоды присобраны в кисти, похожие на кошачьи лапки. Вот-вот приподнимет и закогтит. Я тянусь за нижней веткой — и ахаю. Действительно когтит. Боярышник колючий! Оксанка смеется. Небось, в книжках про это не написано. Крыть мне нечем. Ивиждь и Ивнемли, уж, сокол и даже серафим кажутся рядом с боярышником ненастоящими. Оксанка срывает целый пучок ягод, высыпает их на мою подставленную ладонь — мягкие, полураздавленные, сахаристые. Я трусливо трогаю одну ягоду языком. Сладко.
Они не ядовитые?
Я с подозрением смотрю на Оксанку. С нее станется. Один раз она велела мне открыть рот и зажмурить глаза, а сама плюнула. Было противно. А другой раз сняла во дворе перед мальчишками трусы, и они испугались и убежали.
Не ядовитые, дура!
Я всё еще чую подвох. Боярышник слишком красивый. Это явно опасно. Волчьи ягоды тоже красивые, даже еще лучше — алые бусины сидят на листе парами, прижавшись друг к другу, насквозь прозрачные, наливные, до отказа полные неотразимой гибелью. Их нестерпимо хочется покатать во рту или хотя бы облизать, как мамины янтарные сережки.
Подавишься! Засоришь животик — и будет аппендицит! Съешь — и немедленно умрешь!
Красота, как будто нарочно, накрепко зарифмована с опасностью.
Оксанка срывает еще несколько ягод боярышника и сует в рот. Она чавкает — не потому что дразнится, а потому что не умеет есть красиво. Мама — когда Оксанка у нас в гостях — кормит нас с ней ужином отдельно. Потому что папа — я сама слышала! — сказал, что это просто невозможно, честное слово. Меня или стошнит, или я ее выпорю. И вообще, она к себе домой уходит когда-нибудь или нет? Я умею есть красиво, это несложно. Надо просто жевать задними зубами и с закрытым ртом. Всего и делов.
Оксанка привстает на цыпочки и начинает объедать боярышник прямо с ветки. Ртом.
Я наконец решаюсь и аккуратно подбираю ягоды с ладони.
Боярышник вкусный. Правда, внутри он набит противными шерстяными семечками, от которых чешутся губы, но Оксанка в два счета научает меня сплевывать их на землю. Это здорово! Через час мы уже не можем есть и просто сидим под огромными кустами, держась за руки и заливаясь смехом. Смех без причины — признак дурачины. Я еле выговариваю любимую бабушкину фразу — и мы с Оксанкой валимся друг на друга, вялые, горячие, совершенно обессиленные хохотом. Дурачины!
Наконец Оксанка вытирает мокрые глаза, передергивает тощими плечами, поправляя бретельки, и встает.
Пошли домой, а то влетит.
Я честно пытаюсь подняться — и не могу. Жара кружится возле моей головы с низким жужжанием. Это какая-то очень жаркая жара. Я зажмуриваюсь, но всё равно вижу, как листья вокруг смыкают резные края, словно пытаясь собраться в непроницаемую головоломку. Оксанка, говорю я, давай одну минуточку поспим, всего одну минуточку«, — но Оксанка не слышит, и я сама не слышу, и только что-то катается внутри моей головы: бух, бух, бух, всё медленнее и медленнее. Сон без причины. Признак дурачины. Но Оксанка не смеется.
Вставай, ты чего, — просит она. — Ты чего? Вставай!
Оксанка тянет меня за длинную, длинную, страшно длинную руку. И я в первый раз в жизни слышу в ее голосе страх. Расходится клубами. Как будто в стакан с чистой водой опустили запачканную черным кисточку и быстро-быстро взболтали.
Дура! Дура чертова! Дебилка! Коза!
Бум, — отвечает шар в моей голове, и я засыпаю.
Когда я в следующий раз открываю глаза, передо мной — дверь. Наша. Синяя. Дерматиновая. Собака породы дерматин. У меня собаки нету. И кошки тоже. Только красная игрушечная лошадь. Конь- огонь.
Оксанка, громко всхлипывая, звонит в звонок.
Дзы-дзы-дзы!
Медленный шар внутри меня докатывается до невидимой стенки и невпопад откликается: бух.
Оксанка поворачивается, и я понимаю: она плачет.
Ключи! Где ключи, дура?!
Я ложусь на коврик и закрываю глаза. Ключи подо мной. Я чувствую их боком. Маленькие и твердые.
Оксанка изо всех сил пинает меня ногой в босоножке. Босоножка белая, стоптанная, растрескавшаяся. Время заносит ее, пудрит Оксанкины пальцы, поджавшиеся от ужаса, словно она вот-вот сорвется с насеста и полетит куда-то в воющую глубину. Баба Маня говорит неправильно: «нашест». У шестикрылого серафима тоже должен быть нашест, понимаю я. Иначе как же ему спать, бедному? Я представляю себе огромный курятник и уходящие до самого горизонта ряды крыльев и кудрей, крыльев и кудрей, крыльев и кудрей.
Оксанка плачет громко, некрасиво, навзрыд и еще раз пинает меня маленькой перепуганной ногой.
А мне не больно. Курица довольна.
Ивиждь, Ивнемли!
Дура! — снова кричит Оксанка где-то далеко-далеко.
И босоножка убегает.
А потом я вижу маму. Она идет на работу. Нет.
Она несет меня на работу.
Сначала медленно, потом бежит.
Мама держит меня на руках, и я вижу свою макушку, и болтающуюся ногу, и синие губы. Солнце надо мной и мамой — оранжевое. Оранжевое небо. Оранжевый верблюд.
Оксанка бежит за мамой, как собачка, то отставая, то догоняя, и плачет, растянув большой редкозубый рот. Среди других играющих детей она напоминала… напоминала…
«Что вы делали?» — мама вдруг кричит громко, так громко, что я открываю глаза.
Ивиждь!
Боярышник, — рыдает Оксанка.
Мамины губы снова движутся, но я больше ничего не слышу. Сорняки шуршат у меня в голове, разрастаясь, сочные, черные, и в них наконец-то запутывается шар.
Бух! — говорит он в последний раз.
И больше не катается.
Ивнемли!
Ибо. Гаглас.
ИБО. ГАГЛАС.
И бога глас ко мне воззвал.
Боярышник! — снова повторяет Оксанка, и я вижу шестикрылого серафима: на самом деле он розовый, с жуткими, как у шамаханской царицы, громадными глазами.
И бога глас ко мне воззвал!
Глас бога ревет и воняет бензином.
В медсанчасть! — кричит мама водителю, которого я уже не вижу. — В медсанчасть!
Серафим наклоняется ниже, ниже — и я замечаю у него в лапах литровую банку, полную липкого сияющего света.
Мёд, — читаю я старательно. — Мёд!
И шестикрылый серафим улыбается.