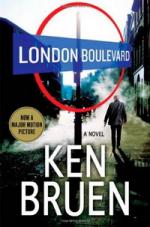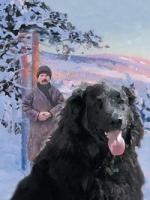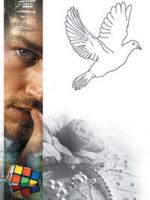Отрывок из книги Льва Лурье «22 смерти, 63 версии»
О книге Льва Лурье «22 смерти, 63 версии»
13 мая 1905 г. в четыре часа дня в роскошном «Ройяль-отеле» во французском городе Канны прозвучал выстрел. Еще через полчаса отель наполнился десятками полицейских, какими-то шишками из мэрии и загадочными иностранными дипломатами. На носилках вынесли накрытое простыней тело. Собравшиеся зеваки шептались о странной смерти загадочного русского миллионера. Еще через сутки без лишней огласки покойника в присутствии нескольких полицейских уложили в два свинцовых и один дубовый гроб и вывезли в неизвестном направлении. Власти приложили все усилия, чтобы скрыть обстоятельства этой загадочной смерти. Что же произошло в Каннах 13 мая 1905 года?
Эта смерть остается загадкой до сих пор.
Когда в расцвете сил, отдыхая на французской Ривьере, от пулевого ранения в грудь умирает русский миллионер, а уже через день его тело отправляют в Москву, неминуемо возникают вопросы. Если этот миллионер еще и всероссийски знаменит, замешан в политику и претендует на роль главного русского мецената — смерть его выглядит загадочной вдвойне. Ничего удивительного, что гибель Саввы Тимофеевича Морозова, а он и был тем загадочным русским, которого обнаружили мертвым в одной из комнат бельэтажа «Ройяль-отеля», мгновенно обросла слухами и породила самые невероятные предположения.
Савва Тимофеевич Морозов — фабрикант. В 1905 г. ему 43 года. Семейный бизнес старообрядческой купеческой династии Морозовых — текстильное производство. Базовое предприятие — Никольская мануфактура в Орехово-Зуево. Савва Тимофеевич получил прекрасное образование в Московском университете и Кембридже. В возрасте 27 лет фактически возглавил семейное дело. Меценат. Финансировал создание и поддерживал на протяжении первых шести лет Московский Художественный театр, потратив на него более полумиллиона рублей. В начале
Морозов умирает 13 мая 1905 г. Время неспокойное. Идет война с Японией. В России — революция. Умер Морозов не от сердечного приступа, а от пули. Совершенно непонятно, почему уже через сутки французская полиция закрывает дело и отправляет тело в Москву. Ведь причины и обстоятельства смерти можно было вскрыть только на месте.
В день смерти, по показаниям жены, Морозов пребывал в хорошем настроении. Они вместе после завтрака долго гуляли по парку. Когда вернулись в гостиницу, Савва пошел к себе в комнату отдохнуть, сославшись на жару. Когда раздался выстрел, жены дома не было — она уехала в банк. Вернувшись, Зинаида Григорьевна Морозова обнаружила мужа лежащим на кровати, с закрытыми глазами, с раной в груди. Он был уже мертв. Как выяснилось потом, пуля прошла через легкое в сердце.
Рядом валялся браунинг. При осмотре помещения лейтенант полиции комиссариата
Такое ощущение, что французы просто умышленно не стали ни в какие детали вдаваться. Быстренько оформили все необходимые документы и избавились разом и от трупа, и от необходимости проводить расследование, отправив тело в Москву, и переслав все документы в Петербург. В России тоже никто никаких расследований не проводил.
Родственники заявили, что Савва Тимофеевич находился в состоянии душевного расстройства и наложил на себя руки, будучи невменяемым. Раз невменяем, значит, умышленного самоубийства не было, и Морозова похоронили на знаменитом московском старообрядческом Рогожском кладбище в семейной усыпальнице. Самоубийцу старообрядцы на кладбище ни за что бы не похоронили — здесь морозовские миллионы были бы бессильны.
Версия первая: самоубийство
В 1797 г. зуевский крестьянин Савва Васильевич Морозов основал небольшое ткацкое производство. Через 40 лет он уже владел несколькими фабриками в Московской и Владимирской губерниях. Его младший сын Тимофей Савич унаследовал семейное дело. К середине века Морозовы выдвигаются в элиту российского бизнеса и становятся лидерами текстильного производства в России.
К концу
Савва Тимофеевич совсем не укладывается в патриархальный образ купца-старообрядца. С середины
Максим Горький вспоминал: «Кто-то писал в газетах, что Савва Морозов „тратил на революцию миллионы“, — разумеется, это преувеличено до размеров верблюда. Миллионов лично у Саввы не было, его годовой доход — по его словам — не достигал ста тысяч. Он давал на издание „Искры“, кажется, двадцать четыре тысячи в год. Вообще же он был щедр, много давал денег политическому „Красному Кресту“, на устройство побегов из ссылки, на литературу для местных организаций и в помощь разным лицам, причастным к партийной работе социал-демократов большевиков».
Но вот начинается революция, и левые убеждения Морозова вступают в противоречие с его интересами собственника. Фабрикант он был, вообще говоря, образцовый. 7500 рабочих Никольской мануфактуры и 3000 их домочадцев бесплатно жили в построенных Саввой Тимофеевичем казармах, где каждая семья размещалась в маленькой отдельной комнате. Бесплатным было освещение, отопление и водопровод. В каждой казарме фельдшерский пункт. Те, кто снимал квартиры в городе, получали специальные квартирные деньги. Савва завел своего рода подсобное хозяйство. Молоко для грудных детей рабочих выдавалось бесплатно.
Розничные магазины за наличные деньги и в кредит обеспечивали рабочих бакалейными, галантерейными, мануфактурными и суконными товарами, готовой одеждой, обувью, съестными припасами, посудой по более низким (на
Рабочий день продолжался 9 часов, значительно меньше, чем в целом по отрасли. Заработок был на 15% выше среднеотраслевого.
В записке, составленной для Сергея Витте в январе 1905 г., Савва Морозов сформулировал свою политическую программу, довольно умеренную, напоминающую взгляды партии кадетов: свобода слова и печати, созыв парламента. До начала настоящей революции можно было быть кадетом по идеологии и поддерживать большевиков по принципу «враг моего врага (самодержавия) — мой друг».
Но с началом революции выяснилось: интересы Морозова и желания его рабочих, руководимых большевиками, не сходятся. 14 февраля 1905 г. Никольская мануфактура приступает к забастовке с требованиями:
Меж тем в Орехово-Зуево с начала 1905 г. введены войска. Между ними и стачечниками начинаются столкновения, заканчивающиеся пулями и арестами. Семья Морозовых считает: именно Саввины потачки довели до стачки, убытков, кровопролития. По настоянию жены и матери был созван консилиум, констатировавший 15 апреля 1905 г., что у мануфактур-советника Морозова наблюдалось «тяжелое общее нервное расстройство, выражавшееся то в чрезмерном возбуждении, беспокойстве, бессоннице, то в подавленном состоянии, приступах тоски и прочее». Его отправляют в отставку, фактически объявив душевнобольным. Для Саввы Тимофеевича это еще и личная трагедия. Он создал для своих рабочих лучшие условия жизни и труда в России, идя на серьезные расходы, и потерпел полный крах как собственник, менеджер, политик.
Такой же крах потерпел Морозов и в другом своем предприятии: Московском Художественном театре. Он стоял у основания театра, был, наряду с Константином Станиславским, крупнейшим его пайщиком. Морозов стал директором театра, взял на себя и финансовую сторону дела, и хозяйственную. Он заведовал даже электрическим освещением. С ним согласовывалась «трансферная политика» на актерском рынке, репертуар, распределение ролей.
Морозов за свой счет построил театру здание для репетиций на Божедомке. Здесь же проходил конкурсный набор студийцев, ставились знаменитые капустники. На средства Морозова и под его руководством было построено в 1902 г. главное здание театра на Камергерском. Строительство нового здания обошлось Морозову в 300 тысяч рублей. Общие же его расходы на театр потянули приблизительно на 500 тысяч.
Однако в 1904 г. Савва Морозов разрывает всякие отношения с театром, забирает свой пай и уходит в отставку с поста директора МХТ. Причиной конфликта стали расхождения с одним из основателей — Владимиром Немировичем-Данченко.
Театроведы объясняют ссору так: Морозов влюблен в актрису театра Марию Андрееву и дружит с постоянным автором МХТ Максимом Горьким. Он активно лоббирует их интересы, используя свое денежное и организационное участие в театральных делах. Немирович против, Станиславский на его стороне. Тогда Морозов, Горький и Андреева решают покинуть МХТ и основать свой новый театр в Петербурге. Разрыв с театром, на создание которого ушло столько сил — еще один стресс для властолюбивого миллионера. Проигрывать он не привык.
А тут еще трагические перемены в личной жизни. Будущую жену он отбил у своего двоюродного дяди. Зинаида Григорьевна Морозова быстро становится гран-дамой. В роскошном особняке на Спиридоновке Морозовы принимали Станиславского и Немировича-Данченко, Качалова и Собинова, Чехова и Книппер, Левитана и Бенуа, известных адвокатов Маклакова и Кони. О Шаляпине Морозова вспоминала: «Он приезжал и пел как райская птица у меня в будуаре. Обедал у нас запросто, и я помню, раз он приехал, а я лежала у себя с больной ногой (подвернула ее), и обедать идти в столовую мне было трудно. Он сказал, что меня донесет. Я думала, что он шутит. Вдруг он схватил меня и понес».
Но купеческий (как мы бы сейчас сказали — «новорусский») шик вызывал у знаменитых гостей иронические усмешки. Максим Горький: «В спальне хозяйки — устрашающее количество севрского фарфора, фарфором украшена широкая кровать, из фарфора рамы зеркал, фарфоровые вазы и фигурки на туалетном столе и по стенам на кронштейнах. Это немножко напоминало магазин посуды. Владелица обширного собрания легко бьющихся предметов
Постепенно чувства между некогда страстно любившими друг друга супругами ослабевают. Жили под одной крышей, детей вместе воспитывали, но лично близки уже не были. Страсти хватило лишь на десять лет.
Последние годы Савва был страстно влюблен в одну из самых красивых женщин своего времени, актрису МХТ Марию Федоровну Андрееву. Они состояли в связи, которая разрушилась, когда Андреева ушла к другу Морозова Максиму Горькому. Когда Горький во время игры в бильярд поведал Савве Тимофеевичу о том, что Мария Федоровна ушла к нему, и они теперь гражданские муж и жена, шок у Морозова, по воспоминаниям, был настолько сильным, что он на мгновение потерял способность слышать.
Итак, еще до стачки на Никольской мануфактуре Морозов лишился и любимой женщины, и своего детища — Московского Художественного театра. А к весне 1905 г. он по существу лишен своего состояния и объявлен сумасшедшим. Земля у него уходила из-под ног. Хозяин жизни становится героем водевиля, персонажем светской хроники.
Поездка в Ниццу — не увеселительная прогулка. Скорее бегство от позора, добровольная ссылка. Он уезжает с женой, с которой надо по-новому выстраивать отношения. Его сопровождает врач. Если он и не болен психически, то состояние глубочайшей депрессии налицо. 13 мая его находят мертвым. Самоубийство — самое логичное предположение. Тем более, что оно является официальной версией, долгие годы не вызывавшей никаких сомнений. Они стали появляться только через много лет после гибели Саввы Тимофеевича.