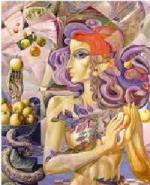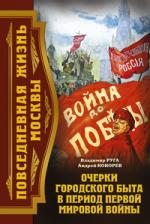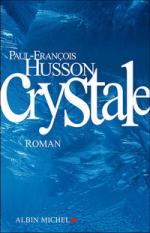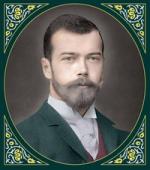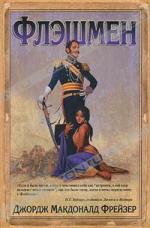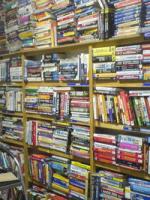Отрывок из романа
О книге Дианы Машковой «Женщина из прошлого»
— Максим, ты куда? — Ирина близоруко щурилась на часы, — будильник еще не звенел.
— Звенел голосом шефа, — Ларин раздраженно хлопнул дверцей шкафа, доставая костюм, — срочно вызывает к себе!
Ира моментально сбросила с себя остатки сна и проворно вскочила с постели. Раз так, нужно успеть приготовить мужу завтрак. А уж потом будить детей, оправлять старшего в институт, младшего — в школу. Вроде оба на вид взрослые, а без нее собраться не могут. Как и Максим. Она улыбнулась, с приятным чувством наседки взглянула на Ларина, в отчаянии перебиравшего галстуки, и на цыпочках вышла из спальни.
— Шеф сказал, чего хочет? — ласково спросила жена, подливая в чашку мужа горячий кофе.
— Нет, — Ларин, оторвался от газеты, — но, судя по интонациям, крови.
Ира вздрогнула, крохотная турка выскользнула из ее рук.
— Господи, — Максим поморщился, — какая ж ты нервная!
Она виновато посмотрела на мужа и бросилась вытирать кофейную жижу с кафельного пола. Заметила, что начищенные ботинки Максима тоже в коричневых брызгах, и побежала в прихожую за щеткой для обуви. Ларин нахмурился, глядя ей вслед, и снова уткнулся в газету. Вот как, скажите на милость, можно жить с женщиной, которая стелется перед тобой днем и ночью?! Ведет себя так, словно ее интересов не существует: есть только дети и муж. Пацанов избаловала донельзя — бутерброд себе сами сделать не могут, — с ним тоже носится, как с младенцем. Ларин стиснул зубы. Все чаще в свои сорок он думал о том, что много лет назад совершил роковую ошибку, женившись на Ире.
Супруга вернулась со щеткой и присела на корточки у ног Максима. Он был бы рад почистить ботинки сам, но знал, что жена будет долго бороться за это право, чтобы он, не дай бог, не испачкал рук; начнет суетиться, причитать. Гораздо легче оставить все как есть. Перетерпеть.
— Я твою командировочную сумку собрала, — сообщила Ирина, глядя на него снизу вверх, — все свежее, глаженое.
Ларин не выдержал ее щенячьего взгляда, поднял жену с корточек и усадил к себе на колени. Ира осторожно приникла к нему всем телом, и только руки держала, вытянув перед собой — боялась задеть его начальственное великолепие грязной щеткой. Максим быстро поцеловал Ирку в губы и, спихнув с себя, встал.
— Молодец, — похвалил он, — с моей работой никогда не знаешь, где кончится день.
— Да уж, — жена с надрывом вздохнула, — возвращайся, я буду ждать.
— Постараюсь, — кивнул Ларин и, выйдя в прихожую, взглянул на себя в зеркало.
Из недр чуть затемненного стекла его придирчиво разглядывал солидный мужчина из начальственной элиты: костюм, галстук, заколка с бриллиантом — все как положено. Аккуратно подстриженная бородка и усы, ставшие пестрыми из-за буйного вмешательства седины в черно-рыжую масть. Глубокие морщины на лбу и вокруг печальных синих глаз. Темная шея, в мелкую складку, как у черепахи. Ничего не поделаешь: стрессы, неприятности бесконечные — вот и начинаешь стареть раньше времени. Зато, в отличие от большинства топ-менеджеров, обзаводившихся животами одновременно со статусом, Ларин оставался худым. Сильным и жилистым.
— Краси-и-ивый, — подобострастно протянула Ира за его спиной.
Он усмехнулся виноватому отражению, выглядывающему из-за его плеча, и вышел в подъезд.
Как только жена закрыла за ним дверь, он почувствовал себя освобожденным, словно вырвался из тюрьмы.
Ощущение счастья на миг захлестнуло Максима, а мысли тут же перенеслись к Даше. Любимая девушка возникла перед внутренним взором и заставила сердце биться сильнее. Как же он соскучился по ней за эти два дня! Ему хотелось набрать ее номер только ради того, чтобы услышать полудетский голос, почувствовать в трубке легкое дыхание. Но он не решился. Понимал, что сильно ее обидел и теперь долго придется вымаливать прощение. Конечно, она позвонила не вовремя: посреди ночи, когда Ира спала рядом. И все равно он должен был крикнуть в трубку: «Дашка, милая! Тебе плохо? Подожди меня, я уже еду!», а не бормотать, как придурок: «Да, я вас слушаю! Что-то случилось?» И пусть бы Ирина узнала все, может, тогда его жизнь встала бы с головы на ноги! А он струсил. Потом, конечно, не одеваясь, выскочил на улицу, перезванивал, отправлял тысячу сообщений, но было поздно. Маленькая гордая Даша спряталась от него. Теперь придется заново подбираться к ней, заново приручать. Что ж, ради этой девушки он готов на все. И запасся терпением.
Ларин достал из кармана брелок от машины, нажал на кнопку. Бросил в багажник весело пискнувшей «Тойоты» дежурную сумку — на случай внезапной командировки — и сел за руль. Впереди было целых тридцать минут для того, чтобы мечтать о Даше, а в перерывах — черт бы побрал шефа с его звонком — обдумывать ответ на вопрос «какая гадость опять приключилась в компании». Максим включил зажигание и, осторожно лавируя между плотно припаркованных во дворе машин, выехал на дорогу.
В принципе, вариантов «гадости» было не так уж много. Вариант первый, нервический. Кто-то из многочисленных друзей-приятелей Виталика, генерального директора компании и его непосредственного шефа, нажаловался на то, что в полете его паршиво обслуживали. А поскольку все, с кем водился шеф, причислялись к лику бизнес-элиты, на подобные замечания Виталик реагировал бурно. Махал шашкой, требовал увольнений. Максим, опасаясь за собственную шкуру, скромно поддакивал. Увольняли очередную «девочку» с упомянутого рейса, которая «не умеет работать», и дело считалось закрытым. До следующего раза.
Такой подход Ларин считал приемлемым. Знакомые Виталика летали их рейсами нечасто — все больше пользовались бизнес-авиацией или другими авиакомпаниям, — а потому выгонять приходилось не много. Так сказать, минимальный естественный отбор. Максим вспомнил недавно услышанный анекдот: приходит новый директор в компанию и тут же требует, чтобы ему из отдела кадров принесли дела десяти сотрудников, выбранных наугад. Берет пачку в руки и провозглашает: «Вот этих — уволить!» «Почему?!» — испуганно спрашивает начальница отдела кадров, которой предстоит что-то объяснять людям. «Не люблю невезучих», — изрекает шеф. Вот. Очень похоже. Просто отсекали тех, кто случайно попал под руку.
Это было гораздо лучше, чем вслух признавать тот прискорбный факт, что большая часть стюардесс давно разучились работать. Или никогда не умели. Ларин вздохнул. За такое признание голову, как заместителю генерального директора, оторвут именно ему. А что он может сделать без головы? Уж точно не заработать на безбедную жизнь Иры с детьми и собственные неотложные нужды.
Хотя, по-хорошему, давно уже пора им с Виталиком заняться кадровым вопросом. Перетрясти личный состав как следует, ввести жесткую аттестацию через каждые шесть месяцев, а не формальный экзамен раз в три года. Есть на тебя жалоба пассажира, не знаешь теорию, не умеешь быть вежливым и предупредительным? Все. На выход! Вот тогда будут бояться и работу свою ценить. Только Виталик первый же и начнет панику разводить: «А если всех выгоним, работать, кто будет?» Скажет, что надо людей учить, а не увольнять.
Но проблема в другом: привить навыки сервиса можно лишь тем, кто любит свою работу. А если человека от пассажиров тошнит, и он постоянно занят решением глобальной проблемы «как отработать рейс так, чтобы клиентов не видеть», никакая учеба ситуацию не спасет. Деньги на ветер. По внутренним, субъективным ощущениям Ларина ситуация в компании сложилась такая: прежде чем сажать стюардесс за парты, шестьдесят процентов из них надо бы заменить. Причем, не поленившись наконец привлечь к отбору психологов и специалистов высшего класса, а не одного-единственного HR-менеджера — недоучку, который способен оценить только видимую работоспособность рук, ног соискателя и формальное наличие головы.
Ларин тяжело вздохнул. Вот, ей-богу, не было у него ни малейшего желания разгребать эти авгиевы конюшни. А кроме того, чтобы все процедуры отладить, требовался целый штат профессиональных людей — в одиночку он только шею себе свернет. И что скажет ему Виталик в ответ на просьбу переманить к ним из конкурентной компании качественный HR? Правильно. «Ты что, с ума сошел?! У нас таких денег даже начальство не получает. А ты хочешь простым смертным бешеные бабки платить».
Понятно, что здесь — тупик. Ладно. Вопрос нынче в другом: что же все-таки за вожжа попала с утра пораньше шефу под хвост?
Вариант второй, классический — какая-нибудь особо выдающаяся письменная жалоба от клиента. Последний раз была претензия одной въедливой бабки, которой никак не могли принести воды, чтобы запить таблетку. А дальше, как водится, понеслось: все стало плохо. «Стюардессы разговаривают грубо, — писала старушка, — без уважения, полное отсутствие хороших манер! К пассажирам обращаются как к заключенным, в приказном тоне и часто на „ты“. Такое впечатление, что ваша компания перевозит скот, а не людей. Когда моя соседка, молодая женщина, попросила дать ей чайную ложечку, бортпроводница, симпатичная с виду девушка, предложила размешать сахар в чае пальцем! Это не безразличие, с которым мы часто сталкиваемся в наши дни. Это — намеренное издевательство над людьми и полная безнаказанность!» Ларин специально выучил это послание наизусть и не поленился, провел совещания со всем своим стадом, изложив им письмо от первого до последнего слова. Он хотел видеть реакцию людей, хотел убедиться в том, что им хотя бы совестно за себя и коллег. Некоторые действительно покраснели от стыда — таких оказалось меньшинство, — остальные краснели от натуги, стараясь не заржать в голос на официальном собрании. Похоже, вся эта история со «скотами» и размешиванием «сахара пальцем» их попросту забавляла! Ларин именно тогда и понял, что увольнять, если кому-то вдруг придет в голову потратить немалые средства на наведение здесь порядка, придется большую часть. Но пока будет действовать дурацкий Виталин принцип «а кто работать-то будет?!», ничего не изменится.
Вариант третий, внутренний. К Виталику прорвалась какая-нибудь девочка из увольняющихся и рассказала ему «всю правду». О том, как бывалые стюарды и стюардессы притесняют новичков, о том, что в службе процветает дедовщина. Могла еще ляпнуть, что на эстафетах принято сексуальное рабство: откажешь старшему стюарду или пилоту, будешь потом полжизни туалеты в самолетах мыть. Ларин что-то подобное уже слышал.
С тем, чтобы следить за дисциплиной на эстафетах, было сложнее всего. Ну, что ты будешь делать, если те, кто должен наводить порядок, сами же первыми лезут в пекло?!
На самом деле Ларин прекрасно знал все недостатки и проблемы компании, в которой работал бессменно уже десять лет. С момента ее основания. Только изменить ситуацию собственными силами он не мог — тут надо было заручиться абсолютной поддержкой Виталика и немалыми средствами акционеров. Не зря же умные люди говорят, что сердце сервиса — в кабинете руководителя. А пока удавалось летать так, как есть, и зарабатывать деньги, никому не хотелось на корню ломать существующую структуру и с нуля отстраивать сложнейшую процедуру контроля и обучения. Слишком уж затратное и хлопотное это дело.
Лично у Максима не было ни малейшего желания набивать себе шишки, пытаясь изменить что-то к лучшему. Компания давала ему высокий статус, звучную должность и содержание, о котором девяносто девять процентов простых россиян не смели даже мечтать. Да, приходилось время от времени выслушивать разное от Виталика и даже от акционеров, но Ларин давно привык. Отряхнется — и дальше. А кроме того, до недавнего времени он легко утешался шикарным бонусом: прекрасным выбором молодых девиц, которые работали у них стюардессами. Учитывая, что мужчина он видный, при деньгах и при должности, любая девчонка готова была на многое ради его внимания. Так и жил в свое удовольствие.
А потом встретил Дашу, и все перевернулось с ног на голову. Влюбился, как мальчишка — на других женщин даже смотреть перестал. Снова начал мечтать: о свободе, о новой жизни. Удивительно. А он-то думал, что давно зачерствел и даже умер для чувств.
Ларин припарковал машину на служебной стоянке аэропорта и взглянул на часы — до встречи с Виталиком оставалось целых двадцать минут.
Ноги сами несли его дорогой, проходящей через стойку информации Дашиной авиакомпании. Сердце Ларина замерло, он обвел зал вылета нетерпеливым взглядом. На привычном месте, за стойкой регистрации, девушки не было. Куда же она пропала?! Сколько раз он звал эту странную Морозову к себе на работу, предлагал должность бортпроводницы, о которой она с детства мечтала. Но Дарья все время отнекивалась — наверное, не хотела ничем быть ему обязанной. И продолжала трудиться на его же конкурента за смешную зарплату. Глупышка! Он бы давно превратил ее жизнь в рай.
— Можно? — Ларин вежливо застыл на пороге громадного кабинета Виталика. Массивный письменный стол, под стать дородному директору, дорогущее кожаное кресло аж из Италии — собственным рейсом везли, хотя и в Москве сейчас мебель какую угодно купить можно; чуть подальше — такой же гарнитур для переговоров. Гигантский глобус в углу, на полках — модели самолетов, а на стене — портрет Президента. Все, как положено. По протоколу.
— Входи! — пробасил шеф.
— Утро доброе!
Красивый баритон Ларина был призван настроить директора на мирный лад.
— Добрее некуда, — буркнул тот, — присаживайся.
«Кофе не предложили, — отметил про себя Ларин, — бить будут-с». И, выжидая, когда шеф разразится громом и молнией, еще раз с беспокойством подумал о том, куда могла подеваться Даша.
— Ты знаешь, что в Бангкоке ситуация обострилась? — начал Виталик издалека.
— Да, — Ларин сосредоточенно кивнул, — мы из-за тайцев вчера даже рейс отложили.
— А почему?! — лицо шефа побагровело.
— Аэропорт закрыт, — звериный рык на привычного Ларина впечатления не произвел, но на всякий случай он изобразил на лице отчаянье, — не принимают!
— Этих, — директор сделал в воздухе неопределенный жест, — принимают, а нас нет?!
— Так эти, — Ларин сразу понял, что речь о Дашиной авиакомпании, которая шефу спокойно жить не дает, — в дыре чертовой сели. Утапао называется. Там ни условий, ни стоек регистрации — военный аэропорт.
— Откуда ты знаешь?
— Ночами не сплю, авиационные новости изучаю, — как мог, серьезно пожаловался Максим на свою судьбу, — чтобы быть в курсе.
— А толку?! — зарычал шеф. — Сам ни до чего додуматься не мог? Раз был в курсе, почему никаких предложений?! Эти полетели, бригаду усиления с собой увезли, а мы все сидим!
Ларин, понимая, что для начала надо дать взбешенному шефу выговориться, молчал, опустив голову. Как же ему надоели спектакли, которые он разыгрывал в знак покаяния то перед Виталиком, то перед акционерами! И чего он завелся из-за такой ерунды? Демонстрации оппозиции — это чрезвычайное обстоятельство. Ни одна авиакомпания в мире, кроме Дашиной, не летает. Кстати, о какой «бригаде усиления» Виталик там говорит? Может, и Морозову в нее же включили?
— Олух царя небесного! — продолжал усердствовать в гневе Виталик, — тебе плевать, что мы разоримся на жрачке и гостинице для пассажиров!
— Так рейс отложен не по нашей вине, — попытался оправдаться Максим, — в принципе мы не обязаны расселять и кормить.
— Ты это в Минтрансе, умник, объясни! И тем своим дебилам, которые сначала открыли регистрацию, а потом уже стали разбираться — полетит самолет, не полетит! За пассажиров, которых успели зарегистрировать, мы при любых обстоятельствах ответственность несем!
— Но вчера же думали, откроют Бангкок. Все новостные службы…
— Индюк тоже думал! — Виталий бросил на Ларина испепеляющий взгляд. — Учти, не будет решения, сотру тебя в порошок.
— Будет, — Ларин судорожно соображал, что делать, и гадал, в Таиланде ли Даша, — сейчас начнем собирать пассажиров. Пробьем разрешение приземлиться в Утапао и тоже взлетим.
— Вот и действуй, — ухмыльнулся Виталик.
Максим вздохнул с облегчением — видимо, на этот раз пронесло, шеф оттаял. Теперь осталось сделать невозможное: договориться с тайскими авиационными властями. Наверняка в Утапао сейчас потянулись все рейсы: там не то что самолету приземлиться — яблоку негде упасть! Знать бы наверняка, в Таиланде Морозова или нет. Если да — он горы свернет, не то что разрешение властей получит! Сам полетит.
— Постараюсь.
— Все остальное будешь решать по месту — ты лично летишь!
— Отлично!
Видя, что разговор окончен, Максим нетерпеливо поднялся. У кого бы выяснить насчет Даши? Можно, конечно, позвонить Михаилу Вячеславовичу Фадееву, как коллеге по цеху, но для этого нужен веский предлог. Иначе заместитель генерального директора конкурирующей компании его не поймет. Да и в курсе ли он? Дарья Морозова — всего лишь агент на линии регистрации. Самый обычный сотрудник.
— Еще раз услышу, особенно из министерства, что эти самые на голову выше нас, башка твоя, забитая бабами, полетит с плеч!
Ларин вздрогнул. Впервые за все время работы Виталий недвусмысленно грозил ему увольнением. Наверное, капля за каплей чаша терпения шефа оказалась переполнена. Хотя ничего не скажешь, прекрасная менеджерская позиция: в своем глазу бревна не видеть.
Если бы Виталик не был таким жмотом и трусом, давно бы уже ситуацию — шаг за шагом — исправили. Были у Ларина идеи, как заставить персонал думать и отвечать за свои поступки. Были наработки по организации полноценного контроля качества; по формированию кадрового резерва. Он даже в несколько вузов съездил, с проректорами поговорил. Везде были готовы присылать студентов на летнюю практику — как раз подспорье в высокий сезон. А они бы присматривались к ребятам, отбирали бортпроводников заранее. Хороших юношей и девушек постарались бы работой заинтересовать, чтобы приходили нормальные кадры, с высшим образованием, а не «хабалки с рынка», как пассажиры в своих жалобах пишут. Вон как у конкурентов все строго с отбором — Дарью, идеальный вариант бортпроводницы, на взгляд Максима, — и то на эту должность не взяли. Отправили набираться опыта на линию регистрации. И им надо быть строже с персоналом, серьезнее! Но один, без поддержки Виталия, он в этом поле не воин.
— Развел бардак в компании, — проворчал шеф, — никакой дисциплины! У тебя половина подчиненных приятели, другая половина — любовницы. Потому и сели на шею.
— Вита-а-алий Эдуардович, — Ларин искренне возмутился: он уже целый год никаких служебных романов не заводил, — какие любовницы?! Я не в том возрасте…
— Знаю я возраст твой, — хмыкнул Виталий, — кобелиный. Ладно, справишься с Утапао, поедем куда-нибудь на пару дней, вспомним молодость. Баня, девочки: ты же у нас любитель.
— Если за компанию с вами, — Максим с тоской представил себе мероприятие, от которого ему заранее было тошно.
— Конечно, — Виталий с энтузиазмом кивнул, — только право это надо еще заслужить. Придется тебе наших конкурентов в Таиланде за пояс заткнуть. Как — сам подумай.
— Понял, — постарался скрыть растерянность Ларин.
— Плохо понял, родимый, — Виталий смотрел Максиму в глаза, — я за свое унижение перед министром хочу реванша. Мне эти герои давно поперек горла стоят. Не сможешь изменить ситуацию, сам станешь публичным козлом отпущения.
— Но…
— В конце концов, — Виталий откинулся в кресле, — только ты виноват в том, что мы так сильно отстали за последние годы.
— Это же кризис, — Ларин впился руками в край стола, — нам на всем пришлось экономить! На зарплатах. На обучении. На питании пассажиров.
— Легче всего, — Виталий криво усмехнулся, — валить все на недостаток ресурса. А ты, дорогой мой, выкручивайся, изобретай! Должны быть идеи. И имей в виду — у тебя только один шанс.
Ларин выполз из кабинета Виталия мокрый, как гусь. Рубашку от «Бриони» можно было запросто выжать.
Такого стресса в кабинете шефа он не испытывал еще никогда. А он-то, дурак, расслабился, думал, привычно заткнет дыру собственной задницей, и дальше все будет как обычно. Но ситуация острая. Видимо, в министерстве хотели крови Виталия за все их прегрешения вкупе, может быть, даже грозились компанию прикрыть. Скорее всего, рейс на Бангкок, который они не нашли способа выполнить из-за манифестаций, оказался только формальным предлогом. А Виталий решил вместо себя подсунуть им заместителя, и весь разговор подводил Ларина к привыканию к этой мысли. Понятно, что шеф не верил ни в какой положительный исход его «тайской миссии». В конце концов, что можно сделать, чтобы снести с пьедестала крупнейшую авиакомпанию с устойчивой репутацией? Только изменить собственное качество работы.
Нельзя переплюнуть конкурентов за один день, на это нужны годы упорного труда и грамотный менеджмент. Ларин вернется ни с чем и даст Виталию повод. А на кону не только статус и деньги, на кону будущее. Если шеф сделает его виновным во всех бедах компании, карьера в авиации Ларину будет закрыта, как, собственно, и в любой другой сфере российского бизнеса. Ославят его на всю страну как человека, развалившего и обворовавшего целую авиакомпанию. А Виталик за его счет наверняка выкрутится. Его еще все жалеть и утешать будут.
Максим добрел до кабинета, словно в бреду, не обратил внимания на вскочившую навстречу ему секретаршу и захлопнул за собой дверь.
Сначала набрал номер начальника отдела внешних связей, велел срочно писать письмо в министерство авиации Таиланда и запрашивать слот в аэропорту Утапао.
— Знаю, что не дадут, — проорал в трубку Ларин, — а ты сделай так, чтобы дали! Если нужно, я лично с министром и с кем угодно переговорю!
Потом вызвал руководителя производства, велел в срочном порядке готовить рейс и обзванивать пассажиров, часть из которых, узнав о задержке на неопределенное время, разъехались по домам. По подсчетам Ларина, на согласование слота и подготовку рейса должно было уйти часа четыре, не больше. В Таиланде — он взглянул на запястье — уже два часа дня. Ответ они могут дать только в рабочее время, значит, к вечеру по Москве надо планировать вылет. Если разрешения не будет, Виталий выставит его из компании сегодняшним же числом.
Ларин прикрыл глаза. Будет все, будет! Главное — узнать, в Таиланде Дашенька или нет. Собственно, вот он и повод: позвонить Фадееву, спросить, как им удалось пробить разрешение летать в Утапао. Михаил Вячеславович, в отличие от Виталика, вполне нормальный мужик. Гипертрофированным самолюбием не страдает. Да и чего ему, собственно, беспокоиться, если в их компании все идет хорошо.
После короткого разговора с Фадеевым оказалось, что Михаил Вячеславович и сам в Таиланде, и Даша в составе бригады усиления там — Ларин, едва сдерживал охватившее его возбуждение. Работать он не мог — все плыло перед глазами. Встал, чтобы выйти из кабинета и выпить кофе в баре, но передумал: взгляд случайно остановился на толстой потрепанной папке. В этой распухшей от бумаг страдалице Максим хранил письменные жалобы пассажиров, с которыми не знал как поступить. Если клиент писал претензию и требовал от компании денег — возмещения ущерба, — все было ясно. Отправляли на рассмотрение в претензионный отдел. А куда девать письма, в которых пассажиры ровным счетом ничего не требовали, а просто изливали начальству душу?
Ларин вытащил папку с полки, присел на письменный стол и раскрыл. Сверху — та самая жалоба про «воду и таблетку» со всеми вытекающими. Смотрим дальше. «Когда мы с подругой попросили стюардессу налить нам еще чаю — у нас с собой чашки были, — она нам ответила: „Вы сначала этот выпейте“. Но мы же лучше знаем, сколько нам нужно чаю — эти ваши пластиковые емкости для горячих напитков такие маленькие! Мы и говорим: „Мы лучше знаем, сколько выпьем“, а она нам в ответ: „А у нас на каждого человека норма: пейте, что дают“. Неужели нельзя увеличить норму обычной кипяченой воды, а заодно научить сотрудников вежливо разговаривать с людьми?!» Ларин не стал читать до конца — пролистнул страницу.
Следующая записка — совсем короткая, размашистым почерком: «Смените стюардесс на борту! Хамство, неуважение и полное пренебрежение к пассажирам! Очень бы хотелось, чтобы такие девушки находили себе работу в какой-нибудь другой сфере, а не в сервисе».
Максим перешел к следующей жалобе. По-женски аккуратные буквы, идеальные строчки. «Когда самолет остановился и уже погасли табло „Пристегнуть ремни“, я встала из кресла и начала собирать вещи. Но ко мне тут же подскочил молодой стюард и прокричал в лицо буквально следующее: „Ты че встала?! Сядь, я тебе сказал!“ От обиды за такие незаслуженные оскорбления у меня слезы навернулись на глаза. Я спросила, почему он ведет себя со мной так грубо, и услышала в ответ: „Потому что с вами нельзя по-другому!!!“ Я хочу спросить вас, на кого рассчитан такой сервис? Конечно, на всем нашем обществе лежит вина за то, что мы не смогли воспитать молодежь девяностых — ребят, которые выросли во времена „бандитских разборок“, передела собственности и ежедневных перестрелок. Они живут по принципу „кто сильнее — тот прав“, у многих из них покалечена психика и отсутствует человечность. Но неужели нельзя отсекать таких людей, не принимать их к работе с пассажирами? В конце концов, находиться рядом с таким человеком в замкнутом пространстве самолета попросту страшно!»
Ларин захлопнул папку. Как-то не вчитывался он раньше в подробности, а теперь вот и самому стало жутко от этих писем. Неужели настолько все плохо? И что с этим делать?!
Он вернулся за рабочий стол и прижал ладонь ко лбу. Впервые ему пришло в голову, что эти жалобы ни в коем случае нельзя было прятать. В них подсказки пассажиров менеджменту компании, самая ценная для руководства информация, которая может помочь вылечить недостатки и избавляться от тех, кто попал в авиацию по ошибке. Мало того, что на каждое такое письмо должен быть отправлен ответ с извинениями, так еще по всем случаям нужно принимать самые жесткие меры. С наказанием ответственных лиц, с увольнением нерадивых исполнителей. А потом эти материалы должны передаваться преподавателям — которых, кстати, до сих пор в компании нет, — чтобы те использовали подобные жалобы в своих тренингах по сервису для персонала. В назидание всем будущим поколениям сотрудников и для понимания, за что именно, в случае чего, их непременно уволят.
Максим сложил руки и уронил тяжелую голову на стол. У него больше не было сил. Единственное, чего он хотел, — это увидеть Дашу, быть рядом с ней. А клиенты и сотрудники пусть пока подождут.