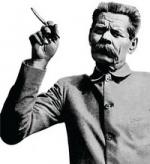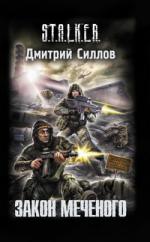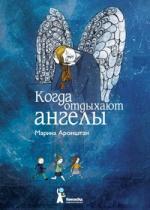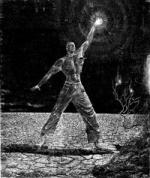Отрывок из романа
О книге Сары Шило «Гномы к нам на помощь не придут»
Кто бы мог подумать, что «катюша» застанет меня
на улице? Шесть лет я гулять не ходила, как робот
жила. Дом — работа — базар. Дом — работа — дом.
Поликлиника — дом — работа. И вот тебе на. Стоило
Симоне один-единственный раз с протоптанной
дорожки сойти, как ее раз — и «катюшей» накрыло.
Как всегда по вторникам, я оставила им на столе
кускус с курицей, тыкву, хумус и все такое прочее.
И вот «катюши» сыплются мне на голову, и о
чем же она, моя голова, в это время думает? Успели,
думает, они кускус съесть до того, как первая
«катюша» упала, или же так, голодные, в бомбоубежище
и спустились?
Я представляю себе, как они бегут в бомбоубежище
и мысленно их пересчитываю: Коби, Хаим,
Ошри, Эти, Дуди, Ицик. «Идите домой, — говорю
я своим ногам, — идите домой!» Но они не идут.
Я сижу на качелях на детской площадке. Сижу
себе на детских качелях, отталкиваюсь ногами от
земли — и качаюсь. Вперед-назад, вперед-назад. А
вокруг — тьма египетская. Когда упала первая «катюша
», весь свет в нашем поселке сразу погас. Только
в поселке на соседней горе огни еще горят. Во
всех домах у них там свет есть, даже в курятниках.
И в деревне по ту сторону границы тоже горит. Ну
а я вот сижу себе здесь — и качаюсь. «Эй-симонамона-
из димуона. Эй-симона-мона-из димуона». А
когда качели останавливаются, начинаю петь:
Дай мне ру-у-ку сва-ю.
Я тво-о-й, а ты ма-я…
Пою и плачу…
Когда падает вторая «катюша», я ору. Падаю на
землю и ору. Что есть мочи ору, но сама своего крика
не слышу. Потому как не горло мое кричит —
сердце кричит. Потом — живот. А когда выкрикиваюсь,
меня рвать начинает. Лежу на земле и блюю.
И в темноте даже не вижу, что выблевываю. Потом
и блевать становится нечем, одна вода выходить начинает.
А потом и вода кончается. Но когда я встаю,
вдруг чувствую, что железяка, которая у меня внутри
шесть лет сидела, — отвалилась!
Господи, как хорошо-то! Вышла она из меня,
железяка эта проклятующая, что в сердце моем
торчала и в лед его превращала. И как я с замороженным
сердцем шесть лет прожила?
Я сажусь на качели, снимаю с головы платок,
вытираю им рот и отбрасываю платок подальше. В
той стороне, где упала вторая «катюша», стоит наш
дом. Мне хочется побежать туда и убедиться, что
все целы — Коби, Хаим, Ошри, Эти, Дуди, Ицик, —
но вместо этого мои ноги снова толкают землю.
Как будто хотят ее раскачать. «Эй-симона-мона-издимоны-
моны». Не слушаются ноги, не идут домой.
Я сижу спиной к нашему кварталу. С верхнего
шоссе слышны крики, там бегают люди. Скоро появятся
машины — те, что развозят жителей поселка
по бомбоубежищам, — приедут кареты «скорой
помощи», пожарные…
Ноги мои останавливают качели и начинают
идти. Но идут они совсем не туда, где стоит наш
дом, а в противоположную сторону. Сама не понимаю,
куда они меня тащат. Я обхожу стороной ступенчатые
дома и спускаюсь к дому Рики, но мои
ноги в ихнее убежище не идут, а ведут меня вместо
этого дальше по спуску.
Эх, разделиться бы сейчас частей на двадцать.
Расставила бы их по всему поселку — и в одну из
них какая-нибудь «катюша» да попала бы. Чтобы я
наконец-то исчезла.
Я раскидываю руки, подымаю глаза к небу и открываю
рот. В точности как та марокканская девочка,
которая выбегала во двор и ловила ртом
дождинки. Высовывала язык на всю длину и делала из него тарелку. Чтобы на нее упала хоть одна
капля. Та девочка радовалась дождю; для нее он
был — как подарок с неба. А я… Я радуюсь «катюше
», которая на меня упадет.
Стало тихо. «Катюши» вдруг прекратились. В
смысле, это у нас тут стало тихо. Ну а эти-то там небось
«катюшу» для меня сейчас заряжают. Ну а Бог —
он сидит на небе и смотрит на Симону, которая хочет
к нему попасть. Хоть бы он там им помог, что ли, выстрелить
как следует! Только чтобы не покалечило.
Лежать в больнице — Боже упаси. И чтобы не в инвалидном
кресле. Я и сейчас-то уже полуживая. Ну так
пусть уж и вторую половину жизни у меня заберут.
Господи, дай Ты им, пожалуйста, побольше разума.
Чтобы прицелились получше и не промазали.
Да что же это за жизнь-то такая, а? Чтобы умереть
— и то везение требуется.
Зачем мне спускаться в убежище? Зачем вставать
завтра утром? Чтобы снова вкалывать? Бедные
мои домашние обязанности. Что же они
делать-то будут, когда Симона к звездам улетит?
Как же они без Симоны жить-то будут? Шиву, наверное,
по ней сидеть будут, не иначе.
Те мои домашние обязанности, которые я не
успела выполнить утром, сидят себе сейчас нога на ногу и ждут, пока я с работы вернусь, из
яслей. И как только я в дом войду, они все сразу на
меня набросятся. Одна за другой. И будут со мной
играть. Я ведь для них все равно что мячик тряпичный.
Им-то что? У них-то ведь сил много. Сидели
себе весь день дома, отдыхали и поджидали,
пока Симона придет.
Как только белье погладишь — оно тебя сразу
же раковине перебрасывает. Раковина, как только
опустеет, отфутболивает тебя метле. Метла — ванне,
младшеньких купать. Ванна — плите, ужин готовить.
Плита — обратно раковине. А потом надо
еще и белье с веревки снять. И сложить его к тому
же. Затем к нитке с иголкой бежать. Ни на секунду
не отпускают меня обязанности мои. Играют в
меня — и смеются надо мной. Пока не попадаю я
в лапы к последней из них, которая уж и не знает
даже, кому меня передать. Видит она физиономию
мою унылую, понимает, что мне уже не до смеха,
и — позволяет рухнуть на кровать. И нет больше
нашей Симоны.
Ну вот и все. Без четверти четыре. Пора вставать.
Если я встаю без четверти четыре — все успеваю.
А вот если на полчаса позже — весь день насмарку
идет. Только вот до пяти я как неживая.
Руки как палки, будто они на шарнирах; ноги не
держат; в нижней части спины страшно болит. И
начинается настоящее соревнование: что у Симоны
заболит сильнее. Пятки — точно копыта у лошади,
которую только что подковали. А левое колено
— просто огнем горит.
Когда муж умирает, жену надо снова девушкой
делать — такой же, какой она до знакомства
с ним была. Чтобы все можно было заново
начать, с той же точки. А не бросать ее посреди
пустыни одну, с детьми, когда она уже страшно
устала от всех этих бесконечных родов и все тело
у нее — в пятнах.
Четыре утра. Домашние обязанности — они
тихие, шума не производят. А вот если близнецы
проснутся — утру конец. Даже когда у них одеяло
на пол падает, я все равно к ним не подхожу. Не
дай Бог проснутся.
Иду развешивать белье. Зимой это настоящий
кошмар. Ну а летом — ничего, терпимо. Руки не
ледяные. И не темно, как зимой. Когда я вечером
развесить не успеваю — развешиваю утром. Сушу
на веревке весь вчерашний день. Хорошо еще, что
стиральная машина счищает с одежды всю грязь.
А то по этой грязи — все как на ладони видать.
Сразу понимаешь, кто что надевал, кто что ел, кто
что делал, кто куда ходил, кто как спал. Прямо как
семейная «Едиот ахронот».
Веревка на сушилке — движущаяся: ездит на
колесиках. Я вешаю белье, толкаю его — и оно от
меня отъезжает. Вот скоро солнце встанет, пить
захочет — и всю воду из белья выпьет.
Масуд ушел — и вся моя кровь вместе с ним ушла.
Господи, какая же я дура была. Думала: ушла моя
кровь вместе с ним в могилу — и на этом все кончилось.
Не знала я, что перед тем, как уйти, он мне
кое-что внутри оставил.
Я все плакала да плакала, ничего не ела; точно
без памяти все время была. Даже и не думала об этом
вообще. Вон уже и посторонние замечать стали, что
подзалетела я, — а до меня все никак не доходило.
Видела, как они все на меня смотрят, и не понимала,
чтo
ихние глаза говорят. Выходила из дома, вглядывалась
им в глаза, и у всех в глазах было одно и то же
написано. С ума, думаю, что ли, они все посходили?
Смотрят на меня, как будто я беременная. Смотрят
на вдову, а видят беременную. В общем, не могла я
этого понять и не думала себе ни о чем. Пока в один
прекрасный день наша повариха Рики не заперлась
со мной в перерыве на кухне и не огорошила меня.
Я как это услыхала, чуть со стыда не померла. Даже
из кухни выходить боялась. Обо мне, оказывается,
в поселке уже целый месяц судачили. Подзалетела,
мол, бедолага, в самый последний момент. Но Рики
эта, она хоть иногда и бывает злющая, но если у тебя
беда, никто тебе, кроме нее, не поможет.
— Вот что, — говорит, — Симона, слушай меня
внимательно. Будешь тут у меня на кухне сидеть,
пока не очухаешься. Ты мне тут давай ни про вчера,
ни про завтра не думай. Ты думай только об
одном: что когда ты отсюдова выйдешь, то пойдешь
с гордо поднятой головой. И будешь людям в
глаза без стыда смотреть. Ты пойми, это ж не преступление,
что ты беременная, не преступление.
Ты же никому ничего плохого не сделала, правда?
Ты давай больше никого не слушай, только меня.
То, что с тобой случилось, — это счастье. Счастье,
понимаешь? Ребенок, который будет носить имя
отца, — это счастье! Сейчас тебе, конечно, кажется,
что это беда. Но через полгода, когда ты уже будешь
знать, что у тебя там внутри сварганилось, ты
на это совсем по-другому смотреть будешь, поверь
мне. Ну а то, что люди болтают, — пусть это мимо
тебя пролетает. Не давай ты ихним словам в свои
уши залетать, поняла? Если бы я могла, я бы тебя
даже сейчас маслом намазала. Чтобы к тебе никакая
дрянь не липла. Да сиди же ты, сиди! Куда ты? И
давай не стой мне тут над кастрюлей! А то от твоих
слез у меня суп пересоленный будет. Ну вот, так-то
лучше. Вот ты уже и улыбаешься, молодец! Ну и
куда, скажи на милость, ты опять собралась? Нет
уж, дорогая моя, сегодня я тебе убираться не дам!
Она сунула мне в руку чашку чая с полынью,
вышла из кухни, собрала стаканы из-под кофе на
поднос и сказала:
— Ну вот что, девки, хватит уже тут рассиживаться.
Пора приниматься за работу. Гномы-то
ведь, они к нам на помощь не придут и убираться
за нас не будут.
Тогда я еще не знала, что он вживил мне в утробу
двух сыновей. Один мужик от меня ушел, а вместо
него два других пришли. Через семь месяцев
после того, как его не стало. И оба, как две капли
воды, похожи на него. А на меня — нисколечко.
Я оставила им на плите три кастрюли. Каждый
день перед уходом я оставляю им обед в трех кастрюлях.
Вчера вот, например, приготовила им
рис, горох и рыбные котлеты с подливкой. Сегодня
— кускус. А на завтра замочила белую фасоль,
чтобы суп им сварить. Они его любят. И еще картошку
с жареной рыбой сделать хотела.
Люди вот думают: Масуд умер, а я жива. Ничего
подобного. Совсем даже наоборот. Это Масуд на
самом деле жив, а я — умерла. Как только он меня
покинул, так и мне сразу конец пришел. Кончилась
моя жизнь. Люди его, бывало, «королем фалафеля
» называли, а я его королевой была. А теперь
что? Его-то вон до сих пор так «королем фалафеля»
и кличут, его место никто не занял. А я? Кончилось
то времечко, когда я была королевой.
Как только у тебя мужик помирает, тебя сразу
проверять начинают. Сильно ли ты его любила?
Пока он жив — на это всем наплевать. Пока человек
жив, ты можешь у него хоть всю душу вынуть,
можешь про него что хошь говорить, на весь поселок можешь его ославить. Никто даже и бровью
не поведет. Но вот как только он помирает — тут
сразу приходить начинают. Каждые пять минут
приходят и проверяют. Чтишь ты его память или
нет? Когда ты с мужем, ты только с ним одним и
живешь. Но как только шива
кончается, у тебя в
доме сразу целая толпа поселяется. Ну и зачем же
они все к тебе приходят? Да только чтобы проверить
тебя, вот зачем. Хорошо ли ты себя ведешь?
И ведь не ленятся, вовсю стараются, ни на минуту
тебя в покое не оставляют. Сидят, ушки на макушке,
слезы твои пересчитывают. Вынюхивают,
выглядывают. Не засмеялась ли ты часом, не дай
Бог? Не надушилась ли одеколоном? Не накрасила
ли губы? Как будто хотят, чтобы ты вместе с ним
померла. Он мертвый? В земле лежит? Вот и ты давай
по земле мертвая ходи.
И упаси Господи, если на тебя мужчина какой
поглядит. Даже секунды две, не больше. Прямо на
месте его и порешат. Чтобы честь твою не замарал.
Когда они видят, что тебе плохо, им тоже тяжело
становится. И сердце у них сразу чернеет. Ну и
что же они делают, чтобы им полегчало? Да жалость
тебе свою на голову выливают, вот что. А
жалость эта ихняя — она точно вода в ведре после
мытья полов. Черная вся. И вот, выплеснут они
на тебя эту жалость свою — и сердце у них сразу
такое чистое становится пречистое, ну прям блестеть
начинает. Вот, думают, какие мы хорошие,
добрые. А ты стоишь себе, до ниточки промокшая,
и вся от этой ихней воды в грязи.
Ну а если тебе даже от этой мокрой жалости
убежать и удается, тебя еще одна опасность подстерегает:
во вдовий сахар вляпаться.
Я вот как вдовою стала, сразу себе сказала: к
вдовам не суйся, не вырвешься. Но куда там, они
уже тут как тут. Вдовы-то ведь наши, для них это
прям как настоящий праздник, когда в поселке новая
вдова появляется. А как же! У нас ведь теперь
с ними судьба общая. Одной формы и цвета, как
говорится, она у нас теперь. И хотят они от тебя
только одного: чтобы ты к ним ходить начала. Чтобы
сидела ты с ними и слушала, как они тебя своей
вдовьей науке обучать будут.
Вот поэтому-то я уже шесть лет, когда по улицам
хожу, под ноги себе смотрю. Очень и очень
внимательно смотрю. Чтобы, не дай Бог, на вдовье
дерьмо не наступить.
Нет, не могу я больше тут с раскинутыми руками
стоять и «катюшу» ждать. Нет у меня больше
на это силушки. Только одно у меня в жизни было,
ради чего мне было руки раскидывать. Но кончилось
оно — и опустились мои рученьки.
Ну и куда же наша госпожа Симона направляется
ночкой темною? Куда, скажите на милость,
несут ее ноженьки? Да на стадион футбольный,
вот куда. На самый-пресамый край поселка. Здесь,
правда, «катюши» еще никогда не падали, но, даст
Бог, сегодня и сюда прилетят. И вот Симона снимает
с плеча сумку, бросает ее наземь и стоит на
футбольном поле. Трава на поле — сухая: нету у
них тут в стране воды. Все время только и делают,
что плачутся: «Нету у нас воды!» Только для футбольного
поля вода и находится. Но на счастье Симоны
сегодня траву не поливали. И вот стоит она
на этой траве, и вдруг на нее находит. Рот у нее
словно сам собой раскрывается — и она петь начинает:
Чем отличается этот вечер
от других вечеров, от других вечеров?
А тем, что в другие вечера
Симона все пашет да пашет.
Но сегодня вечером, сегодня вечером
прилетит «катюша»
и заберет Симону, которая ее ждет.
— Возьми меня к себе, ангел смерти! — кричит
Симона.
Но не приходит к ней ангел смерти. Вместо
него приходит безумие.
Бедные вы мои, нечастные вы мои деточки. Ну
ничего, коли помру, авось и вас наконец уважать
начнут. Может, даже денег вам каких дадут. За то,
что «катюшей» меня прихлопнуло. У нас ведь в стране как: кого арабы убьют, тому почет и уважение.
Как королю какому. Ну а если свихнется кто,
то и всей его семье каюк. Ну кто, скажите, на моей
Эти жениться захочет, если узнает, что у нее мама
с приветом?