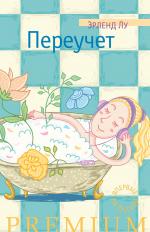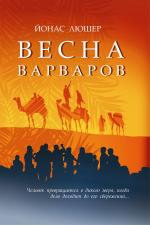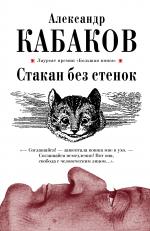- Константин Арбенин. Король жил в подвале и другие сказочные истории. — СПб.: ЛЕМА, 2014. — 256 с.
Писатель, музыкант и актер Константин Арбенин выпустил новую книгу историй для детей и взрослых «Король жил в подвале». Значительная часть произведений сборника публиковалась в периодике, звучала по радио и ставилась на сцене. Внимание к творчеству Арбенина абсолютно оправдано: автор перемешивает сказочные мотивы и реализм, острый сюжет и философию, делает повествование напряженным и стремительным, чему способствует лаконичная, почти сценарная манера изложения и яркие образы.
Соната для чайника со свистком Немолодой холостяк Семён Васильевич купил себе в комиссионном магазине обнову — Чайник со свистком. Принёс его домой и определил место на кухонной плите — тут ему теперь жить и работать. А Чайник оказался не из простых, а с талантом. Были у него слух и голос, и больше всего на свете он любил, согреваясь, насвистывать классические музыкальные номера. Получалось у него это очень даже хорошо, без фальши: раньше-то тот Чайник много лет жил у настройщика и кое-чему научился. Уж на что Семён Васильевич равнодушен был к классике, а и ему нравилось, как Чайник насвистывает. Он даже чая стал в два раза больше пить, только чтобы послушать лишний раз что-нибудь из Брамса или из Чайковского. Мало того, через какой-то месяц Семён Васильевич стал отличать менуэт Боккерини от полонеза Огинского, а адажио Альбинони от реквиема Верди. А потом совсем неожиданная вещь произошла. У Семёна Васильевича на кухне испокон веку обитал старый Радиоприёмник, который музыке тоже в общем-то не чужд был, но в последние годы впал в некоторый маразм, пел вульгарные песни, кряхтел и заикался, а иногда даже выражался неприличными словами. Так вот, хозяин взял да и выкинул его. Решил: зачем нужна эта рухлядь, если теперь есть в доме настоящая музыка; да и экономия на радиоточке опять же какая-никакая, а ощущается.
В общем, Чайник со своими симфониями и фугами пришёлся Семёну Васильевичу, как говорится, по душе и ко двору. Но на той же кухне давно снимал угол старый ворчливый Холодильник. Так вот ему Чайниковы трели никакого удовольствия не доставляли, скорее наоборот. Тому Холодильнику ещё в молодости грузчик наступил на ухо, поэтому и слуха у него не было. Вместо этого был у него хронический бронхит, вследствие которого он оглушительно храпел и кашлял — не только ночью, но и иногда днём. Ну а когда его многолетний приятель — гнусавый и заносчивый Радиоприёмник угодил по вине Чайника на помойку, Холодильник просто возненавидел этого свистуна.
— Безобррразие! — ворчал Холодильник по ночам. — Свистит и свистит почём зря, все деньги из дома высвистел! Лучше бы гимн утром играл или что-нибудь для души, из Алика Кобзманова — вот это я понимаю! А то какие-то тили-пили!
Холодильник ставил себя намного выше Чайника. На то у него были веские и уважительные причины. Во-первых, у него внутри лежали продукты, а в Чайнике только вода булькала. Во-вторых, у него был свой отдельный угол, а Чайник ютился на коммунальной плите вместе с двумя Кастрюлями и старухой Сковородой. И самое важное — Холодильник работал от электричества, у него был прямой провод в розетку, и это наполняло его неизъяснимой гордостью и самодовольством. А Чайник — что! У него даже никакого намёка на провод не было, был он гол и сложными внутренними механизмами похвастаться не мог. Непонятно, откуда в нём эта самая музыка возникала, из каких таких пустот и глубин. Поэтому — так считал Холодильник — Чайник не имел права высказываться, а тем более — исполнять музыкальные номера.
А Чайник места своего не понимал, на ворчание Холодильника никак не реагировал и продолжал себе повышать своё исполнительское мастерство, выдавал всё более сложные и красивые партии. Да ещё птицы за окном подпевать ему стали: расслышали, что в этом доме чудесный Чайник живёт, и принялись слетаться по утрам, настраивать свои звонкие голоса по кухонному камертону, распеваться прямо Холодильнику в раздавленное ухо. Холодильник вконец рассвирепел.
«Ну ничего-ничего, — думает, — скоро зима придёт, тогда я управу-то на этот хор найду! И солиста-водохлёба приструню, попомните моё слово! Посмотрим, как он запоёт!» Затаил обиду и стал дожидаться, пока птицы на юг улетят, а Семён Васильевич окна на зиму бумажками заклеит.
Но и зима облегчения Холодильнику не принесла. Дома похолодало, и хозяин ещё чаще стал Чайник кипятить: взял манеру каждые два часа согревать чашечкой чая тело, мелодиями — душу.
И тогда задумал Холодильник соседа своего извести.
Пришёл однажды Семён Васильевич на кухню, налил в Чайник воды, зажёг конфорку и уже совсем было собрался надеть свисток на носик, как вдруг Холодильник под руку ему зашёлся кашлем. Таким бурным кашлем, что Семён Васильевич перепугался, стал Холодильник по спине стучать, а про свисток совсем забыл. Так и ушёл с кухни, оставив свисток на столике.
А Холодильник после того выключился — мол, он здесь ни при чём. А ведь знал, что без сигнала Семён Васильевич про Чайник наверняка не вспомнит! Чайник уже выкипать стал, пар из него так и валит, а свистнуть никак не получается. Он хрипит, сипит, булькает — всё без толку. Вот уж и воды в нём не осталось, вся в воздух ушла. Раскраснелся Чайник, пластмассовая ручка плавиться начала. Две Кастрюли и старуха Сковорода смотрят на него с сочувствием, Холодильник про себя осуждают, а сделать-то ничего не могут — ну пошипела немного Сковородка, ну позвякали крышками Кастрюли, а толку чуть.
В общем, Семён Васильевич запах учуял, когда уже вся ручка на плиту стекла и пузыриться стала. А Чайник весь почернел, стал снаружи как та сковорода — шершавый и покорёженный. И хотя внутри он остался бел и гладок, голос у него с тех самых пор пропал — как отрезало.
Семён Васильевич, насколько смог, почистил его мелким песочком, но это не помогло. Теперь из носика раздавался лишь негромкий однотонный свист, сплошная нота ми. Холодильник этому исподтишка радовался, а на виду по-отечески утешал пострадавшего:
— «Ме» — это ничего, это хорошая нота, не хуже других. Чайник — не патефон, с него одной ноты вполне достаточно. Вот у меня нот вообще нет, одни хрипы да храпы — а я ничего, на жизнь не жалуюсь, потому и беру от неё по потребностям. Как говорил мой сборщик: кому мало дано, тому много положено!
Но зря Холодильник похвалялся, потому как вскоре после этих заявлений случилось с ним несчастье. Как-то ночью вырубилось по всему дому электричество. Холодильник спросонья только кашлянуть успел, дёрнулся, громыхнул всем металлическим телом — и отключился. Чайник-то понял, что дело неладно, а на помощь позвать не может, да и некого — все спят. Поутру электричество включили, а Холодильник в себя так и не пришёл: от толчка что-то в его организме разорвалось, какая-то жизненно важная жидкость на пол вытекла, и как Семён Васильевич ни тряс его, как по бокам ни пошлёпывал, не оживал старик. Продукты в нём испортились, лёд растаял, температура упала до катастрофической метки. Вызвал хозяин холодильного мастера.
— Всё, — говорит мастер, — извините, хозяин, но холодильничек ваш восстановлению не подлежит. Он своё с лихвой отслужил, пора ему на покой. Выражаю вам свои, так сказать, соболезнования. Могу посодействовать в приобретении нового агрегата.
Но новый агрегат Семён Васильевич пока покупать не стал — не на что. Ему и на новый чайник-то сейчас денег не хватало, не то что на холодильник. И стал он, пока зима, немногочисленные скоропортящиеся продукты вывешивать в авоське за форточку, а Холодильник оставил на прежнем месте наподобие тумбочки — складывал в него крупу, картошку, пустые бутылки.
Старик совсем потерял былой блеск: ни шевелиться, ни ворчать уже не мог, и провод его, вынутый из электрической розетки, безвольно валялся в пыли у плинтуса. Чайнику было жаль его. Так жаль, что он в первый раз за всё это время почувствовал в себе музыку — печальную прощальную сонату для Чайника со свистком. Посвящается соседу Холодильнику. Самое интересное, что музыка эта появилась внутри Чайника сама собой и никакому композитору не принадлежала — это было собственное Чайниково сочинение. Да и не сочинение вовсе, а так просто — чув¬ствование. И вечером, когда всё внутри него стало закипать, он попробовал насвистеть эту нехитрую мелодию. Видимо, получилось что-то весьма странное, потому что Семён Васильевич, быстро прибежав на кухню, долго не гасил огонь и всё слушал и слушал этот хриплый порывистый свист. Даже глаза у него заслезились — то ли от пара, то ли от этой пронзительной ноты ми… А потом Семён Васильевич присел за стол, склонился над пустой чашкой и даже чаю себе не налил — всё думал о чём-то да вздыхал.
Так и молчали они целую ночь на кухне: безголосый Чайник, обесточенный Холодильник да немолодой холостяк Семён Васильевич. Думали все трое приблизительно об одном и том же: о том, что нечто самое важное в их жизни уже потеряно и восстановлению не подлежит. И как теперь продолжать жить без этого самого важного? И можно ли всю оставшуюся жизнь держаться на одной только ноте, когда точно знаешь, что раньше их было семь?
Но впереди ожидалась весна. Должны были вернуться из тёплых стран птицы, Семёну Васильевичу на работе обещали дать небольшую прибавку к зарплате, во вторник по телевизору намечался концерт симфонического оркестра, да и в недрах Чайника зрел уже какой-то неведомый доселе жанр. Значит, перспективы всё-таки были.
И пока эти трое коротали ночь на кухне и обо всём об этом размышляли, они слышали внутри себя музыку. Не гимны, не дурацкие песенки, а ту самую — живую классическую музыку в исполнении Чайника со свистком. Даже Холодильник слышал теперь именно её. Стало быть, музыка та не исчезла, не расплавилась, не улетела на юг. И чтобы услышать её надо было совсем немного — замолчать и задуматься.
Метка: Отрывок
Феликс Х. Пальма. Карта неба
Феликс Х. Пальма. Карта неба. — М.: АСТ: Corpus, 2014. — 783 с.
В октябре в издательстве Corpus выходит остросюжетный роман «Карта неба» испанского писателя Феликса Пальмы. Действие книги происходит в Лондоне в XIX веке в эпоху великих научных открытий, которые раздвигали границы возможного и внушали людям мысль о том, что самые смелые их мечты и надежды могут осуществиться. В основу «Карты неба» положен роман Г. Дж. Уэллса «Война миров», более того — сам фантаст оказывается одним из действующих персонажей.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Джереми Рейнольдсу хотелось бы быть влюбленным, чтобы иметь возможность окрестить женским именем ледяную глыбину, в которую уперся его корабль, этот антарктический пейзаж, расстилавшийся перед ним. Или горную цепь, на горизонте к югу, или бухту, открывавшуюся справа в снежном тумане, или даже любую из многочисленных льдин. Но Рейнольдс никогда не испытывал чувств, похожих на любовь, и единственным именем, которое он мог бы использовать в этих целях, было имя Джозефины, богатой девушки из Балтимора, за которой он ухаживал, влекомый совершенно иными интересами. Откровенно говоря, он не мог представить себя, обращающегося к ней во время чаепития, под неусыпным взглядом ее матери, со словами: «Кстати, дорогая, я назвал твоим именем континент, лежащий далеко за Полярным кругом. Надеюсь, это тебя обрадует». Нет, Джозефина не сумела бы оценить такой подарок. Она ценила только то, что можно носить на пальцах, запястьях или шее. Какой прок от подарка, которого она никогда не увидит и не потрогает? Это чересчур изысканный презент для девушки, чуждой всякой изысканности. И вот теперь, очутившись во льдах, на сорокаградусном морозе, Рейнольдс принял решение, какого не смог бы принять, находись он в любом другом месте: прекратить ухаживать за Джозефиной. Да, именно так он и поступит. Весьма маловероятно, что ему удастся вернуться живым в Нью-Йорк, но он дает себе торжественный обет: если с помощью какого-то чуда это произойдет, его избранницей станет лишь та, кто обладает тонкими чувствами и способна испытать волнение оттого, что на Южном полюсе есть закованный в лед утес, носящий ее имя. Хотя было бы неплохо, про себя добавил он, подчиняясь своему неизменному здравому смыслу, чтобы такая девушка располагала к тому же достаточными средствами и в случае, если фортуна ему не улыбнется, не корила бы его за то, что та далекая скала — единственное, что он может ей предложить.
Он тряхнул головой, чтобы прогнать эти романтические мысли, уносившие в далекий мир, который отсюда казался неправдоподобным, и устремил свой взор на бесприютный край, лежащий в такой дали от цивилизации, что Творец не стал украшать его приметами жизни. Кроме того, кому захочется окрестить именем жены, своим собственным, корабля, доставившего их туда, или организатора экспедиции этот кусок льда, который, возможно, в конце концов станет его могилой? Да, он приехал сюда, обуреваемый стремлением вписать свое имя в Историю, но, как становится очевидным, единственное, что ему удастся написать, будет его эпитафией.
Они отплыли из Нью-Йорка в октябре с намерением достичь Южного полюса через три месяца, когда лето в Южном полушарии в разгаре, однако из-за целого ряда неблагоприятных обстоятельств и неудач, преследовавших их с самого начала экспедиции, путешествие безнадежно затянулось. К тому времени, когда они миновали Южные Сандвичевы острова и направились к острову Буве, этому ускользающему от глаз наблюдателя островку, который с таким трудом нанесли на карту предыдущие исследователи, даже помощник кока и тот знал, что удача ждет их только в том случае, если они достигнут цели до конца лета. При этом экспедиция вышла очень дорогостоящей, и они уже проделали слишком большой путь, чтобы возвращение могло устроить хоть кого-нибудь, а потому капитан Макреди приказал держать курс на острова Кергелен, надеясь, что кроличьи лапки, которые захватили с собой матросы, окажутся более действенными у Полярного круга, чем в Америке. Оттуда они проследовали на юго-запад и вскоре начали встречать на своем пути первые плавающие льдины, которые словно охраняют берега Антарктиды, как отважные часовые. Используя проходы между льдами и огромными айсбергами, они сумели без особых помех продвинуться довольно далеко, пока почти полностью скованное ледяным саваном море не объявило им, что в этом году зима решила прийти на месяц раньше, в середине февраля. Невзирая на это, они с энтузиазмом принялись раскалывать лед, наивно уповая на двойную обшивку из африканского дуба, которую Рейнольдс приказал поставить, дабы усилить корпус старого китобойца. Это были долгие и отчаянные попытки, но в конце концов появление огромного айсберга превратило схватку со льдом в мираж. Но капитан Макреди проявил себя весьма изобретательным человеком: он распорядился сыпать угольную пыль на державший их в тисках лед, чтобы побыстрее растопить его, приготовил свечи и даже отправил нескольких человек раскалывать лед с помощью любых колющих инструментов, какие только отыскались в трюме. Единственное, что ему оставалось, это попробовать собственноручно перенести корабль на другое место, подобно какому-нибудь богу с Олимпа. А так все эти усилия ни к чему не привели, разве что добавили ситуации патетики. Они были обречены с того самого мгновения, когда решились войти в это море, усеянное ледяными капканами, а может быть, даже с момента, когда Рейнольдс замыслил свою экспедицию. Вскоре судно слегка накренилось на правый борт, и им удалось спуститься на лед, где Макреди приказал кому-то подняться на вершину ближайшего айсберга и сообщить, что он оттуда увидит. Вырубив с помощью кирки небольшие ступеньки во льду, дозорный вытащил латунную подзорную трубу и подтвердил то, что уже давно подозревал Рейнольдс: мир для них теперь ограничивался бескрайним ледяным полем, ощетинившимся скалами и айсбергами, белым небытием, где они вдруг стали жалкими, ничего не значащими букашками, не важно, живыми или мертвыми.
Спустя две недели положение не улучшилось, и глупо было это отрицать. Ледяные клещи, державшие в плену «Аннаван», не разжались ни на миллиметр. Наоборот, тревожное потрескивание льда свидетельствовало о том, что его давление на корпус судна только усиливается. И ослабления этой хватки можно было ожидать разве что через восемь-девять месяцев или даже позже, когда сюда снова придет лето, и это еще если им повезет, ибо Рейнольдсу было известно слишком много похожих историй, когда желанное таяние льдов так и не наступало. На самом деле, каким бы опытом ты ни обладал, все становилось непредсказуемым, едва ты отваживался вступить в царство льда. Достаточно вспомнить хотя бы экспедицию сэра Джона Франклина, предпринятую в 1822 году на север Канады с целью отыскать Северо-Западный проход. Участники экспедиции столько времени блуждали во льдах, что Франклину пришлось даже съесть собственную обувь, чтобы хоть как-то заглушить страшный голод. Но Франклин все же вернулся домой, что удавалось далеко не всем. «Не пополнят ли и они длинный перечень неудавшихся экспедиций, пропавших кораблей, мечтаний, канувших в неизвестность, который заботливо составляют в Адмиралтействе?» — подумал Рейнольдс, с отвращением разглядывая свои заиндевелые сапоги. Пока что им остается только молиться, чтобы 1830 год не был указан на их надгробных плитах вслед за датой рождения.
Он бросил грустный взгляд на «Аннаван». Это было китобойное судно тридцатиметровой длины, знававшее лучшие времена, когда оно промышляло кашалотов и китов-горбачей в южной Атлантике. От того славного прошлого осталось лишь полдюжины гарпунов и дротиков, хранившихся в арсенале. Теперь же «Аннаван» представлял собой довольно нелепое зрелище: он опирался на подобие мраморного пьедестала, накренившись набок и немного задрав носовую часть. Желая свести к минимуму вероятность того, что судно опрокинется, Макреди распорядился спустить паруса на обеих мачтах и навалить гору снега по правому борту, которая служила бы одновременно подпоркой и склоном для спуска. Солнце висело над самым горизонтом, где ему предстояло пробыть еще несколько недель, перед тем как окончательно погаснуть в апреле, уступив место долгой полярной ночи, и освещало «Аннаван» слабым и тусклым светом.
Устав от тесноты корабельных помещений, по которым приходилось передвигаться, то и дело задевая головой свисавшие сверху, как грозди винограда, орудия и инструменты, натыкаясь на койки и громоздившиеся повсюду съестные припасы, немногочисленные члены команды сгрудились у подножия судна, бросая вызов жестокому морозу, который забавлялся тем, что превращал в поблескивающие облачка дыхание, вырывавшееся из их ртов. Кроме него, Джереми Рейнольдса, фигурировавшего в бумагах в качестве начальника экспедиции, экипаж под командованием капитана Макреди составляли два офицера, боцман, два артиллериста, хирург, кок и два поваренка, два плотника и дюжина матросов, один из которых, приставленный к ездовым собакам, был огромный молчаливый метис, плод кощунственной связи индеанки из племени упшароков с белым. И насколько мог заметить Рейнольдс, пока никто из них за свою судьбу особенно не тревожился. Но не потому, что на борту было достаточно провизии, а запасов угляхватало, чтобы поддерживать тепло внутри судна до наступления лета. Такая беззаботность порождалась опытом, что был у них за плечами, многочисленными трудностями, которые им пришлось пережить в подобных и даже гораздо худших переделках. Либо так предпочитал думать Рейнольдс, не мог же он считать, что безоговорочное смирение, с которым они встречали невзгоды, объясняется тем, что их несчастные жизни значат для них не больше мушиного укуса, это было бы слишком ужасно, так как собственная жизнь была ему по-прежнему дорога, по крайней мере пока. Как бы то ни было, он надеялся, что такое положение вещей долго не продлится и не подтвердятся известные разговоры в портовых тавернах насчет того, что в условиях, подобных нынешнему, не стоит ни о чем беспокоиться, пока достаточны запасы рома. Вот когда они иссякнут, все резко изменится: безумие, которое до сих пор, словно робкий поклонник, витало где-то поодаль, начнет искушать экипаж и в конце концов обольстит наиболее слабых, и те не замедлят поднести пистолет к виску и спустить курок. Рейнольдс прикинул, сколько галлонов рома может храниться в винном погребке судна. Макреди, у которого имелись собственные запасы бренди, приказал Симмонсу, одному из помощников кока, выдавать ром разбавленным водой, что обычно практиковалось, дабы растянуть его запасы на возможно более длительный срок. И никто из матросов не возмутился, словно они тоже знали, что, пока у них будет ежедневная порция спиртного, они будут спасены от самих себя.
Рейнольдс перевел взгляд на капитана Макреди. Тот тоже покинул судно и теперь сидел на каком-то тюке, рядом с железной клеткой, которую метис Петерс установил на снегу для собак. Капитан был укутан в несколько шерстяных плащей, поверх которых надел непромокаемую накидку, а на голове у него красовалась шапка с наушниками, одна из тех шапок, какие в шутку называли «валлийскими париками». Наблюдая за мощной фигурой капитана, сидевшего совершенно неподвижно, как будто он позировал художнику, Рейнольдс понял, что должен немедленно вывести всех их из этого оцепенения, пока экипаж в полном составе не погрузился в беспробудную спячку. Пришла пора просить Макреди, чтобы он выделил людей для обследования местности, после чего они могли бы продолжить путь к цели, сулившей им в случае успеха такую славу и такое богатство, о которых они не могли и мечтать: найти проход к центру Земли.
Эрленд Лу. Переучет
- Эрленд Лу. Переучет. — СПб.: Азбука, 2014. — 160 с.
В издательстве «Азбука» выходит новый роман Эрленда Лу «Переучет». Поэтесса Нина Фабер, чья «тактичная лирика была по-своему хороша, но вечно диссонировала с политической мелодией момента», была не замечена жюри главной в Скандинавии литературной премией. Уехав в Стамбул, Нина долго хранила молчание и лишь десятилетие спустя решилась выпустить новый сборник стихов «Босфор». Но разгромная и вопиюще несправедливая рецензия в университетской газете лишила поэтессу терпения: теперь кто-то должен заплатить по всем счетам.
Бытовало мнение, что в семидесятых Нину Фабер обошли главной на всю Скандинавию литературной премией. Тактичная лирика Нины была
по-своему хороша, но вечно диссонировала с политической мелодией момента. Пока все вдохновлялись Мао, она писала о дремлике болотном,
крыльях стрекозы и превратностях погоды в городах, куда не ступала ее нога. Громкая премия,
вкупе с ее денежным наполнением, раз за разом
доставалась другим. Ее получали датчане, финны, шведы, неловко сказать, исландцы. Деньги и
признание не были бы Нине лишними. Другим,
видимо, тоже.В восьмидесятые у тонкой, ломкой лиричности
не было шанса тягаться с формализмом и экспериментом, не говоря уже о втором-третьем-пятом уровнях в мегатексте девяностых.Начало нового тысячелетия вернуло Нине
шанс, но ее вера в себя ослабела, а в ближайшем
кругу ее списали с поэтических счетов. Нине не
работалось, у нее все подряд не клеилось. Она собачилась с сыном, переругалась с друзьями и в целом была разочарована в жизни, баловавшей ее
не больше мачехи.Нина пустилась во все тяжкие. Старые приятели из Совета по делам литературы выбили ей
трехлетнюю творческую стипендию. Нина расплакалась от радости. И пропала с радаров на несколько лет. Поговаривали, что она пьет, вроде пишет,
кажется, завела роман в Стамбуле. Внезапно она
вернулась, сняла домик с тремя сотками в городском садовом товариществе (она полжизни значилась в листе ожидания) и помирилась с сыном
Людвигом. Умерила питейный раж и отпраздновала шестьдесят пять без шума и пыли.Четырнадцать месяцев подряд она писала, обложившись сотнями страниц черновиков и записей, привезенных из Стамбула. Сочинялось на
одном дыхании, совестно работой назвать. Нина
цвела. Сто семьдесят стихотворений представила она на суд прежнего своего редактора, найдя
его после двенадцатилетнего перерыва. Они ровесники, Като Волд был женат, но, естественно,
развелся, снова женился и опять развелся, он
обладатель завидной должности в престижном
издательстве, хотя в своем цеху далеко не главный гений. Было время, Като трепетал перед литературой, но те дни давно миновали. Зато человек Като приличный. Часто ходит в театр и на
лыжах и не рвется облапошить человека без повода. В основу стихотворного цикла, названного
Ниной «Босфор», легли ее впечатления от пейзажа за окном стамбульской квартиры. Вдохновляясь импрессионистами, она описывала один и
тот же вид из окна, город, мост, улочки, в зависимости от погоды и настроения пробуждающие час от часу и тем более день ото дня несхожие ассоциации.Като Волд прочел, и ему понравилось. Он не
ждал от Нины ничего, тем более такого уровня.
Вместе они отобрали восемьдесят стихотворений.
Книга откроет перед Ниной двери, закрытые десятки лет, и вернет ей уверенность в себе. Сообщит читателю, что Нина не только жива, но и пишет как никогда хорошо. Так, по крайней мере, показалось Като. Он не преминул даже сказать, что
и «Книжный клуб» не устоит перед таким соблазном, и хотя на деле тот устоял, восторгов и ожиданий насчет «Босфора» поначалу было много.Сама Нина книгой была довольна, но не разделяла уверенности Като и издательства в том,
что успех предрешен. Мир очень изменился. Авторитетные литературные критики, частью знакомые ей по альковным делам, вышли в тираж,
их заменили юные законодатели мод завтрашнего дня, а с ними как-то и не переспишь. Не то чтобы
Нина в постели добывала восторженные рецензии на свои книги, но она тепло вспоминала то
фантастическое время, когда граница между пишущей братией и критиками была приятно эфемерной и люди с обеих сторон, да что там, со всех
сторон составляли одну, как говорится, большую
семью. Практично и душевно было все устроено.
Но этот поезд ушел, давно и безвозвратно, и сентябрьским утром в начале второго десятилетия
нового века, в день выхода «Босфора» в свет, Нина Фабер начеку и на взводе, даром что и так была вся на нервах последние недели. Срывалась и
раздражалась по любому пустяку. Впрочем, последние лет десять это ее привычное состояние.
Она давно все про себя поняла. Когда-то ей были
открыты все пути. Она могла получить любую
специальность, стать медицинским работником
например. Эта мысль преследует Нину. Ее жизнь
могла быть иной. Доктор Фабер. Сам по себе титул неизбежно вызывал бы трепет и уважение
окружающих. Не говоря уже о наполнении пенсии в те же ее шестьдесят семь лет. Или стала бы
окружным судьей. Да мало ли прекрасных работ.
Хоть бы и совсем скромно — учителем. Жила
бы, как люди обычно живут, на обычные деньги,
плюс оплаченный отпуск и соцпакет. А так стала
дилетантом, считает Нина. Раньше не была, а теперь стала. Она полагала, что с возрастом и опытом придут основательность и спокойствие, но
все наоборот, сильнее становятся только стресс и
страх не оказаться в отличницах. Чувство, что она
обязана что-то доказать, стало гораздо сильнее.*
Себя Нина считает никчемной. Да, у нее бывали счастливые минуты, слова легко подчинялись
ей, и она сочиняла из них тексты, издавала, но
механика этого дела недоступна рациональному
объяснению, Нина ею не владеет. Кое-что ей в
жизни удалось, свидетельством тому книги, но
как она умудрилась написать их, неизвестно. Нина не приручила стихи, они рождаются сами,
когда вздумают, отчего не чреватое ни деньгами,
ни всеобщими восторгами стихоплетство легко
обесценивается, особенно в глазах самой Нины,
тем более в мрачный период, из коих ее жизнь по
преимуществу и состоит.Нина судит себя беспристрастно и видит, что
иногда преуспевает в незачетных активностях, но
все анкетно-статусное не дается ей, вся эта конкретная сторона жизни, практическая, межличностная. Нина всегда ненавидела вопрос, где она
работает. Люди в основном имеют нормальную
работу, некоторые служат даже экспертами. Услуги, предлагаемые ими, востребованы, за них платят серьезные деньги. Господи, не раз думала Нина, в самый тучный свой год я зарабатываю в несколько раз меньше простого электрика, а они
учатся совсем недолго и на всю жизнь обретают
хлебную профессию. Поменять провода, поставить розетки или распределительный щиток —
нужда в этом есть всегда. А ее стихи игнорируют
законы электромагнетизма, не способствуют росту ВВП, рассчитаны на фантазеров и мечтателей. В свое время у нее был круг читателей, но ее
ровесники, когда-то бредившие стихами, давно
стали как все и переключились на биографии политиков.*
Вначале Нина гордилась принадлежностью к
насту, к тонкой прослойке рисковых и бедовых
идеалистов, они выгрызают истинную сущность
жизни из каждого мгновения, данного остальным
лишь для забот о размере будущей пенсии, но уже
много лет как она презирает всех писак, включая
себя, а также все, что написала или пишет. Хотя
машинально то и дело мысленно ставит метку,
собирая впрок всякий сор для будущих стихов.
А они прут и прут, сами, почему так происходит,
неизвестно, но они рвутся наружу, как бы Нина
ни артачилась. Аж тошно. Хотя теперь-то уж что,
столько лет она таким манером жила, теперь только зубы стиснуть и дотерпеть. Еще два года, и она
получит пенсию. Да, минимальную, социальную,
а все же стабильность. Деньги каждый месяц. Если питаться разваренным горохом, а иногда разводить из него супчик с беконом, то можно жить
неделями на несколько сотенных, главное пить не
начать, но с этим она почти завязала. Отсутствие
планомерности и дотошности — вот что Нина
всерьез в себе презирает. С ранней молодости мечтала она, например, сдать на пилота легкого самолета, но упорно отодвигала мечту покружить над пустыней на потом, когда появятся лишние
деньги, отчего-то она всегда видела себя в кабине
кукурузника именно над барханами: ветер собрал
пески в причудливые зыбкие звезды, и Нина с
воздуха фотографирует их для престижного журнала. Из этого ничего не вышло, Нина сдалась, и
не столько из-за денег, хотя и это оставалось проблемой, но признав, что ей не хватит дотошности
и четкости. Она никогда не учтет всех нюансов,
что подлежат учету. К гадалке не ходи, не совсем
оптимальные погодные условия не удержат ее от
полета. И станет она новостью в разделе происшествий, типа: спортивный самолет потерпел аварию, врезавшись в тумане в горный склон или
выработав в ноль топливо где-то в северном Хельгеланне. В царстве поэзии интуиция изредка помогает ей, но в реальном мире дефицит четкости
означает смерть. Эта нехватка дотошности давно
породила в Нине презрение к себе, для избавления от него она с переменным успехом практиковала работы в саду, чтение, хождение босиком по
росе, временами алкоголь. В это сентябрьское утро страх и напряжение достигли апогея. Что, если
вновь фиаско? Сможет ли она жить дальше с тем
же ощущением приниженности? Она хочет опять
расправить плечи, вовремя оплачивать счета, а в
глубине души мечтает, конечно же, что взойдет ее звезда.
Йонас Люшер. Весна варваров
- Йонас Люшер. Весна варваров. — М.: РИПОЛ классик, 2014.
В октябре в издательстве «РИПОЛ классик» выходит роман швейцарского писателя и философа Йонаса Люшера. Главный герой «Весны варваров» — обленившийся богатый швейцарец — отдыхает в роскошном отеле-оазисе Туниса, где в то же время молодые англичане из финансовых кругов играют свадьбу. Внезапное наступление кризиса влечет за собой банкротство Англии, свадебный пир оборачивается вакханалией, «весной варваров», вмиг отказавшихся от устоев цивилизации и всех приличий. Герой-швейцарец делает для себя целый ряд жутких открытий и в итоге оказывается в сумасшедшем доме, где и рассказывает на прогулке о своих отпускных впечатлениях. Диагноз, поставленный писателем современному обществу, звучит ужасно, но в книге он зафиксирован стильно, необычно и смешно.
— Нет, — сказал Прейзинг, — не о том ты спрашиваешь. Он встал посреди дорожки, чтобы подчеркнуть серьезность своего упрека. Невыносимая его привычка… Из-за нее мы гуляем по этой посыпанной гравием дорожке, как две старые, страдающие одышкой и избыточным весом таксы. И все же каждый день я именно с Прейзингом выхожу на прогулку, ведь он, несмотря на все досадные черты характера, для меня здесь лучший товарищ.
— Нет, — повторил Прейзинг, наконец тронувшись с места, — ты спрашиваешь не о том. Прейзинг говорил уж очень много, к тому же высказываниям своим он придавал чрезвычайное значение, да еще и знал наперед, как следовало бы поставить вопрос, дабы поток его словес устремлялся в нужное русло. Мне — в известной степени узнику здешних мест — ничего почти не оставалось, как только следовать намеченному им курсу.
— Погоди-ка, — продолжал он, — я сумею подыскать тому доказательства и ради исполнения такового намерения поведаю тебе некоторую историю.
Вот опять одна из привычек: использовать такие обороты речи, которые сохранились, как он доподлинно знал, единственно в его репертуаре. Подозреваю, впрочем, что эту дурь за последние недели волей-неволей позаимствовал у него и я сам. Порой возникали веские причины усомниться в том, что общение шло и ему, и мне на пользу.
— История весьма поучительная, — пообещал он. — История, сплошь состоящая из невероятных поворотов, опасных приключений и экзотических соблазнов.
Тот, кто ожидает теперь скабрезного рассказа, глубочайшим образом ошибается. Прейзинг никогда не упоминал о своей интимной жизни. Тут мне и опасаться не стоило — я слишком хорошо его знал. Да была ли та жизнь? Остается лишь строить предположения, с трудом воображая эдакое. Хотя и обмануться легко. Ведь я сам иногда удивляюсь, глядя в зеркало, что человек, в котором так мало жизни, способен был отдать кому-то ее частичку. Прейзинг, готовясь приступить к рассказу, задержал шаг, как будто бросая взгляд в прошлое, вроде бы представшее ему на горизонте, а горизонт у нас тут совсем неподалеку, ибо он образован верхним краем желтой стены. Еще Прейзинг прищуривал глаза, задирал повышенос и складывал трубочкой свои тонкие губы.
— Возможно, — завел он наконец рассказ, — вовсе ничего бы и не случилось, когда бы Проданович не отправил меня в отпуск.
Проданович — это не домашний врач, хотя именно он поместил сюда Прейзинга. Проданович — это некогда молодой и все еще блестящий сотрудник Прейзинга, тот самый, кто изобрел вольфрамовую схему CBC — электронный элемент, без которого во всем мире ни одна антенна радиосвязи не могла бы осуществлять свою работу и который спас унаследованное Прейзингом коммандитное товарищество по приему телевизионного сигнала и наружным антеннам от грозящего банкротства, а далее вывел его на немыслимые высоты лидерства в производстве схем-СВС на мировом рынке. Отец Прейзинга, повременив с уходом в иной мир ровно столько времени, сколько понадобилось самому Прейзингу, чтобы завершить экономическое образование, прерванное полуторагодовой учебой в частной школе вокального искусства в Париже, завещал сыну производство телевизионных антенн с тридцатью пятью работниками в то время, когда кабельное телевидение давно уже вступило в свои права. Фирма, выросшая из дедовской мануфактуры «Дроссель & Потенциометр», где предки Прейзинга ранили пальцы в кровь, перематывая тонкую медную проволоку, обеспечивала тогда едва ли не весь свой оборот производством многометровых, но почти безусых, а оттого действительно недорогих антенн, которые радиолюбители — увы, тоже вымирающая порода — имели обыкновение ставить на крышах.
Прейзинг, лично ни в чем не повинный, возглавил гиблую ту фирму, когда требовалось принять ряд действенных решений, то есть и сомневаться не стоит, что предприятие не дожило бы доныне, если бы тот самый Проданович, молодой специалист-метролог, не разработал вольфрамовую схему-СВС и не взял бразды правления в свои руки. Значит, Проданович был в ответе и за то, что Прейзинг со временем стал не просто состоятельным собственником, но еще и генеральным директором общества с полутора тысячами сотрудников и филиалами на пяти континентах. Для видимости хотя бы, ведь операционную деятельность динамичного предприятия, ныне носившего динамичное название Prixxing, давно вел Проданович вместе с командой успешных людей, готовых к принятию решений и созданию ценностей. Однако и Прейзинг как лицо фирмы был пока востребован, ибо Проданович знал, что одного у Прейзинга не отнять: он умеет внушить ощущение надежности, твердости духа семейной фирмы в четвертом поколении. Лишь в этом одном отказывал себе Проданович, сын боснийского буфетчика, ибо сам придерживался мнения, что балканщина символизирует нестабильность, а уж такого впечатления следует избегать любой ценой. Проданович, когда только позволял плотный график, с удовольствием проводил по городским школам непродолжительные встречи с трудновоспитуемыми, являя собой пример успешной интеграции в общество. Итак, этот самый Проданович, обладатель всех полномочий, отправил Прейзинга в отпуск. Именно так он поступал, когда назревала необходимость важных решений.
Прейзингу удалось, как я сразу догадался, с самых первых слов своего рассказа увильнуть от ответственности: мол, виновник последующих событий вовсе не он сам. Не пришлось ему и решать, куда ехать. Проданович, сама эффективность, всегда старался совместить приятное с полезным. В данном случае это означало, что Прейзингу надо слетать в Тунис, где в низеньком строеньице из гофрированной стали в промышленной зоне, каких немало вокруг Сфакса, прямо на дороге в столицу размещается одно из их предприятий-поставщиков. Хозяин сборочного завода Слим Малук — оборотистый делец, развернувший деятельность в таких несходных областях, как изготовление электронных приборов, торговля фосфатами и эксклюзивный туризм. Ему принадлежит целый ряд элитных отелей, Прейзинг станет его гостем. Малук искал сближения со всеми, кто имел какое-то отношение к телекоммуникациям, но не просто оттого, что за телекоммуникациями он видел будущее, теперь это каждый видит, а ради спасения фамильного предприятия. Четырем своим умным и, как заверял Прейзинг, внешне весьма приглядным дочерям он не мог передать — к великому сожалению, но таковы тунисские порядки — управление семейным холдингом, так что ответственность ложилась полностью на плечи его сына. На плечи Фуада Малука, преждевременно согбенные под моральной тяжестью изучения геоэкологии в Париже, что не позволяло ему возглавить фирму, где основной оборот делают фосфаты, которые впоследствии в виде искусственных удобрений лежат на салатных полях Европы. Фуад даже грозил отцу попытать счастья в каком то экологически чистом крестьянском хозяйстве департамента Ло. Слим Малук, человек не просто порядочный (Прейзинг полагал, что составил о нем верное представление), но еще и разумный, намеревался отойти от фосфатов и сделать упор на телекоммуникации, отчего и возлагал надежды на знакомство с Прейзингом.
Итак, Прейзингу предстояло бегство из туманного Зееланда прямиком в тунисскую весну. Твидовый пиджак и вельветовые брюки цвета бургундского вина он сменил на пиджак в мелкую клетку цвета яичного ликера и свободные хлопковые штаны с заутюженной складкой — костюм, с его точки зрения, недопустимый, однако подготовленный для него экономкой, которую он побоялся обидеть, а потому лишь мягко улыбнулся и уселся в ее машину (ведь собственной машины Прейзинг не имел), чтобы та отвезла его в аэропорт.
— Полет прошел на редкость приятно, — уверял меня Прейзинг. — Против обыкновения, я употреблял спиртное. Стюардесса меня не расслышала и вместо заказанного сока подала виски, но я не стал отказываться, я расчувствовался из-за того, что ее нескладная фигура столь резко не соответствовала бесчисленным стилизованным газелям, украшавшим ее униформу. Стюардесса была действительно нехороша собой, а пассажиры, считая себя лишенными одного из удовольствий, которое якобы оплатили вместе с приобретенным авиабилетом, пытались на ней отыграться. Справедливости ради следовало использовать любую возможность быть с нею полюбезнее, поэтому за первой порцией виски последовала вторая, а за второй порцией последовала третья. Слим Малук в сопровождении старшей из дочерей встречал Прейзинга в прохладном зале аэропорта Тунис-Карфаген, и, когда Прейзинг увидел, каким на зависть величавым взмахом руки Малук отогнал по жаре водителя такси от здания аэропорта и пригнал на его место своего шофера, он на миг едва не поверил сплетне, будто Малук является внебрачным сыном Роже Тринкье, автора пособия «La Guerre Moderne«1, и его алжирской любовницы, которая в ту ночь, когда французы оставили Магриб, с малюткой Слимом на руках бежала в Тунис через пустыню. Благодаря своим прелестям и освоенной машинописи, она вскоре устроилась здесь на место секретарши, а далее жены некоего второразрядного депутата из партии Неодестур, замышлявшего покушение на президента Бургибу, осуществить которое не позволил лишь инфаркт, разбивший парламентария посреди заседания и заодно принесший ему, погибшему при несении службы отечеству, посмертный орден, а его вдове, бывшей любовнице французского палача алжирцев, изрядную пенсию.
Но источник, как помнилось Прейзингу, недостоверен. Этот сюжет поведал ему некий человек по имени Монсеф Даг фус, который не просто был злейшим конкурентом Малука, но еще и предлагал Прейзингу сборку схем-СВС на своем заводе в пригороде Туниса по значительно более выгодной цене, причем откровенно признавался, что эта исключительно выгодная цена объясняется в первую очередь использованием труда беженцев из Дарфура, малолетних динка. Да еще и называл их ловкими ребятами. Прейзинг рад бы сразу отказаться, но ведь с детским трудом все не так-то просто.
Вспомнилось ему, как однажды они с Продановичем ужинали в клубе либералов-предпринимателей, а сосед по столу объяснял, насколько сложна вся история с этим детским трудом. Намного сложнее, чем того желал бы любой доброхот, да ведь дело-то совсем не простое, а при определенных обстоятельствах оно, может, и не худшее из зол. Сейчас Прейзинг не был уверен, что столкнулся с теми самыми определенными обстоятельствами, ведь тогда он с большим усилием вникал в пояснения молодого человека. Но на всякий случай он отложил решение, ведь хорошо бы сначала посоветоваться с Продановичем, так что Монсеф Дагфус, услышав весьма смутные отговорки, остался не при делах. Но в оценке он ошибся. Он принял Прейзинга за крупного игрока. Скомпрометировав Слима Малука, своего конкурента, сомнительным его происхождением, завлекая Прейзинга невероятно низкими ценами, но все равно не став ему деловым партнером, он пустил в ход тяжелую артиллерию и вызвал шестерых своих дочерей. Мол, предоставляется возможность выбора, бери любую, а по возрасту все они на выданье, правда, вторая слева уже помолвлена, но в случае необходимости отчего же не устроить жениху дорожную аварию, хотя дело это деликатное, да вдобавок и пять остальных ничем не уступают шестой, нареченной. «Voila!» — сказал он, указав на своих дочерей и разведя руками. «Voila!» — отозвался Прейзинг, ибо не знал, что сказать. Разумеется, Прейзинг был шокирован, но ведь он — убежденный сторонник культурного релятивизма, причем весьма далекого от шовинизма толка. Его либеральные взгляды — тепленький, как вода в детской ванночке, релятивизм. Тем не менее он всегда готов вынести перед собой на прогулку, подобно хоругви, этику добродетелей. Прейзинга, большого поклонника Аристотелева учения о «мезотес», всегда утешало, что эту самую «середину» не вычислить арифметическим способом, она определяется — да, вот именно — в каждом случае отдельно. А тут сталкивались миры. Тут следовало быть поосторожней. Труднейший для него случай, когда надо всерьез пораскинуть умом.
Я уж было испугался, что его рассказ клонится к магрибской Шехерезаде. Вот он, экзотический соблазн: Прейзинг перед лицом шести тунисских малолеток, предложенных ему отцом как choix de fromage, как сыр на выбор в ресторане «Кроненхалле». История все-таки грозила стать скабрезной.
— Но именно тогда, когда стало совсем невмоготу, — продолжал Прейзинг, — когда этот человек принялся мне пенять, что если дочери недостаточно хороши, то нет ли смысла выпроводить их отсюда, а взамен пригласить троих его сыновей, когда я приложил все усилия, заверяя его, что выбор мучителен, ибо каждая из шести неповторима в своей привлекательности, а сам внутренне пытался найти выход, чтобы вовсе отказаться от предложения, но не обидеть его смертельно, именно тут явился за ним прислужник, на лице — лихорадочные красные пятна. Пожар на одном из фосфатных заводов! Монсеф Дагфус, оставляя меня на попечение дочерей, которые трогательнейшим образом за мною ухаживали, пообещал вскоре вернуться, чтобы узнать о моем решении.
Однако этого не случилось. Покуда дочери под надзором старухи подносили мне чай и сладости, Монсеф Дагфус размахивал руками и дико орал, пытаясь загнать рабочих обратно в очаг пожара, чтобы те вступили в битву с огнем. Но ни взмахи, ни стращание не возымели действия, и тогда он схватил ведро песка с лопатой и шагнул, подавая пример личного мужества, прямиком к горящему складу, навстречу порожденной мощным взрывом ударной волне, оторвавшей Дагфусу голову, а его фосфатный завод, гофрированную сталь, допотопные конвейеры, французские экскаваторы и американские погрузчики разметавшей широким радиусом по каменистому ландшафту.
— Тот же слуга принес печальную весть, и я настроился на фольклорный траурный обряд. Громкие стенания, вырывание волос пучками, картинное расцарапывание искаженных горем лиц, обмороки и все такое прочее. Вместо этого шесть дочерей молча переглянулись, унесли стаканы и серебряный чайник, а меня выставили за дверь с недоеденной пахлавой в руке.
Правду ли рассказывал Прейзинг, нет ли — нипочем не разберешь, но суть не в том. Для Прейзинга суть в морали. По его мнению, в любой истории, достойной пересказа, содержится мораль. Обычно эти истории свидетельствуют о собственной его благоразумности, которую он столь высоко превозносит. Благоразумности, которую доктор Бечарт считает подлежащей лечению, но для которой даже через три недели после поступления Прейзинга все еще не подыскала точного определения в психопатологии.
Диагностика затрудненная, симптоматика неявная, к тому же нежелание пациента признать свою болезнь, проявлявшееся то вдруг в любезности и доброжелательности, то опять в твердолобом упрямстве, нисколько не упрощало дела.
Моя заурядная депрессия несравненно проще поддавалась диагностике и тем самым не представляла особого интереса. Хотя оба мы — что Прейзинг, что я — не могли признать себя способными к самостоятельным действиям. Ему удалось приписать этот явный порок к своим добродетелям. Я же, напротив, очень от него страдаю. Но попытка что-либо зменить означала бы действие.
— Так или иначе, — продолжал Прейзинг, — сведения поступили из недостоверного источника, да и без того поведение Слима Малука не давало ни малейшего повода усомниться в безупречном его происхождении. По всей форме усадил он меня рядом с дочерью Саидой на заднее сиденье французского лимузина, чьи мореходные качества на разбитых мостовых Туниса вызвали у меня в памяти скачку на верблюде — впрочем, о верблюдах несколько позже, — перебил Прейзинг сам себя. — Слим Малук захлопнул за мною дверцу, а сам сел за руль стоявшего совсем рядом, но не замеченного мною внедорожника. Прижав трубку к уху и обворожительно сделав нам ручкой, он умчался прочь. Мы увидимся снова лишь вечером. К глубочайшему сожалению, как он меня уверял, ссылаясь на исключительную занятость, но зато Саида позаботится обо мне и проводит в один из находящихся в ее ведении отелей, предоставив мне там кров на первую ночь. Жестом, исполненным достоинства и развеявшим мои последние сомнения относительно семейства Малук, указывала мне Саида на достопримечательности, которые проплывали за тонированными автомобильными стеклами. Краешек Тунисского озера, несколько метров авеню Хабиба Бургибы, супермаркет Magasin General, какие-то диковинные двери. Я с интересом крутил головой. Так, будто вижу все это впервые. Малуку необязательно знать, что около года назад я уже провел несколько дней в Тунисе по приглашению Монсефа Дагфуса, его конкурента.
Машина остановилась на одной из улочек близ Place de la Victoire перед выбеленным известью четырехэтажным зданием с синими оконными ставнями, со множеством стройных колонн и узорной кладкой в мавританском стиле. Дверца автомобиля открылась, и Саида объявила: L`Hôtel d`Elisha. Ах, Элисса, известная также под римским именем Дидона, основательница и правительница Карфагена…
1 «Современная война» (франц.).
Мо Янь. Устал рождаться и умирать
- Мо Янь. Устал рождаться и умирать / Пер. с кит., примеч. И. Егорова. — СПб.: Амфора, 2014. — 703 с.
В книге «Устал рождаться и умирать» выдающийся китайский романист современности Мо Янь продолжает летописание истории Китая XX века, уникальным
образом сочетая грубый натурализм и высокую трагичность, хлесткую политическую сатиру и волшебный вымысел редкой художественной красоты.
Во время земельной реформы 1950 года расстреляли невинного человека — с работящими руками, сильной волей, добрым сердцем и незапятнанным прошлым. Гордую душу, вознегодовавшую на своих убийц не примут в преисподней —
и герой вновь и вновь возвратится в мир, в разных обличиях
будет ненавидеть и любить, драться за свою
правду, любоваться в лунном свете цветением абрикоса…КНИГА ПЕРВАЯ
ОСЛИНЫЕ МУЧЕНИЯ ГЛАВА 1
Пытки и неприятие вины перед владыкой ада.
Надувательство с перерождением
в осла с белыми копытамиИстория моя начинается с первого дня первого месяца тысяча девятьсот пятидесятого года. Два года до этого
длились мои муки в загробном царстве, да такие, что
представить трудно. Всякий раз, когда меня притаскивали на судилище, я жаловался, что со мной поступили несправедливо. Исполненные скорби, мои слова достигали
всех уголков тронного зала владыки ада и раскатывались
многократным эхом. Несмотря на пытки, я ни в чем не
раскаялся и прослыл несгибаемым. Знаю, что немало
служителей правителя преисподней втайне восхищались
мной. Знаю и то, что надоел старине Ло-вану1
до чертиков. И вот, чтобы заставить признать вину и сломить,
меня подвергли самой страшной пытке: швырнули в чан
с кипящим маслом, где я барахтался около часа, шкворча, как жареная курица, и испытывая невыразимые мучения. Затем один из служителей поддел меня на вилы,
высоко поднял и понес к ступеням тронного зала. По бокам от служителя пронзительно верещали, словно целая
стая летучих мышей-кровососов, еще двое демонов. Стекающие с моего тела капли масла с желтоватым дымком
падали на ступени… Демон осторожно опустил меня на
зеленоватые плитки перед троном и склонился в глубоком поклоне:— Поджарили, о владыка.
Зажаренный до хруста, я мог рассыпаться на кусочки от легкого толчка. И тут откуда-то из-под высоких
сводов, из ослепительного света свечей раздался чуть
насмешливый голос владыки Ло-вана:— Все бесчинствуешь, Симэнь Нао?2
По правде сказать, в тот миг я заколебался. Лежа в лужице масла, стекавшего с еще потрескивавшего тела, я
понимал, что сил выносить мучения почти нет и, если
продолжать упорствовать, неизвестно, каким еще жестоким пыткам могут подвергнуть меня эти продажные служители. Но если покориться, значит, все муки, которые
я вытерпел, напрасны? Я с усилием поднял голову — казалось, в любой момент она может отломиться от шеи —
и посмотрел на свет свечей, туда, где восседал Ло-ван,
а рядом с ним его паньгуани3
— все с хитрыми улыбочками на лицах. Тут меня обуял гнев. Была не была, решил
я, пусть сотрут меня в порошок каменными жерновами,
пусть истолкут в мясную подливу в железной ступке…— Нет на мне вины! — возопил я, разбрызгивая вокруг капли вонючего масла, а в голове крутилось: «Тридцать лет ты прожил в мире людей, Симэнь Нао, любил
трудиться, был рачительным хозяином, старался для общего блага, чинил мосты, устраивал дороги, добрых дел
совершил немало. Жертвовал на обновление образов
святых в каждом храме дунбэйского4
Гаоми 5, и все бедняки в округе вкусили твоей благотворительной еды. На
каждом зернышке в твоем амбаре капли твоего пота, на
каждом медяке в твоем сундуке — твоя кровь. Твое богатство добыто трудом, ты стал хозяином благодаря своему
уму. Ты был уверен в своих силах и за всю жизнь не совершил ничего постыдного. Но — тут мой внутренний
голос сорвался на пронзительный крик — такого доброго
и порядочного человека, такого честного и прямодушного, такого замечательного обратали пятилепестковым
узлом 6, вытолкали на мост и расстреляли! Стреляли всего с половины чи 7, из допотопного ружья, начиненного порохом на полтыквы-горлянки8
и дробью на полчашки.
Прогремел выстрел — и половина головы превратилась
в кровавое месиво, а сероватые голыши на мосту и под
ним окрасились кровью…»— Нет моей вины, оговор это все! Дозвольте вернуться, чтобы спросить этих людей в лицо: в чем я провинился перед ними?
Когда я выпаливал все это, как из пулемета, лоснящееся лицо Ло-вана беспрестанно менялось. Паньгуани,
стоявшие с обеих сторон, отводили от него глаза, но и со
мной боялись встретиться взглядом. Я понимал: им абсолютно ясно, что я невиновен; они с самого начала прекрасно знали: перед ними душа безвинно погибшего, —
но по неведомым мне причинам делали вид, будто ничего не понимают. Я продолжал громко взывать, и мои
слова повторялись бесконечно, словно перерождения
в колесе бытия. Ло-ван вполголоса посовещался с паньгуанями и ударил своей колотушкой, как судья, оглашающий приговор:— Довольно, Симэнь Нао, мы поняли, что на тебя
возвели напраслину. В мире столько людей заслуживает
смерти, но вот не умирают!.. А те, кому бы жить да жить,
уходят в мир иной. Но нам такого положения дел изменить не дано. И все же, в виде исключения и милосердию нашему, отпускаем тебя в мир живых.Это неожиданное радостное известие обрушилось
на меня, будто тяжеленный мельничный жернов, и я
чуть не рассыпался на мелкие кусочки. А владыка ада
швырнул наземь алый треугольник линпай9
и нетерпеливо распорядился:— А ну, Бычья Голова и Лошадиная Морда, верните-ка его обратно!
И, взмахнув рукавами, покинул зал. Толпа паньгуаней потянулась за ним, и от потоков воздуха, поднятых
широкими рукавами, заколебалось пламя свечей. С разных концов зала ко мне приблизились два адских служителя в черных одеяниях, перехваченных широкими
оранжево-красными поясами. Один нагнулся, поднял
линпай и заткнул себе за пояс, другой схватил меня за
руку, чтобы поднять на ноги. Раздался хруст, мне показалось, что кости вот-вот рассыплются, и я завопил что
было мочи. Демон, засунувший за пояс линпай, дернул
напарника за рукав и тоном многоопытного старика, поучающего зеленого юнца, сказал:— У тебя, мать-перемать, водянка в мозгах, что ли?
Или черный гриф глаза выклевал? Не видишь, что он зажарен до хруста, как тяньцзиньский хворост «шибацзе»?10Молодой демон растерянно закатил глаза, но старший прикрикнул:
— Ну что застыл? Ослиную кровь неси!
Молодой хлопнул себя по лбу, лицо его просветлело,
словно прозрел. Он бросился из зала и очень скоро вернулся с заляпанным кровью ведром, похоже, тяжелым,
потому что тащил он его, еле переставляя ноги и изогнувшись в поясе, — казалось, вот-вот свалится.Ведро тяжело хлопнулось рядом, и меня тряхнуло.
Окатило жаркой волной тошнотворной вони, которая,
казалось, еще хранит тепло ослиного тела… В сознании
мелькнула туша забитого осла и тут же исчезла. Демон
с линпаем достал кисть из свиной щетины, окунул в густую темно-красную кровь и мазнул меня по голове. От
странного ощущения — боль, онемение и покалывание,
будто тысячами иголок, — я невольно взвыл. Послышалось негромкое потрескивание, и я ощутил, как кровь
смачивает мою прожаренную плоть, будто хлынувший
на иссохшую землю долгожданный дождь. Меня охватило смятение и целый сонм переживаний. Демон орудовал кистью быстро, как искусный маляр, и вскоре я был
в ослиной крови с головы до ног. Под конец он поднял
ведро и вылил на меня остатки. Жизнь снова закипела
во мне, вернулись силы и мужество. На ноги я встал уже
без помощи служителей.Хоть этих демонов и звали Бычья Голова и Лошадиная Морда, они ничуть не походили на те фигуры с бычьими головами и лошадиными мордами, которые мы
привыкли видеть на картинках, изображающих преисподнюю. От людей их отличала лишь отливающая ослепительной голубизной кожа, словно обработанная ка-
кой-то волшебной краской. В мире людей не бывает ни
ткани такой благородной голубизны, ни подобной листвы деревьев. Хотя цветы есть, маленькие такие, растут на
болотах у нас в Гаоми: утром раскрываются, а к вечеру
лепестки вянут и осыпаются…Долговязые демоны подхватили меня под руки, и мы
зашагали по мрачному тоннелю, которому, казалось, не
будет конца. С обеих сторон на стенах через каждые несколько чжанов11
висели бра причудливой формы, похожие на кораллы, с блюдечками светильников, заправленных соевым маслом. Запах горелого масла становился то
насыщеннее, то слабее, голова от него то затуманивалась,
то прояснялась. В тусклом свете виднелись полчища огромных летучих мышей, висевших под сводами тоннеля.
Их глаза поблескивали в полумраке, а на голову мне то
и дело падали зернышки вонючего помета.Дойдя до конца тоннеля, мы вышли на высокий помост. Седовласая старуха протянула к грязному железному котлу белую и пухлую ручку с гладкой кожей совсем
не по возрасту, зачерпнула черной деревянной ложкой
вонючей жидкости, тоже черного цвета, и налила в большую алую глазурованную чашку. Принявший чашку демон поднес ее к моему лицу и недобро усмехнулся:— Пей. Выпьешь, и оставят тебя все горести, тревоги и озлобление твое.
Но я отшвырнул чашку и заявил:
— Ну уж нет, пусть все горести, тревоги и озлобление остаются в моем сердце, иначе возвращение в мир людей теряет всякий смысл.
И с гордым видом спустился с помоста. Доски, из которых он был сколочен, подрагивали под моей поступью. Демоны, выкрикивая мое имя, бросились за мной.
В следующий миг мы уже шагали по земле дунбэйского Гаоми. Тут мне знакомы каждая горка и речушка,
каждое деревце и каждая травинка. Новостью оказались
вбитые в землю белые деревянные колышки, на которых черной тушью были выведены имена — одни знакомые, другие нет. Таких колышков было полно и на моих
плодородных полях. Землю раздали безземельным беднякам, и моя, конечно, не стала исключением. В династийных историях полно таких примеров, но об этом
перераспределении земли я узнал только сейчас. Земельную реформу в мире людей провели, пока я твердил о своей невиновности в преисподней. Ну поделили
все большие земельные угодья и поделили, меня-то зачем нужно было расстреливать!Демоны, похоже, опасались, что я сбегу, и конвоировали меня, крепко ухватив ледяными руками, а вернее,
когтями за предплечья. Ярко сияло солнце, воздух был
чист и свеж, в небе щебетали птицы, по земле прыгали
кролики, глаза резало от белизны снега, оставшегося по
краям канав и берегам речушек. Я глянул на своих конвоиров, и мне вдруг пришло в голову, что они похожи на
актеров в гриме синего цвета.Дорога шла по берегу реки. Мы миновали несколько
деревенек, навстречу попалось немало знакомых, но
всякий раз, когда я раскрывал рот, чтобы поздороваться,
демоны привычным движением сжимали мне горло
так, что я и пикнуть не мог. Крайне недовольный этим,
я лягал их, но они не издавали ни звука, будто ноги у них
ничего не чувствовали. Пытался боднуть головой, тоже
напрасно: лица как резиновые. Руки с моего горла они
снимали, лишь когда вокруг не было ни души.Подняв облако пыли, мимо промчалась коляска на
резиновых шинах. Пахнуло лошадиным потом, который
показался знакомым. Возница — его звали Ма Вэньдоу, — поигрывая плетью, восседал на облучке в куртке из белой овчины. За воротник он заткнул связанные
вместе длинную трубку и кисет, который болтался, как
вывеска на винной лавке. Коляска моя, лошадь тоже, но
возница моим батраком не был. Я хотел броситься вслед,
чтобы выяснить, в чем дело, но руки демонов опутали
меня, как лианы. Этот Ма Вэньдоу наверняка заметил
меня, наверняка слышал, как я кряхтел, изо всех сил пытаясь вырваться, не говоря уж об исходившем от меня
странном запахе — такого не встретишь в мире людей.
Но он пронесся мимо во весь опор, будто спасаясь от
беды. Потом встретилась группа людей на ходулях, они
представляли историю о Тансэне12
и его путешествии за
буддийскими сутрами. Все, в том числе Сунь Укун с Чжу
Бацзе — мои односельчане. По лозунгам на плакатах,
которые они несли, и по разговорам я понял, что сегодня первый день тысяча девятьсот пятидесятого года.Мы почти достигли маленького каменного мостика
на краю деревни, и тут меня вдруг охватила безотчетная
тревога. Еще немного — и вот они, залитые моей кровью, поменявшие цвет голыши под мостом. От налипших на них обрывков ткани и грязных комков волос исходил густой смрад. Под щербатым пролетом моста собралась троица одичавших собак. Две разлеглись, одна
стоит. Две черные, одна рыжая. Шерсть блестит, языки
красные, зубы белые, глаза горят…Об этом мостике упоминает Мо Янь в своих «Записках о желчном пузыре». Он пишет об этих собаках — они
наелись мертвечины и взбесились. Пишет также о почтительном сыне, который вырезал желчный пузырь
у только что расстрелянного и отнес домой — вылечить
глаза матери. О том, что используют медвежий желчный пузырь, я слышал не раз, но чтобы человеческий…
Еще одна выдумка этого сумасброда. Пишет в своих рассказах чушь всякую, верить никак нельзя.Пока мы шагали от мостика до ворот моего дома, я
снова вспомнил, как меня вели на расстрел: руки связаны за спиной, за воротник заткнута табличка приговоренного к смерти. Шел двадцать третий день последнего
лунного месяца, до Нового года оставалось всего семь
дней. Дул пронизывающий холодный ветер, все небо застилали багровые тучи. За шиворот горстями сыпалась
ледяная крупа. Чуть поодаль с громкими рыданиями
следовала моя жена, урожденная Бай. Наложниц Инчунь и Цюсян не видать. Инчунь ждала ребенка и вскорости должна была разрешиться от бремени, ей простительно. А вот то, что не пришла попрощаться Цюсян, не
беременная и молодая, сильно расстроило. Уже на мосту
я повернулся к находившемуся рядом командиру ополченцев Хуан Туну и его бойцам: «Мы ведь односельчане,
почтенные, вражды между нами не было, ни прежде, ни
теперь. Скажите, если даже обидел чем, стоит ли так поступать?» Хуан Тун зыркнул на меня и тут же отвел
взгляд. Золотистые зрачки посверкивают, как звезды на
небе. Эх, Хуан Тун, Хуан Тун, подходящее же имечко выбрали тебе родители!13
«Поменьше бы трепал языком! —
бросил он. — Политика есть политика!» — «Если вы меня
убить собрались, почтенные, то хоть объясните, какой такой закон я нарушил?» — не сдавался я. «Вот у владыки
преисподней всё и выяснишь», — сказал он и приставил
ружье почти вплотную к моей голове. Голова будто улетела, перед глазами рассыпались огненные искры. Слов-
но издалека донесся грохот, и повис запах пороха…Ворота моего дома были приоткрыты, и я увидел во
дворе множество людей. Неужели они знали о моем
возвращении?— Спасибо, братцы, что проводили! — обратился я
к спутникам.На их лицах играли хитрые улыбочки, и не успел я
поразмыслить, что эти улыбочки означают, как меня
схватили за руки и швырнули вперед. В глазах потемнело, казалось, я тону. И тут прозвенел радостный человеческий возглас:— Родился!
Я разлепил глаза. Весь в какой-то липкой жидкости, лежу между ног ослицы. Силы небесные! Кто бы
мог подумать, что я, Симэнь Нао, воспитанный и образованный, достойный деревенский шэньши 14, стану
осленком с белыми копытами и нежными губами!
1 Яньло-ван (Ло-ван) — владыка ада в китайском фольклоре.
2 «Нао» — букв. «требовать со скандалом», «бесчинствовать».
3 Паньгуань — чиновник при владыке подземного царства, ведущий учёт жизни и смерти.
4 Дунбэй — собирательное название северо-востока Китая.
5 Гаоми — уезд в пров. Шаньдун, родина Мо Яня, место действия
многих его произведений.6 Пятилепестковый узел — узел, связывающий руки и шею.
7 Чи — мера длины, ок. 30 см.
8 Высушенные тыквы-горлянки использовались как пороховницы.
9 Линпай — даосская дощечка с текстами заклинаний.
10 «Шибацзé» — фирменный продукт портового города Тяньцзиня. Долго хранится благодаря хорошей прожарке и отсутствию воды.
11 Чжан — мера длины, ок. 3,2 м.
12 Тансэн — одно из имен монаха Сюаньцзана, героя классического
романа «Путешествие на Запад». Сунь Укун и Чжу Бацзе — его спутники.13 Фамилия и имя Хуан Туна дословно означают «желтый зрачок».
14 Шэньши — одно из сословий императорского Китая, семьи
сдавших экзамены и получивших государственные должности; зд.
«состоятельный человек».
Александр Кабаков. Стакан без стенок
- Александр Кабаков. Стакан без стенок. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 256 с.
В Редакции Елены Шубиной выходит сборник эссе, рассказов и путевых записок лауреата премии «Большая книга» Александра Кабакова. По словам автора, «в результате получились весьма выразительные картины — настоящее, прошедшее и давно прошедшее. И оказалось, что времена меняются, а мы не очень… Все это давно известно, и не стоило специально писать об этом книгу. Но чужой опыт поучителен и его познание не бывает лишним. И стакан без стенок — это не просто лужа на столе, а все же бывший стакан».
ОСАЖДЕННЫЙ Все меньше хочется выдумывать. Видимо, попал
под влияние общей тенденции.А уж если выдумывать, то что-нибудь несусветное — летающих женщин, бессмертных мужчин, демонов и ангелов — в общем, всякую фантастическую белиберду, которой и без того хватает, включая не белиберду, а классику… Впрочем,
это не останавливает. Что ж, если майорский нос
гулял сам по себе вдоль питерских каналов, так
уж после этого ничего и не выдумай? И пусть себе
кот садился в трамвай, потирая усы гривенником, — никто не запретит и нам придумывать
сказки и фантастические романы…Да что угодно, лишь бы не начинать тоскливую
как бы реалистическую тягомотину: «Ранним весенним утром Петр Иванович Семенов, господин
средних лет, живущий в гигантском столичном
городе, вышел из подъезда своего многоэтажного
дома и отправился в большой банк, где он служил
топ-менеджером…» Ужас! К тому же сразу, как
только потребуются детали, начнешь путаться
и нести чушь, поскольку сам менеджером ни топ,
ни каким другим в банке не служил, квартируешь
в умирающей пятиэтажке, и не средние идут твои
годы, а вполне уже, по чести говоря, преклонные.Нет, положительно — нон-фикшн притягателен! И никаких фантазий не надо. Не надо напрягать воображение, а потом получать от критика презренное клеймо «булгаковщина» (а то и вовсе «аксеновщина»). И жизнь изучать в ее
конкретных и разнообразных проявлениях не
требуется — достаточно одно проявление записать точно и без прикрас, а читатель уж сам извлечет из этой правды свою, ему необходимую правду.Да, положительно — только нон-фикшн! Хватит беллетристики, побаловались, пора и честь
знать. Вот вам истинная история, документально
подтвержденный случай.Итак:
Ранним весенним утром Петр Иванович Семенов, господин средних лет, живущий в гигантском
столичном городе, вышел из подъезда своего многоэтажного дома и отправился в большой банк,
где он служил топ-менеджером. Паспортные данные Петра Ивановича, его ИНН и номер страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования, а также адрес по месту постоянной
регистрации и другие реквизиты любой желающий может найти в социальных сетях, Фэйсбуке,
Одноклассниках и прочих. Там же, в Фэйсбуке,
вы можете ознакомиться и с той историей, которую
мы собираемся вам здесь рассказать, но, конечно,
там она будет изложена пристрастно, а здесь мы
абсолютно объективны. Так что, если понравится — лайкните. А если вас смущает то, что на старомодном листе бумаги, содержащем слишкам многа букаф, и лайкнуть-то негде, то лайкните где угодно, какая разница.Итак:
Ранним весенним утром… Весна в том году была короткая, зато жаркая, в полном соответствии
с обещаниями ученых — в основном, как обычно,
британских — вовсе упразднить сдержанно жизнерадостные демисезоны, весну и осень, оставив
только экстремистские лето и зиму. Поэтому Петр
Иванович вышел из дому налегке. На нем были:
узкое и коротковатое, из черного кашемира, соответственно текущему деловому тренду, пальто
нараспашку… А также узкий, строго по тренированной фитнесом фигуре темный костюм… И, понятное дело, сияющие ботинки стиля oxford
brogues. Уже только по вышеописанному экстерьеру можно было бы заключить, что жизнь Семенова удалась, или, чтобы употребить актуальный оборот, состоялась. Если же добавить, что
спустя пять минут он вновь появился в нашем
поле зрения, но уже выехав из паркинга под домом на автомобиле почтенной немецкой марки
и модели текущего года, то следует признать, что
жизнь его не только состоялась, но именно удалась.Итак:
Петр Иванович Семенов, господин средних
лет… Средних — это сорока трех. К такому прекрасному возрасту у нашего фигуранта (воспользуемся популярным в текущие времена борьбы
с коррупцией словом) было все, что положено
фигуранту. Несколько счетов не только в родном банке, но и в других, отделенных от РФ госграницами. Приличный домик в Испании и еще более приличный по известному Новорижскому
шоссе. Еще одно транспортное средство, находящееся в пользовании жены, японский затейливый кроссовер. И, наконец, сама жена, девушка
Алена Васильевна Семенова, неполных тридцати пяти лет, со скромным модельным прошлым и столь же скромным деловым настоящим, обремененным заботами о собственном оздоровительном бизнесе «СПАщая красавица». Пусть
нас простят за упоминание близкого Петру Ивановичу человека в ряду его материального имущества, тут ничего обидного нет, а только логика жизни.Итак:
Живущий в гигантском столичном городе…
Боже, как удивителен этот город! Не будем даже
и пытаться перечислить хотя бы главные чудеса — просто проедем по его Третьему транспортному кольцу, будь оно неладно с его вечными
пробками, да оглянемся вокруг, да задохнемся
от вида небоскребов, упирающихся в сиреневое
от гари небо, да зажмуримся на мгновение, взлетая по стартующей в бесконечность эстакаде, да
представим себе это пространство, эти двадцать
миллионов обитателей, эти миллиарды вдохов
и выдохов… И миллиарды рублей, добавим мы,
так же растворенных в городском воздухе, как
дыхание горожан и выхлопы машин, в основном
пока еще не соответствующие современным европейским стандартам. Только вдохов и выдохов
на всех горожан приходится примерно поровну,
выхлопы зависят от года выпуска автомобиля
и мощности… А денежки вообще выпадают из воздуха сугубо неравномерно, густо оседая на некоторых депозитах и совершенно игнорируя большинство текущих, зарплатных и пенсионных,
счетов и просто дырявые карманы среднего населения — не путать со средним классом. В результате возникает, как сказали бы электрики,
разница потенциалов, а где разница потенциалов,
там и напряжение, спросите у тех же электриков,
а где напряжение, там, того и гляди, пробежит
искра и, соответственно историческому прецеденту, возгорится из нее пламя. Черт возьми!
Черт возьми, иногда восклицал про себя Петр
Иванович, да что ж они, не видят, что ли?! Кто
они, Семенов отчетливо не представлял, но на
всякий случай время от времени принимал участие в, как говорится, протестных акциях. Он шел
или стоял на мостовой вместе с немалым количеством горожан, среди которых встречалось порядочно таких же господ в кашемировых пальто,
тоже, видимо, смущенных разностью потенциалов — впрочем, возможно участвующих в упомянутых акциях лишь соответственно тренду, то
есть моде, вроде как на то же узкое и укороченное пальто.Итак:
Вышел из подъезда своего многоэтажного дома… Не всегда П.И. Семенов жил в этом многоэтажном новостроенном доме (монолит, планировка свободная, первичная отделка) со своею женой Алёной и девятилетним сыном Иваном.
Вернее, сын тогда еще только намечался, а Петр и Алёна жили в малогабаритной трешке с родителями Алёны и ее младшим братом. Район Капотня для готовящегося возникнуть сына был не слишком подходящим. Да и совместная жизнь с родителями жены тяготила, прямо скажем, бедного — тогда еще бедного — Семенова даже больше
Капотни. А у самого героя жилья не было никакого, поскольку он происходил из города Каменска-Шахтинского Ростовской области. И совсем
недавно он произошел из простого менеджера
в старшие менеджеры по работе с физическими
лицами… Короче, еще много денег на срочные
и специальные, особо выгодные вклады утекло,
прежде чем безо всякой ипотеки Семенов приобрел четырехкомнатную в новостройке, в тихом,
но перспективном районе Октябрьского Поля.
В эту квартиру тесть с тещей приходили только
в гости, никак не отвыкнув приносить с собою домашние заготовки квашеных огурцов и капусты,
которых никто в доме Семеновых давно не ел,
предпочитая обходиться продуктами из приличных магазинов. Открывая гостям, а спустя некоторое время закрывая за ними стальную дверь
с сейфовыми замками, Петр Иванович всякий
раз удовлетворенно отмечал и толщину, и качество стали, и хитроумность замков любимой двери, потому что только на нее и была вся надежда.Итак…
И отправился в большой банк, где он служил…
Именно служба в банке и привила Петру Ивановичу Семенову любовь к стальным дверям и веру в них как в единственное достойное препятствие
той самой искре и тому самому пламени, о которых говорилось выше. Будучи работником банка,
он отчетливо представлял себе, как всё ненадежно в этом ненадежнейшем из миров. Он помнил,
как в страшные дни уже далекого, слава Богу,
первого кризисного года тихо шумела у стеклянных, слегка усиленных решетками входных дверей банка толпа угрюмых вкладчиков и как ему
хотелось оказаться тогда в сейфовом помещении,
за броневыми дверями, и никогда не выходить оттуда. А ведь еще не было тогда не только сына Ивана, проводящего теперь, к счастью, учебный год на
безопасном острове, однако ведь на каникулы-то
возвращающегося на родину, но и жены Алёны,
слабой бизнесвумен… Какие двери?! Вырвут танком. Привяжут тросом и вырвут.Итак:
Топ-менеджером… В этом качестве он имел
возможность слегка растянуть обеденное время
и, допивая американский кофе с молоком в одном
из наиболее приличных итальянских кафе, которых вокруг банка развелось больше, чем в каком-нибудь квартале Милана, беседовать с коллегой,
таким же топом, о том, что волновало. «Дом надо
строить, вот что, отсидимся, если что, по-любому, — говорил он коллеге, и коллега соглашался,
а Семенов продолжал так же убежденно и невразумительно: — Умные люди давно в дома посъезжали, отсидятся, если что, по ходу…»Тут мы простимся с уже поднадоевшим приемом и прекратим раскручивать одну первую фразу, тем более что мы ее уже до конца использовали. Дальше изложение будет строгое и документально подтверждаемое — если хотите, ссылки
на соответствующие сайты пришлем. Действие
продолжается уже летом, наступившим вслед за
тою ранней весной, и осенью, довольно быстро
вытеснившей то лето.Итак:
Петр Иванович Семенов, у которого, как сказано, уже были дом в Испании и еще один, совсем нехилый, по Новой Риге, решил строить третий,
совершенно особого типа Дом — именно такой,
с большой буквы «Д».Дом этот должен был стать одной сплошной
стальной дверью, которую не вырвешь никаким
танком, да и, собственно, неоткуда будет ее вырывать — кругом вроде дверь… Пожалуй, что и дверь
эту будем писать с большой «Д».Для начала Петр Иванович Семенов продал
испанскую и новорижскую недвижимость, поскольку искомой безопасности ни та, ни другая
не предоставляли, а деньги имело смысл пустить
на строительство Дома, уже шедшее полным ходом и быстро истощавшее счета, один за другим.
Конечно, можно было бы ограничиться усилением обороноспособности новорижского жилища,
но это было бы затратнее, чем построить Дом
с нуля, — Петр Иванович через некоторых знакомых был осведомлен, во что обходится реформа обороноспособности. Кроме того, Семенова
смущало расположение дома: его привлекательная престижность, увеличивающая цену каждой сотки, увеличивала и риск — пламя, если возгорится, был уверен Семенов (и не он один
был в этом уверен), прежде всего полыхнет
именно на Рублевке и Новой Риге… Что касается
Испании, региона Марбелья, то относительно
этого жилья сомнения у Петра Ивановича усиливались после почти каждого выпуска новостей. Буйные толпы, шатающиеся по улицам
Южной Европы, в том числе Испании, сюжеты
о раздаче бесплатной еды голодным и забастовках госслужащих, лишенных тринадцатых зарплат, бутылки с «коктейлем Молотова», летящие в полицейских, — всё это нисколько не привлекало Петра Ивановича, и он даже сожалел, что когда-то купил испанский домик. Вложение можно было сделать и много более выгодное — к примеру, купить еще одну московскую квартиру, в сталинском доме, да сдать дипломату, или две элитных однушки в новостройках и тоже сдать, своему брату менеджеру, только еще начинающему…Словом, теперь Петр Иванович Семенов строил Дом.
Участок был выбран идеальный — на небольшом (проще защищать) полуострове, выступающем в водохранилище. Конечно, получить разрешение на покупку этой, еще недавно принадлежавшей районной администрации земли в прибрежной зоне было непросто. Тут речь даже не
шла о том, чтобы кому-нибудь занести, как положено, тут решалось всё на уровне бескорыстных
личных контактов в тесном и почти совершенно
закрытом кругу. Однако ж желание Петра Ивановича было настолько сокрушительным, что однажды он услышал заветное «ну, если горит тебе,
Петруха, стройся, только на новоселье не забудь
позвать», и стройка началась.Началась она даже не с нулевого, а с подводного цикла: в водохранилище вокруг полуострова
была установлена мощная стальная сетка, исключающая приближение к будущему Дому любых плавсредств, включая субмарины. Эта сетка
была установлена по примеру военно-морских
баз и стала как бы подводной Дверью.Потом были проведены саперные работы на
перешейке, соединяющем полуостров с материком — то есть с бывшим совхозным полем, понемногу распродающимся под коттеджи и таунхаусы. Минирование обошлось без чрезвычайных
происшествий, оставленный для хозяев и нужд
дальнейшего строительства проход был обозначен широкой аллеей молодых сосен, в целях маскировки перемежающихся с беспородной растительностью.Работы велись в ночное время, бригада молдаван немедленно по окончании была депортирована на добровольной основе, снабженная выходным пособием и советом всё забыть.
Жена Алёна поначалу ни во что посвящена не
была, но, как любящий человек, что-то почувствовала. Петя стал более молчалив, чем был прежде, глаза его приобрели еще более обычного сосредоточенное выражение, а на письменном столе
в его домашнем кабинете теперь постоянно лежал
школьный учебник физики, раскрытый на странице, на которой рассказывалось о разнице потенциалов, чреватой искрой… Кроме того, она слышала, как муж задумчиво, за какой-нибудь несложной работой, повторял стихотворную строчку «…из
искры возгорится пламя…», хотя вообще стихов
не любил и не знал. Когда же Петр Иванович привез ее взглянуть на завершающееся строительство Дома, уверенность ее окончательно сформировалась.Дом был выстроен из бетона, серый куб в один
этаж. Бетон был сплошной, окна в нем прорезаны
узкие и высоко от земли, в обычное время они закрывались стальными ставнями с мощными замка´ми, запирающимися изнутри одной кнопкой
с центрального пульта.Дверь в Дом вела стальная, когда она бывала
открытой — недолго, чтобы хозяева успели пройти, — можно было подивиться толщине: полметра стали, столько же, сколько бетона в стенах,
и вдвое толще, чем дверь в городской квартире.
Замко´в было четыре, по одному с каждой стороны, когда их запирали с центрального пульта,
глубоко в стены вдвигались стальные стержни,
почти в руку толщиной каждый.При запертой Двери и ставнях Дом снаружи
выглядел просто как сплошная бетонная глыба
правильной формы, украшенная металлическими накладками. Похоже было на какой-то брошенный недострой, уже начинающий зарастать
бурьяном — усилия ландшафтного дизайнера
дали результат…Внутри же Дом был совершенно обычный, мебель сюда перевезли с Новой Риги, и даже все интерьерные идеи снова воплотили. Натуральное
черное и красное дерево, тонкая кожа, зеркальное
стекло и прочие штучки, наличием которых внутри Дома вполне объяснялся суровый и неприступный вид Дома снаружи. Во всяком случае,
трезво оценивающий действительность человек
понял бы мотивы и соображения, руководившие
Семеновым при строительстве бетонной крепости.
Если в Доме цена дверных ручек на внутренних
дверях больше, чем три средних по стране зарплаты, то лучше укрыть их в бетонном кубе, за броневой дверью. Поскольку последствия разности потенциалов в учебнике физики описаны понятно…
Эрик Аксл Сунд. Девочка-ворона
- Эрик Аксл Сунд. Слабость Виктории Бергман. [Ч.1]. Девочка-ворона / Пер. со шведского А. Савицкой. — М.: АСТ: Corpus, 2014. — 507 с.
Криминальный роман-трилогия «Слабость Виктории Бергман» — литературный дебют двух шведов, Йеркера Эрикссона и Хокана Аксландера Сундквиста, пишущих под псевдонимом Эрик Аксл Сунд. Часть первая, «Девочка-ворона», поразила читателей и критиков, которые сравнили Сунда с великим Стигом Ларссоном.
Полиция Стокгольма находит в городе изуродованные трупы мальчиков. Поскольку жертвы — нелегальные иммигранты, чья судьба почти никого не волнует, полицейское начальство не поощряет стараний следственной группы. Но комиссар Жанетт Чильберг упорно ищет убийцу-садиста.Гамла Эншеде1
Странно было не то, что мальчик мертв, а скорее то, что он прожил так долго. Судя по количеству ран и их характеру, он должен был бы умереть гораздо раньше предварительно установленного времени смерти. Однако что-то поддерживало в нем жизнь, когда нормальному человеку уже давно пришел бы конец.
Выезжая задним ходом из гаража, комиссар уголовной полиции Жанетт Чильберг еще ничего об этом не знала. И уж тем более не подозревала, что данное дело станет первым в череде событий, которые кардинально изменят ее жизнь.
В окне кухни она заметила Оке и помахала ему, но он был поглощен разговором по телефону и не увидел ее. Первую половину дня ему предстояло посвятить стирке недельной порции пропотевших футболок, перепачканных песком носков и грязного нижнего белья. При наличии жены и сына, питавших жгучий интерес к футболу, приходилось минимум пять раз в неделю до предела напрягать их старую стиральную машину — неотъемлемая часть семейных будней.
Жанетт знала, что в ожидании, пока машина достирает, он поднимется в оборудованное на чердаке маленькое ателье и продолжит работу над одной из незаконченных картин маслом, которыми постоянно занимается. Он был романтиком, мечтателем, неспособным поставить в начатом «последнюю точку», хотя Жанетт неоднократно уговаривала его связаться с кем-нибудь из галеристов, вообще-то проявлявших интерес к его работам. Но он вечно отмахивался, утверждая, что еще не полностью закончил. Пока не полностью, но скоро.
И тогда все изменится.
Он добьется успеха, деньги потекут рекой, и они наконец смогут осуществить все, о чем мечтали. От выкупа дома до любого путешествия.
Почти двадцать лет спустя она начала сомневаться в том, что это когда-нибудь произойдет.
Выехав на Нюнесвэген, Жанетт услышала настораживающее постукивание возле левого переднего колеса. Даже будучи полным профаном в технике, она смогла понять, что со старенькой «ауди» что-то не так и что придется снова сдавать ее на станцию обслуживания. Наученная горьким опытом, Жанетт знала, что бесплатно машину ей не починят, хоть серб возле площади Булиденплан и делает все хорошо и недорого.
Накануне она сняла со счета остаток денег, чтобы заплатить последний из целой череды амортизационных взносов за дом, квитанции на которые с садистической пунктуальностью приходили раз в квартал, и надеялась, что на этот раз сможет починить машину в кредит. Прежде ей такое удавалось.
От мощного вибрирования в кармане куртки, сопровождаемого Девятой симфонией Бетховена, Жанетт чуть не съехала с дороги и едва не выскочила на тротуар.— Да, Чильберг слушает.
— Привет, Жан, у нас тут имеется кое-какое дельце на площади Турильдсплан.
Голос принадлежал ее коллеге Йенсу Хуртигу.
— Надо немедленно ехать туда. Ты где? — донеслось из телефона с такой громкостью, что ей пришлось отодвинуть трубку от уха сантиметров на десять, чтобы не лишиться слуха.
Она ненавидела, когда ее называли Жан, и чувствовала нарастающее раздражение. Это ласкательное имя возникло в шутку на корпоративе три года назад, но со временем распространилось по всему полицейскому управлению.
— Я возле Ошты, как раз сворачиваю на Эссингледен.
Что там произошло?— В кустах возле метро, неподалеку от Педагогического института, обнаружили мертвого парня, и Биллинг хочет, чтобы ты ехала туда как можно быстрее. Он, похоже, чертовски взволнован. Судя по всему, речь идет об убийстве.
Жанетт Чильберг слышала, что постукивание усиливается, и опасалась, как бы не пришлось съезжать на обочину и вызывать буксировщика, а потом просить кого-нибудь ее подвезти.— Если только эта чертова тачка не развалится, я буду на месте через пять—десять минут и хочу, чтобы ты тоже приехал.
Машина накренилась, и Жанетт на всякий случай перестроилась в правый ряд.
— Само собой. Я уже выезжаю и, вероятно, опережу тебя.
Хуртиг повесил трубку, и Жанетт засунула телефон в карман куртки.
Брошенный в кустах мертвый парень — для Жанетт это звучало скорее как избиение, повлекшее за собой смерть, и, следовательно, его надо квалифицировать как непредумышленное убийство.
Бытовое убийство, размышляла она, чувствуя, как у нее дернулся руль, — это когда женщину убивает дома ревнивый муж после того, как та сообщила, что хочет с ним развестись.
По крайней мере, чаще всего.
Однако времена меняются, и то, чему ее когда-то учили в Полицейской академии, стало теперь не только неактуальным, но и ошибочным. Рабочие методы подверглись реформированию, и работа полицейских сегодня во многих отношениях сложнее, чем была двадцать лет назад.
Жанетт помнила свои первые годы службы в патруле и тесное взаимодействие с обычными людьми. Как общественность помогала им и вообще доверяла полиции. Сейчас, думала она, о квартирных кражах заявляют только потому, что этого требует страховая компания. Не потому, что люди надеются на раскрытие преступления.
Чего она ожидала, когда бросила учебу на социального работника и решила стать полицейским? Что сумеет что-то изменить? Помочь? Во всяком случае, именно это она заявила отцу в тот день, когда с гордостью продемонстрировала документ о приеме в академию. Да, так и было. Ей хотелось оказываться между попавшим в беду и виновником беды.
Хотелось быть настоящим человеком.
А служба в полиции это подразумевала.
Все детство она, затаив дыхание, слушала, как отец с дедом обсуждали полицейские дела. В любые праздники разговоры за столом все равно, так или иначе, касались жестоких грабителей банков, симпатичных воришек и хитроумных обманщиков. Анекдотов и воспоминаний о темной стороне жизни.
Так же как запах запеченного рождественского окорока создавал атмосферу надежды, тихое журчание мужских голосов на заднем плане вызывало ощущение надежности.
Она улыбнулась, вспомнив равнодушие и скепсис дедушки по отношению к новым техническим вспомогательным средствам. Металлические наручники, видите ли, для упрощения работы заменили текстильными. Однажды он сказал, что анализ ДНК — всего лишь дань моде и долго не продержится.Профессия полицейского — это умение видеть разницу, а не упрощать, думала она. Работу необходимо корректировать в соответствии с меняющимися общественными условиями.
Полицейский должен хотеть помочь, проявлять заинтересованность. Не просто сидеть за тонированными стеклами в бронированной патрульной машине и беспомощно таращиться по сторонам.
Турильдсплан
Иво Андрич специализировался именно на таких редких и экстремальных смертных случаях. Он был родом из Боснии, в течение почти четырехлетней сербской блокады работал врачом в Сараево и в результате так насмотрелся на мертвых детей, что временами сожалел о том, что стал судмедэкспертом.
В Сараево было убито почти две тысячи детей в возрасте до четырнадцати лет, в том числе две дочери Иво. Он нередко задумывался о том, как выглядела бы его жизнь, останься он в деревне под Прозором. Однако теперь рассуждать на эту тему уже не имело смысла. Сербы сожгли их дом и убили его родителей и троих братьев.
Полицейское управление Стокгольма вызвало его рано утром, и поскольку держать район вокруг станции метро оцепленным дольше необходимого не хотели, ему следовало закончить работу как можно быстрее.Наклонившись поближе, он стал рассматривать мертвого мальчика и отметил, что внешность у того не шведская — арабская, палестинская или, возможно, индусская или пакистанская.
В том, что парень подвергся жестокому избиению, сомневаться не приходилось, однако удивляло полное отсутствие характерных травм, получаемых обычно при самообороне. Все синяки и кровоизлияния наводили на мысль о боксере. О боксере, который, будучи не в состоянии защищаться, все же провел двенадцать раундов, и его исколотили так, что под конец он потерял сознание.
Обследование места преступления много не дало, поскольку смерть наступила относительно давно и не здесь. Тело довольно хорошо просматривалось в кустах, всего в нескольких метрах от спуска в метро на площади Турильдсплан и поэтому не могло долго оставаться незамеченным.
1 Гамла Эншеде — пригородный район к югу от Стокгольма.
Паринуш Сание. Книга судьбы
- Паринуш Сание. Книга судьбы / Пер. английского изд. Л. Сумм. — М.: АСТ: Corpus, 2014. — 560 с.
В романе, который был дважды запрещен в Иране, но тем не менее стал мировым бестселлером, рассказывается о пяти десятилетиях жизни женщины, чьих родных и близких преследовали, сажали за решетку, освобождали, отправляли на казнь или объявляли героями. Можно терпеть голод и лишения, продолжать работать и воспитывать детей. Труднее всего пережить предательство большинства, послушно идущего за лидером.
Миновали новогодние праздники, а я все еще сидела дома.
Робкие намеки насчет курсов шитья не увенчались успехом. Ахмад и Махмуд не собирались выпускать меня из дома
ни под каким предлогом, а отец не вмешивался. Для него
я словно умерла.Скука одолела меня. Переделав дела по дому, я поднималась наверх, в гостиную, и подолгу смотрела на тот участок
дороги, который был виден из окна. Вот и вся связь с внешним миром. Даже это приходилось держать в тайне: прознают братья, замуруют мое окно. А я надеялась когда-нибудь
углядеть в эту щель Парванэ или Саида.К тому времени я уже поняла, что выйти из отчего дома
смогу лишь чьей-то женой. То было единственное решение
проблемы, все члены семьи на том согласились. Мне каждый камень в этом доме сделался ненавистен, но я не могла
предать милого моего Саида — и зачем? Чтобы одну тюрьму
сменить на другую? Я готова была ждать его до конца моей
жизни, и пусть меня за это хоть на плаху тащат!Появились первые сваты. Предупредили: к нам придут с визитом мужчина и три женщины. Мать хлопотала, мыла все в доме, расставляла по местам. Махмуд приобрел гарнитур — диваны в красной обивке. Ахмад принес фрукты и сладости.
Удивительно, как они все спелись. Цеплялись за соломинку:
только бы не упустить жениха. За соломинку, за мусор, плывущий по реке — увидев потенциального жениха, я могла сравнить его только с унесенным водой мусором. Плотного сложения, на макушке уже облысевший, хотя ему еще не было
тридцати, и он громко причмокивал, поедая фрукты. Он
торговал на базаре, там же, где и Махмуд. Мне повезло: жених и его три родственницы высматривали жену пухленькую,
в теле, и я им не приглянулась. В ту ночь я уснула спокойная
и счастливая. Наутро мать пересказала это приключение госпоже Парвин со всеми подробностями и многими приукрашиваниями. Когда она стала жаловаться на постигшее семью горькое разочарование, я чуть было не расхохоталась.— Вот обида! — приговаривала она. — Не везет бедной девочке. А ведь жених не только богат, он из хорошей семьи. И молод, и женат не был.
(Забавно: он был почти вдвое старше меня, а матушка
считала его юнцом — с таким-то брюхом и лысиной!)— Конечно, между нами говоря, госпожа Парвин, его тоже
можно понять. Девица у нас чересчур тоща. Его мать сказала
мне: «Ханум, обратитесь к врачу». И мне кажется, негодяйка
что-то с собой сделала, чтобы выглядеть совсем уж больной.— Послушать вас, дорогая, можно подумать, будто речь идет
о парне лет двадцати, — засмеялась госпожа Парвин. — Я видела их, когда они выходили. Даже к лучшему, что девушка им
не приглянулась. Масумэ слишком хороша, чтобы отдать ее
пузатому коротышке.— Что тут скажешь? Раньше мы возлагали на девочку большие надежды. Не только я, что я — отец ее говорил: «Масумэ выйдет замуж не за простого человека». Но после такого
скандала кто ж посватается? Придется ей либо выйти за человека ниже ее по положению, либо стать второй женой.— Глупости! Погодите, пока все успокоится. Люди скоро забудут.
— Кто забудет? Прежде чем свататься, люди все проверяют,
всех расспрашивают. Приличному человеку мать и сестры
не разрешат жениться на моей злосчастной дочери. Вся
округа знает, что она натворила.— Погодите, — повторила госпожа Парвин. — Они забудут.
К чему так спешить?— Ее братья настаивают. Говорят, им не будет покоя, пока она
остается в доме. Они не могут людям в глаза смотреть. Люди…
люди и через сто лет ничего не забудут. И Махмуд хотел жениться, а теперь не может привести в дом жену, пока эта девчонка здесь. Он говорит, что не доверяет ей, она и молодую жену с пути собьет.— Чепуха! — отмахнулась госпожа Парвин. — Бедняжка невинна, как малое дитя. И ничего такого уж страшного не произошло. Юноши всегда будут влюбляться в красивых девочек — и что, сжечь ее на костре, если кто-то на нее поглядел? Разве это ее вина?
— О да, да, я же знаю мою дочку! Пусть она порой недостаточно усердна в посте и молитве, но ее сердце предано Аллаху. Только позавчера она сказала, что мечтает отправиться
в Кум, в паломничество к гробнице имама Абдул-Азима. Пока
мы жили дома, она, бывало, каждую неделю сходит помолиться к гробнице благословенной Масумэ. Не поверите, как
она горячо молилась! Во всем виновата та скверная девчонка,
Парванэ. Чтобы моя дочь по своей воле впуталась в такую историю? Никогда!— Не надо торопиться. Быть может, юноша вернется и женится на ней и все уладится. Он ведь неплохой мальчик, детки приглянулись друг другу. Все о нем очень хорошо отзываются. А скоро он станет врачом.
— О чем вы толкуете, госпожа Парвин? — возмутилась мать. —
Ее братья говорят, что раньше отдадут ее ангелу смерти Азраилю, чем тому негодяю. И что-то он не спешит постучаться
к нам в дом. Что Аллаху угодно, то и будет. Судьба каждого
написана у него на лбу от рождения, и каждый получит то,
что назначено ему в удел.— Значит, и не надо торопиться. Пусть сбудется, что суждено.
— Но ее братья говорят, что пятно позора не будет смыто,
пока мы не выдадим ее замуж и не избавимся от нее. Сколько
еще нам держать ее взаперти? Они опасаются, что отец пожалеет ее и смягчится.— И стоило бы пожалеть бедняжку. Она так красива. Дайте
ей время оправиться и увидите, какие объявятся женихи.— Аллахом клянусь, я каждый день готовлю ей рис с курятиной. Суп из ноги ягненка, кашу пшеничную с мясом. Я посылаю Али купить овечью голову и ножки, готовлю холодец ей
на завтрак. Все стараюсь, чтобы она прибавила в теле, не казалось больной и приглянусь порядочному человеку.Мне припомнилась сказка, прочитанная в детстве. Чудовище похитило ребенка, но девочка была такой тощей, что
чудовище не стало ее сразу есть, а заперло и приносило ей
угощение, чтобы девочка поскорее разжирела и превратилась в лакомое блюдо. Вот так и мое семейство решило меня
откормить и бросить чудовищу в пасть.Меня выставили на продажу. Теперь главным событием в нашем доме стал прием гостей, явившихся с серьезными намерениями. Братья и мать пустили слух о том, что подыскивают мне супруга, и повалил всякий люд. Некоторые женихи
оказались столь никудышными, что даже Махмуд и Ахмад
их отвергли. Каждую ночь я молилась о возвращении Саида
и по меньшей мере раз в неделю просила госпожу Парвин
сходить в аптеку и узнать, нет ли новостей. Доктор сказал, что
Саид написал ему всего один раз, а письмо, которое доктор
послал в ответ Саиду, вернулось нераспечатанным — должно
быть, адрес был неверный. Саид растаял, как снег, и впитан
землей. По ночам я порой выходила в гостиную помолиться
и поговорить с Богом, а потом вставала у окна и следила, как
тени движутся по улице. Несколько раз я замечала знакомую
мне тень под аркой дома напротив, но стоило мне открыть
окно, тень исчезала.Одна только мечта манила меня в постель по ночам,
убаюкивала, помогала забыть страдание и боль этих одно-
образных дней: мечта о жизни с Саидом. Я представляла
себе маленький, уютный дом, убранство каждой комнаты.
Я обустраивала свой маленький рай. Я придумала нам детей — красивых, здоровых, счастливых. То была мечта о вечной любви и нерушимом блаженстве. Саид был образцовым
мужем: мягкий, с кроткими манерами, добрый, разумный,
внимательный. Мы никогда не ссорились, он в жизни меня
не унизил. О, как я его любила! Любила ли хоть одна женщина своего мужа так, как я любила Саида? Если б мы могли жить в мечтах!В начале июня, едва завершились выпускные экзамены, семья Парванэ переехала. Я знала, что они подумывают о переезде, но не думала, что это произойдет так скоро. Потом
я узнала, что они хотели уехать даже раньше, но решили дождаться, пока Парванэ закончит школу. Ее отец давно уже
говорил, что наш район испортился. Он был прав. В нашем
районе было хорошо только таким, как мои братья.Жаркое утро. Я подметала комнату и еще не отодвинула ставни, как вдруг услышала голос Парванэ. Я выбежала
во двор. Фаати открыла дверь. Парванэ пришла попрощаться. Мать добралась до двери первой и придержала ее, не дав
Парванэ войти. Она вырвала у Фаати конверт, который той
дала Парванэ, и велела:— Уходи! Уходи немедленно, пока мои сыновья не увидели
тебя и не задали ей взбучку. И ничего больше не приноси.Я услышала сдавленный голос Парванэ:
— Госпожа, я всего лишь написала несколько слов на прощание и свой новый адрес. Проверьте сами.
— В этом нет нужды! — отрезала мать
Я обеими руками ухватилась за дверь и попыталась ее открыть. Но мать держала дверь крепко, а меня пинком оттолкнула прочь.
— Парванэ! — закричала я. — Парванэ!
— Ради Аллаха, не наказывайте ее так жестоко! — взмолилась
Парванэ. — Клянусь, она не сделала ничего дурного.Мать захлопнула дверь. Я сел на пол и заплакала. Прощай, моя подруга, моя защитница и наперсница.
Последним соискателем моей руки выступил приятель Ахмада. Я часто гадала, как братья выискивали этих мужчин.
Неужели Ахмад прямо так и сказал другу: у меня, дескать,
имеется сестра на выданье? Они меня рекламировали?
Что-то сулили? Препирались из-за меня, как торговцы на базаре? Уверена, как бы они ни взялись за дело, все это было крайне для меня унизительно.Асгар-ага, мясник, брат-близнец Ахмада — и возрастом, и грубыми ухватками, и обликом. И вдобавок необразованный.
— Мужчина должен зарабатывать деньги силой своих рук, —
рассуждал он, — а не скорчившись в уголке над бумагами, как
полуживой писец, который ничего тяжелее ручки не поднимет.— У него есть деньги, и он сумеет справиться с девчонкой, — настаивал Ахмад.
А что до моей худобы, Асгар-ага сказал:
— Не беда, я принесу ей столько мяса и жира, что через месяц она с бочку толщиной сделается. Глазенки-то у нее бойкие.
Мать его, старая, страшная женщина, безостановочно ела и вторила каждому слову сына. Да и все одобряли речи Асгара-аги. Мать так и сияла: молодой, неженатый. Ахмад
дружил с ним и во всем поддерживал, тем более что после
драки в кафе «Джамшид» Асгар-ага поручился за него и Ахмада не арестовали. Отец — и тот согласился, потому что мясная
лавка приносила хороший доход. А Махмуд сказал:— Он торговый человек, это нас устраивает, и он сумеет справиться с девчонкой, не позволит ей разболтаться. Чем скорее мы это устроим, тем лучше.
Никому и дела не было до моих мыслей, и я не пыталась
даже заговорить о том, как противна мне мысль стать женой
грязного, невежественного, грубого парня, от которого даже
в тот день, когда он пришел свататься, воняло сырым мясом и бараньим жиром.На следующее утро госпожа Парвин в панике прибежала к нам.
— Говорят, вы решили выдать Масумэ за мясника Асгара-агу.
Ради Аллаха, и не вздумайте! Этот юнец — хулиган. Он не расстается с ножом. Пьяница, бабник. Я его знаю. По крайней мере расспросите людей, что он за человек.— Не шумите так, госпожа Парвин, — остановила ее мать. —
Уж наверное Ахмад лучше его знает. И он все нам рассказал
о себе. Ахмад верно говорит: мало ли что молодой человек
творил до женитьбы, все это он отставит, как только обзаведется женой и детишками. Он поклялся могилой отца
и даже прозакладывал свои усы, что после женитьбы ничего подобного себе не позволит. Да и где нам сыскать лучше?
Он молод, Масумэ станет первой женой, он богат, у него
две мясные лавки, и характер у него твердый. Чего еще желать?Госпожа Парвин поглядела на меня с такой жалостью,
с таким сочувствием, словно видела перед собой приговоренную к казни. На следующий день она сказала мне:— Я просила Ахмада не настаивать, но он знать ничего не хочет. — Так впервые она призналась вслух в тайной связи с моим братом. — Он сказал мне: «Держать ее дома небезопасно». Но ты-то почему ничего не пытаешься сделать? Разве ты
не понимаешь, что за несчастье тебя ждет? Или ты согласна
выйти замуж за этого грубияна?— Велика ли разница? — равнодушно возразила я. — Пусть делают, что хотят. Пусть готовят свадьбу. Они же не знают, что
любой мужчина, кроме Саида, получит лишь мой труп.— Помилуй нас Аллах! — выдохнула госпожа Парвин. —
Не вздумай такое повторять! Это грех. Выкинь подобные
мысли из головы. Ни один мужчина не заменит тебе твоего
Саида, но не все мужчины так плохи, как этот нескладеха. Подожди — скоро, быть может, явится жених получше.Я пожала плечами и сказала:
— Мне все равно.
Она ушла, все такая же встревоженная. По пути она заглянула в кухню и что-то сказала матушке. Мать обеими руками
ударила себя по лицу, и с того момента я все время находилась
под охраной. Они убрали подальше пузырьки с лекарствами, не позволяли мне притронуться ни к бритве, ни к ножу,
а стоило мне подняться наверх, один из братьев уже спешил
следом. Меня это смешило. Они в самом деле думали, что мне
ума хватит выброситься из окна второго этажа? Нет, у меня
имелся план понадежнее.Разговоры о помолвке и самой свадьбе на время поутихли: ждали сестру жениха. Она была замужем, жила в Керманшахе и в ближайшие десять дней не могла приехать в Тегеран.
— Я не могу действовать без согласия и одобрения сестры, —
сказал Асгар-ага. — Я обязан ей не меньше, чем матери.В одиннадцать утра я услышала со двора стук в парадную
дверь. Мне открывать не разрешалось, и я стала звать Фаати.Матушка крикнула мне из кухни:
— На этот раз можно. Открой дверь и посмотри, кому это так
не терпится.Только я приоткрыла дверь, как в наш двор влетела госпожа Парвин.
— Девочка моя, какая же ты счастливица! — прокричала
она. — Не поверишь, какого я нашла тебе жениха! Само совершенство — как луна, как букет цветов…Я стояла и глядела на нее, разинув рот. Матушка вышла из кухни и спросила:
— В чем дело, госпожа Парвин?
— Дорогая моя! — отвечала соседка. — У меня для вас замечательные новости. Я нашла жениха нашей Масумэ. Из достойной семьи, образованный. Клянусь, один волос с его головы стоит больше, чем сотня таких грубиянов, как тот мясник.
Позвать их к вам завтра под вечер?— Погодите! — сказала матушка. — Не так быстро. Что это
за люди? Откуда они?— Замечательная, выдающаяся семья. Я знаю их вот уже десять лет. Сколько платьев я им сшила, и для матери, и для дочерей. Старшая дочь, Монир, замужем, ее муж владеет имением в Тебризе, и она живет там. Мансуре, вторая дочь, училась
в университете. Два года назад она вышла замуж и теперь растит здорового, красивого мальчишку. Младшая сестра еще
не закончила школу. Все люди верующие. Отец на пенсии. Он
хозяин такого заведения — фабрики или как это называется, —
где печатают книги. Как это правильно назвать?— А сам жених?
— О, я вам еще не рассказала о женихе. Прекрасный молодой
человек. Учился в университете. Не знаю, какие науки он изучал, но теперь он работает в этом заведении, которое принадлежит его отцу. Где печатают книги. Ему примерно тридцать лет, он красавчик. Когда я ходила подгонять им одежду,
я успела глянуть: храни его Аллах, хорошего роста, черноглазый, брови темные, кожа оливковая…— А где же они видели Масумэ? — поинтересовалась матушка.
— Они ее не видели. Я им про нее рассказала: какая замечательная у нас девушка, и красивая, и хозяйственная. Мать хочет поскорее женить сына, она меня уже как-то спрашивала,
нет ли у меня на примете подходящих невест. Так я им скажу,
чтобы приходили к вечеру?— Нет! Мы дали слово Асгару-аге. На следующей неделе его
сестра приедет из Керманшаха.— Полно! — воскликнула госпожа Парвин. — Вы еще ничего
им не пообещали. У вас даже не было церемонии помолвки.
Невеста вправе передумать и посреди брачной церемонии.— А как же Ахмад? Страшно себе представить, какой шум он поднимет — и по праву. Он будет обижен. Ведь он дал слово Асгаруаге, не может же он вот так запросто взять свое слово обратно.
— Не беспокойтесь, Ахмада я беру на себя.
— Стыдитесь! — укорила ее матушка. — Что это вы такое говорите? Да простит вас Аллах!
— Вы меня неверно поняли. Ахмад дружит с Хаджи и прислушивается к его советам. Я попрошу Хаджи поговорить с ним. Подумайте о своей невинной дочери, об этой бедняжке! Мясник любит пускать в ход кулаки. Напьется — и вовсе ума
лишится. У него и сейчас имеется женщина на содержании.
Думаете, она так просто от него откажется? Да ни за что!— Какая женщина? — переспросила озадаченная матушка. — Вы сказали — женщина живет?
— Неважно, — отмахнулась госпожа Парвин. — Я имею в виду: у него есть другая.
— Тогда зачем ему моя дочь?
— Как официальная жена, чтобы рожала ему детей. Та, другая, бесплодна.
— Откуда вы все знаете?
— Хозяюшка, я знаю таких, как он.
— Откуда? Как вы можете говорить подобные вещи? Постыдились бы!
— А вы сразу думаете плохое. Мой родной брат был в точности таким. Я росла с ним. Ради Аллаха, бедная девочка попадет из огня в полымя. Вот вы на семью моего жениха посмотрите — совсем других людей увидите.
— Сначала нужно поговорить с ее отцом. Посмотрим, что он
скажет. И если у них такая замечательная семья, почему они
не ищут невесту среди своих?— По чести сказать, не знаю. Наверное, такое Масумэ счастье. Аллах позаботился о ней.
С удивлением и недоверием я слушала восторженные
речи соседки. Трудно мне было понять эту женщину: ее поступки как будто противоречили друг другу. И с какой стати
она так хлопочет о моей судьбе? Уж не свою ли какую игру ведет?Отец с матушкой проспорили чуть ли не весь день. Махмуд какое-то время тоже твердил свое, а потом махнул рукой:
— Наплевать! Поступайте, как знаете, только избавьтесь от нее
поскорее. Выдайте ее замуж, и пусть наступит наконец покой.Еще удивительнее повел себя Ахмад. В ту ночь он пришел домой поздно, а когда проснулся и матушка подступилась
к нему с вопросом о новом женихе, он и спорить не стал. Пожал плечами и сказал:— Почем мне знать? Делайте, что хотите.
Надо же, как госпожа Парвин умела его уговорить!
Себастьян Фолкс. И пели птицы…
- Себастьян Фолкс. И пели птицы… / Пер. с англ. С. Ильина. — М.: Синдбад, 2014. — 600 с.
«И пели птицы…» — наиболее известный роман Себастьяна
Фолкса, ставший с момента выхода в 1993 году классикой современной английской литературы.
Действие разворачивается на Западном фронте Первой мировой войны. Молодой английский офицер Стивен Рэйсфорд направлен в окопы Сомма. Именно там перед лицом смерти он восстанавливает в памяти обстоятельства своей довоенной любовной связи. Отчаянно пытаясь сохранить рассудок и волю к жизни в кровавом месиве вселенского масштаба, герой записывает свои чувства и мысли в дневнике, который спустя десятилетия попадает в руки его внучки
Элизабет. Круг замыкается — прошлое встречается с настоящим.Стивен вынул из своих часов стекло, чтобы определять в темноте время на ощупь. Когда он снова услышал звуки, говорившие, что где-то неподалеку пробивают проход, было без десяти четыре, но дня или ночи, он не знал. По его оценкам, они с Джеком провели под землей суток пять, если не шесть.
Он снова подтянул Джека к тоненькой струйке воздуха, чтобы тот мог подышать в свой черед. И лежал, потрагивая часы пальцами, отсчитывая полчаса, которые ему надлежало провести в удушающем углу их склепа. Лежал, не шевелясь, чтобы не увеличивать потребность тела в кислороде.
Волны страха продолжали прокатываться по нему. Стивен говорил себе, что, поскольку худшее уже случилось и он погребен заживо, так что и повернуться не может, бояться ему больше нечего. Страх порождается ожиданием, а не действительностью. И все же паника не покидала его. Время от времени ему приходилось напрягать все мышцы, чтобы не сорваться на крик. И еще ему очень хотелось зажечь спичку. Если он всего лишь увидит размеры своей тюрьмы, это уже будет что-то.
Потом наступали минуты, когда жизнь в нем ослабевала. Воображение, все чувства словно выключались, как гаснущие одно за другим окна большого дома. И в конце концов оставалась лишь тусклая муть, озаренная остаточным свечением меркнущей воли.
Все долгие часы, что он лежал здесь, разум его не переставал негодовать. Он сражался с этим негодованием, но оружием его была горькая обида. Сила ее прибывала и убывала, пока тело Стивена слабело от усталости и жажды, однако горечь его гнева означала, что какой-то свет, пусть и тусклый, еще горит в нем.
Когда полчаса истекли, он подполз и лег бок о бок с Джеком.
— Ты еще со мной, Джек?
Раздался стон, затем голос Джека пробился сквозь пласты беспамятства и обрел отчетливость, которой не было в нем уже несколько дней.— Хорошо, я носки прихватил, хоть есть на что голову положить. Мне каждую неделю из дому новые присылали.
Стивен, приподнимая Джека, нащупал под его щекой слой вязаной шерсти.
— А я никогда посылок не получал, — сказал он.
Джек засмеялся.
— Ну ты шутник, ничего не скажешь. Ни одной посылки за три года? Мы по две в неделю получали, самое малое. Каждый. А уж письма…
— Тихо. Ты слышишь? Это спасатели. Слышишь, они долбят землю. Прислушайся.
Стивен повернул Джека так, чтобы ухо его оказалось поближе к меловой глыбе, и сказал:
— Они на подходе.
По звучанию эха он догадывался, что они еще далеко, но стремился уверить Джека, что до них рукой подать.
— Думаю, теперь уж с минуты на минуту. И мы выберемся отсюда.
— Так ты все время в армейских носках ходил? Вот ведь бедолага. Да самый нищий рядовой нашей части…
— Слушай. Нас освободят. Мы выберемся.
Но Джек продолжал смеяться:
— Да не хочу я этого. Не хочу…
Смех перешел в кашель, а затем в спазм, от которого грудь Джека, лежавшего на руках Стивена, вздыбилась. Сухой дребезжащий звук наполнил тесную пещерку, затем прервался. Джек в последний раз протяжно выпустил из легких воздух, и тело его обмякло, — конец, которого он так желал, наступил.
Краткий миг Стивен продержал, из уважения к товарищу, тело на руках, потом передвинул его в душный конец ямы, приложил губы к щели, в которую просачивался воздух и вдохнул его полной грудью.
А после этого ногами отодвинул труп еще дальше. Горестное одиночество обрушилось на него.
С ним остались лишь звуки ударов, которые, сейчас он уже не мог отрицать этого, были безнадежно далекими, да тяжкая толща земли. Он достал из кармана спички. Теперь никто не мог остановить его, жаждущего света. И все-таки спичкой он не чиркнул.
Он выругал Джека за неверие в возможность спасения. Но гнев его угас, а разум сосредоточился на ритмичном стуке кирок по мелу. Эти непрестанные звуки походили на биения его сердца. Он снова извлек из кармана нож и стал изо всех оставшихся сил колотить по стене рядом со своей головой.
Промахав кирками четыре часа, Леви и Ламм далеко не продвинулись. Леви позвал Крогера, чтобы тот сменил Ламма.
Ожидая его, Леви присел отдохнуть. Поиски спутников брата стали для него вопросом чести. Иосиф не одобрил бы человека, который позволяет личному горю сбить его с правильного пути. Да речь шла и не столько о его, Леви, чести, сколько о чести брата. То, что он делает, сможет вернуть растерзанному телу Иосифа хоть какое-то достоинство.
Сквозь хрип своего дыхания он вдруг расслышал постукивание. Может быть, крыса? — первым делом подумал он, однако звук был слишком ритмичным и доносился слишком издалека. В нем присутствовало нечто, не оставлявшее сомнений: он проходит немалое расстояние, и только человеку может хватить сил создать такой звук.
Крогер спрыгнул с конца веревки, Леви подозвал его к себе. Крогер вслушался.
И кивнул:
— Там точно кто-то есть. Чуть ниже нас, я думаю, в туннеле, примерно параллельном нашему. Не кирка и не лопата, звук слишком слабый. По-моему, кого-то там завалило.
Леви улыбнулся:
— Говорил я вам, надо продолжать.
Однако у Крогера имелись опасения:
— Вопрос в том, как мы туда пробьемся. Между нами толща мела.
— Для начала взорвем ее. Еще один направленный взрыв. Я поднимусь, пришлю сюда Ламма. Он сумеет заложить заряд.
Лицо Леви светилось решимостью и энтузиазмом. Крогер сказал:
— А если стучит не кто-то из наших, а один из застрявших в туннеле врагов?
Глаза Леви округлились.
— Я не могу поверить, что человек способен протянуть там столько времени. А если протянул, тогда… — он развел руки в стороны и пожал плечами.
— Тогда что? — отрывисто спросил Крогер.
— Тогда мы увидим убийцу моего брата и двух его товарищей.
Крогер помрачнел.
— Око за око… Надеюсь, вы думаете не о мести.
Улыбка покинула лицо Леви.
— Я вообще ни о чем определенном не думаю. Я руководствуюсь верой — во всех случаях жизни. Поэтому встречи с ним я не боюсь, если вы это имеете в виду. Я буду точно знать, что мне делать.
— Возьмем его в плен, — сказал Крогер.
— Отставить разговоры, — оборвал его Леви. Он подошел к свисавшей в яму веревке, окликнул Ламма и попросил вытянуть его наверх.
Ламм, почти уж заснувший, услышав от Леви, что он должен сделать, не сказал ни слова. Просто приготовил заряд, уложил его в вещмешок и спустился вниз.
Плотная смесь земли и мела сопротивлялась их усилиям. У них ушло пять часов на то, чтобы пробить в ней удовлетворившую Ламма выемку для заряда. Леви менялся с ним местами, помогая Крогеру. Они набивали мешки землей и плотно укладывали их, закрывая нишу с взрывчаткой.
Крогер прервал работу, чтобы выпить воды и перекусить мясом с галетами. Леви от еды отказался.
Голова его начинала кружиться от горя и усталости, однако он твердо решил блюсти пост. И неистово работал, наполняя мешки, не обращая внимания на евший глаза пот и дрожь в пальцах.
Он не знал, кого или что найдет за этой стеной, им правило неодолимое желание довести дело до конца. Любопытство его было странным образом связано с чувством утраты. Смерть Иосифа можно будет объяснить и искупить, только отыскав еще остававшегося в живых человека и встретившись с ним лицом к лицу.
Они проложили провода и отошли в безопасное место, к началу уходившего к поверхности длинного наклонного хода. Здесь уже слышен был гром тяжелых орудий, но теперь к нему добавилась стрельба из минометов и пулеметов. Наступление началось. Ламм нажал на ручку взрывного устройства, и земля содрогнулась у них под ногами. Грохот, дуновение горячего воздуха стихли, а затем повторились снова. На миг все трое подумали, что сейчас из туннеля выкатится огненный шар, набитый землей и мелом. Но грохот смолк и во второй раз, наступила тишина.
Они торопливо направились к низкому, обитому досками входу, заползли в него и, спотыкаясь, побежали к яме, соединявшей верхний туннель с нижним. Облако меловой пыли, от которой они раскашлялись, заставило их отступить и подождать с минуту, пока она не осядет.
Леви велел Крогеру остаться наверху, а сам спустился с Ламмом вниз. Ему требовалось, чтобы Ламм оценил результаты взрыва, к тому же он сильно сомневался в том, что Крогера интересует исход их поисков.
Вдвоем они протиснулись сквозь проделанный взрывом лаз, попутно расчищая и расширяя его, и попали прямиком на главный британский пост прослушивания. Осмотрели не без насмешливого интереса дощатую обшивку стен.
— Слушайте! — Леви схватил Ламма за руку.
Теперь неистовый стук раздавался где-то поблизости.
Леви разволновался настолько, что даже подпрыгнул — и ударился головой о потолок камеры.
— Вот мы и на месте, — сказал он. — Все-таки пробились!
Они взорвали преграду, отделявшую их от цели. Осталось только разрыть землю и протянуть к этой цели руки. Стивен вынул из своих часов стекло, чтобы определять в темноте время наощупь. Когда он снова услышал звуки, говорившие, что где-то неподалеку пробивают проход, было без десяти четыре, но дня или ночи, он не знал. По его оценкам, они с Джеком провели под землей суток пять, если не шесть.
Жан Эшноз. 14-й
- Жан Эшноз. 14-й / Пер. с фр. Н. Мавлевич. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014. — 128 с.
«14-й» Жана Эшноза, по признанию французской критики, вошел в список самых заметных
романов 2012 года. Картины войны, созданные на документальном материале дневниковых записей, под пером писателя-минималиста
приобретают эмблематические черты.
Для русских читателей его публикация —
возможность прикоснуться к теме, которая, в
силу исторических причин, не особенно хорошо развита в отечественной литературе.7 В час дня на обычной в конце лета для департамента Марна небесной синеве появляется еле заметная мошка.
Давайте устремимся мысленно навстречу жужжащей точке: по мере приближения
она становится все больше, пока не превратится в самолетик — двухместный биплан «Фарман 37»* c пилотом и наблюдателем, сидящими друг за другом в жестких
креслах и едва-едва прикрытыми стеклянным козырьком. В то время еще не существовало закрытых кабин, и ветер нещадно хлестал в лицо авиаторам; они словно
находились на крошечной смотровой площадке, с которой открывался вид на то, как
сближаются войска враждующих сторон:
вот колонны грузовиков и пехотинцев, артиллерия, обозы, стоянки и лагеря.Под крыльями самолета, на земле, где
все это ползет и рокочет, где шагают, обливаясь потом, солдаты, — жуткая жара,
один из последних августовских рецидивов, перед тем как лето резко повернет к
осени. Но наверху, в небе, куда холоднее,
поэтому на авиаторах особый костюм.Помимо шлема и больших защитных
очков, на них надеты черные прорезиненные комбинезоны с подкладкой из кроли-
чьего или козьего меха, кожаные куртки
и штаны, утепленные перчатки и сапоги, —
в таком наряде летчики похожи друг на
друга, тем более что неприкрытыми только и остаются щеки, подбородок да губы,
которыми они шевелят, пытаясь что-то сказать, но лишь мычат — ни внятно выговорить, ни расслышать что-либо не получается, слова заглушает рев мотора и рвет в
клочья тугая воздушная струя. Ни дать ни
взять пара оловянных солдатиков, отлитых в одной форме, с едва заметным швом
по бокам, и только коричневый шарф на
шее наблюдателя по имени Шарль Сез отличает его от пилота Альфреда Ноблеса.Они почти не вооружены, шестидесяти килограммов бомб, которые биплан
способен унести, нет на борту, а пулемет —
одна видимость. Он хоть и укреплен на
фюзеляже, но от него мало толку: целиться
и перезаряжать его на ходу довольно трудно, да и система синхронизации стрельбы
с вращением винта не отлажена.Впрочем, задача летчиков — всего лишь
воздушная разведка, и хоть дело это совсем
новое и оба еле-еле обучены, но они не боятся. Ноблес управляет машиной, поглядывая на компас и приборы, которые указывают высоту, скорость и угол крена; у Шарля
Сеза на коленях штабная карта, на шее бинокль и тяжелый аппарат для аэрофотосъемки, их ремешки перепутались с шарфом. Они осматривают местность, наблюдают — и всё.Истребители, бомбардировщики, запретные для полетов противника зоны,
бои с дирижаблями, плен — ничего этого
еще нет, но появится очень скоро, и вот
тогда все станет неизмеримо серьезнее.
Пока же их дело смотреть: фотографировать и отмечать на карте передвижения
войск, цели для артиллерии, расположение
окопов, аэродромов и ангаров с цеппелинами, а также складов, гаражей, командных
пунктов, мест скопления живой силы.Вот они и летят, глядя в оба, но вдруг
далеко позади и слева от «фармана» возникает еще одна еле заметная мошка, Ноблес
и Сез ее не замечают, меж тем она все увеличивается и вырисовывается яснее. Это
обтянутая парусиной деревянная конструкция, украшенная черными крестами на
крыльях, хвосте и тележке шасси, с дюралюминиевым фюзеляжем — двухместный
«авиатик», и траектория его полета относительно «фармана» не оставляет никаких
сомнений в том, каковы его намерения.
Когда «авиатик» приблизился, Шарль Сез
разглядел торчащий из кабины и прямо на
него направленный карабин, о чем он тут
же сообщил Ноблесу.Шли первые недели войны, в ту пору
самолеты были только новомодным видом
транспорта, в военных целях их никто еще
не применял. Да, на «фармане» был установлен пулемет «гочкисс», но пока только
в экспериментальных целях и без патронов, то есть непригодный для боя, поскольку официально использование подобного
оружия в авиации тогда еще не разрешалось — не столько из-за перегрузки, сколько из опасения, что враги перехватят идею
и тоже снабдят им свои самолеты. Пока же
этот запрет не был снят, пилоты, из предосторожности и не ставя в известность
начальство, брали с собой карабины или
пистолеты. Поэтому, едва лишь экипаж
увидел ствол, Ноблес накренил аппарат и
ушел в сторону, а Шарль выхватил из кармана комбинезона пистолет «саваж», специально для стрельбы в воздухе обмотанный сеткой, не позволяющей гильзам попасть в лопасти винта.Несколько минут «авиатик» и «фарман» летели то выше, то ниже, расходились, снова сходились почти вплотную, не
упуская друг друга из виду и проделывая
нечто похожее на то, что потом будет называться фигурами высшего пилотажа:
петля, бочка, штопор, иммельман, — каждый норовил перехитрить другого и найти
благоприятный для стрельбы угол атаки.
Шарль, вжавшись в сиденье, держал пистолет обеими руками, стараясь поточнее прицелиться, тогда как вражеский наблюдатель, наоборот, постоянно водил стволом
карабина. Вот Ноблес резко набрал высоту,
«авиатик» преследует его, проскальзывает
у него под брюхом и, сделав крутой вираж,
взмывает вверх прямо перед ним, в таком
положении Шарль не может стрелять, поскольку между ним и кабиной «авиатика»
оказывается его собственный пилот, Ноблес. В этот миг раздается ружейный выстрел, и пуля, пролетев двенадцать метров на
высоте семисот и со скоростью тысячи в
секунду, вонзается в левый глаз Ноблеса и
выходит под правым ухом; «фарман», потеряв управление, на секунду зависает и
начинает все сильнее крениться вниз, а
вскоре уже просто пикирует; Шарль, широко раскрыв глаза, смотрит поверх завалившегося набок тела Альфреда, как приближается земля, сейчас он врежется в нее и
разобьется — надежды нет, смерть неизбежна и неотвратима; сегодня там, на месте
крушения в регионе Шампань—Арденны,
раскинулась живописная деревушка Жоншери-сюр-Вель, жителей которой называют жоншавельжанами.8 Зарядили дожди, промокший ранец удвоил вес, свирепый ветер взвихрял воздушные валы, холодные и плотные настолько,
что они, казалось, вот-вот застынут ледяными столбами. В такой жестокой стуже
подошли к бельгийскому рубежу. Здесь
горел огромный костер — таможенники
развели его в первый день войны и с тех
пор постоянно поддерживали; вокруг него,
как можно ближе к огню, и расположились
на ночь солдаты, на голой земле, тесно прижавшись друг к другу. Как же завидовал
Антим этим таможенникам, их легкой, безопасной, как он думал, службе, их теплым
кожаным спальным мешкам. А еще больше стал завидовать потом, когда на третий
день пути они расслышали артиллерийскую канонаду, звук которой все нарастал:
протяжный низкий гул и временами ружейный треск — видимо, перестрелка между патрулями.Не успели солдаты привыкнуть к стрельбе, как оказались на переднем крае, в холмистой местности неподалеку от селения
Мессен. Теперь предстояло войти в это
пекло, и только тут они действительно поняли, что им придется драться, идти в бой.
Антим всерьез поверил в это лишь тогда,
когда рядом разорвался первый снаряд.
Поверив же, внезапно ощутил страшную
тяжесть всего, что он нес на себе: оружия,
ранца, даже перстня на мизинце — всё стало весить добрую тонну, и от этого не только не приглушалась, а, напротив, усиливалась боль в запястье.Скомандовали «вперед», и Антим, увлекаемый товарищами, очутился посреди
самого что ни на есть настоящего поля боя,
плохо соображая, что надо делать. Босси
был рядом, они переглянулись, Арсенель
позади поправлял ремень, Падиоло сморкался, и его лицо было белее полотняного
платка. Новый приказ — и они побежали,
все, кроме двух десятков человек, которые
остались на месте и встали в кружок, не
обращая ни малейшего внимания на взрывы. То были полковые музыканты, их дирижер застыл с воздетой белой палочкой
и опустил ее, выпуская на волю «Марсельезу»; оркестр был призван обеспечить
бравый аккомпанемент атаке. Противник
занял оборону в лесу и, прикрытый деревья ми, поначалу сдерживал атакующих,
но в бой вступила артиллерия, на врагов
посыпались снаряды, после чего наступление возобновилось. Бежали, неуклюже
пригнувшись, с тяжелой винтовкой на перевес и вспарывая ледяной воздух штыками.Как оказалось, рванули раньше времени да к тому же совершили ошибку: высыпали всей массой на пересекавшую поле боя
дорогу. Дорога эта — пустая полоса, отличная и хорошо пристрелянная цель для рас-
положенной за леском вражеской артиллерии. Несколько человек совсем рядом с
Антимом сразу упали, он увидел, как брызнули струи крови, но тут же постарался
выбросить из головы этот образ — вдруг
ему это только почудилось, тем более что
прежде он не часто видел кровь, во всяком
случае, не столько и не бьющую фонтаном.
Однако было не до размышлений, Антим
прикладывал все силы, чтобы заставить
себя выстрелить туда, где смутно различался некто, называемый врагом, а главное,
чтоб отыскать хоть какое-нибудь укрытие.
Дорога подвергалась методичному обстрелу, но кое-где ее обступали деревья, так
что можно было ненадолго нырнуть под
их защиту.Но только очень ненадолго: покорные
отрывистым командам, первые ряды пехоты сошли с дороги прямо в овсяное поле;
теперь солдатам грозило получить в спину,
помимо вражеских пуль, свои, оплошно
выпущенные товарищами по оружию; неразбериха воцарилась полная. В первых
боях еще недоставало опыта, это поздней,
во избежание таких ошибок и чтобы наблюдатели могли опознавать своих, придумают нашивать большой белый лоскут на
спину шинели.Оркестр выполнял свою миссию, баритонисту прострелили руку, тромбонист, тяжело раненный, упал, но музыканты сомкнули поредевший круг и продолжали, пусть
меньшим составом, наяривать «Марсельезу» без единой фальшивой ноты; когда они
в очередной раз дошли до «окровавленного стяга», флейтист и альтист упали мертвыми.Артиллерийское прикрытие постоянно
запаздывало, поэтому рота за целый день
так и не смогла существенно продвинуться,
каждое движение вперед быстро сменялось
отходом. Только к вечеру последняя атака
увенчалась успехом — враг был выбит из
леса. Антим все это видел, и еще долго потом у него будет стоять перед глазами, как
люди всаживают друг в друга штыки, а после стреляют, чтобы с отдачей легче вытащить свой штык наружу. И сам он, скрючившись и выставив винтовку, готов был
колоть, разить, крушить что попало: людей, зверей, деревья, — в порыве недолгой,
слепой и абсолютной лютости; однако под
руку ничего не подвернулось. Подхваченный общей волной, не глядя по сторонам,
он обреченно бежал вперед, но удержаться на захваченной позиции не удавалось,
людская масса вновь откатывалась вспять;
сил не хватало, подкрепление никак не
подходило. Но всё это Антим сообразил
позднее, когда ему растолковали, что к
чему, а в тот момент, как бывает обычно,
он ничего не понимал.Таков был первый для него и всех его
товарищей бой, по окончании которого
несколько десятков человек, в том числе
капитана Вейсьера, двух каптенармусов и
унтер-офицера нашли мертвыми, не говоря о раненых — их выносили на носилках
до самой ночи. Понес потери и оркестр:
одного из кларнетистов ранило в живот,
барабанщика — в щеку, он рухнул с барабаном вместе, у второго флейтиста оторвало
половину кисти. А сам Антим, когда все
было кончено, обнаружил, что его миска
и котелок продырявлены пулями и такие
же дырки на кепи. У Арсенеля осколком
снаряда снесло верхушку ранца, другой
застрял внутри, разорвав ему китель. Как
оказалось после переклички, рота недосчиталась семидесяти шести человек.На рассвете начался новый переход,
шли весь день, по большей части лесом,
идти было труднее, утомительнее, зато солдаты были скрыты от вооруженных биноклями глаз полевых разведчиков и зорких
воздушных наблюдателей с самолетов и
аэростатов. На земле попадалось все больше трупов, брошенных винтовок и амуниции, раза два или три пришлось схватиться с противником, но, к счастью, это были
лишь короткие, хаотичные перестрелки,
не столь кровопролитные, как побоище
под Мессеном.Так продолжалось всю осень, и под конец люди переставляли ноги уже автоматически, забыв, что куда-то идут. Это было не
так уж и плохо: какое-никакое занятие, телесный механизм работает, зато свободна
голова — думай, о чем хочешь, а хочешь —
ни о чем не думай, но зимой все застопорилось. Противники так долго теснили друг
друга, что измотались вконец, линия фронта чрезмерно растянулась, противоборство
обернулось противостоянием, и с наступлением морозов еще недавно двигавшиеся
войска словно сковало льдом по длинной
линии от Швейцарии до Северного моря.
Где-то на этой линии застыла и рота Антима, парализованная, оцепеневшая, осевшая в запутанном траншейном лабиринте.
В принципе, изначально траншеями должны были заниматься инженерные войска,
но на деле пехотинцам приходилось окапываться самим, иначе зачем бы они таскали на спине лопатки и кирки, не просто
же для украшения ранца. А дальше каждый
день они старались убивать как можно
больше вражеских солдат, удерживая за
собой тот минимум квадратных метров,
который требовали командиры, зарываясь
в землю все больше и больше.
* Этот тип самолета выпускался лишь начиная
с 1916 г. В переводе сохранены допущенные автором неточности.