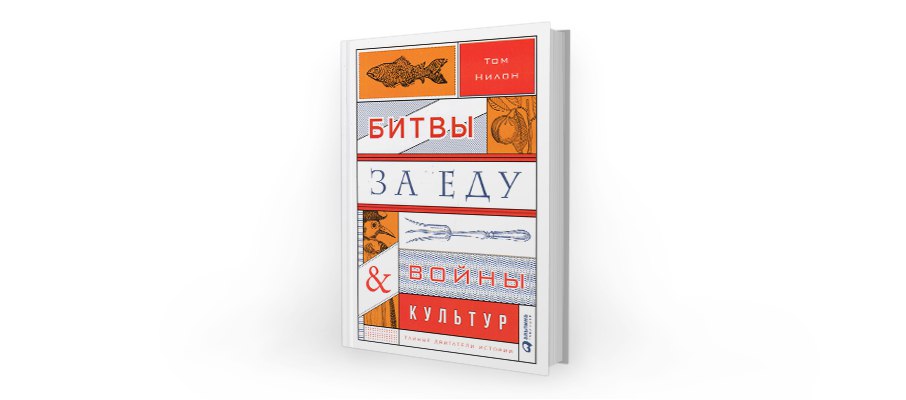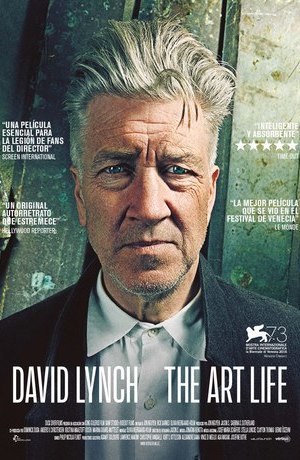Елена Ляшенко родилась в Кыргызстане в 1990 году. В 2006-м переехала в Санкт-Петербург. В разное время работала корреспондентом и редактором в газетах «Известия», «Российская газета» и «Аргументы и Факты», а также в журнале «Адреса Петербурга». Преподает журналистику. В 2014 году вышла в финал российско-итальянской литературной премии для молодых писателей и переводчиков «Радуга» с дебютным рассказом «Замыкание», в 2017 году вошла в число призеров V конкурса рассказа им. В.Г. Короленко.
Рассказ публикуется в авторской редакции.
Были в Икее
Нам с Пашиком нужен был только матрас. Мы бы положили его на пол ближе к батарее, а вокруг я поставила бы стеклянные банки с елочной гирляндой, и мы бы включали гирлянду по ночам и смотрели бы на цветные отсветы на обоях. А утром это было бы похоже на те гнезда из Инстаграма, когда все так небрежно разбросано, но выглядит не как нищенский бардак, а как уютный уголок творческих людей. И я бы специально налила в большую кружку какао, которое никто из нас не пьет, и бросила бы в смятые простыни пару апельсинов, а кружку поставила бы рядом на паркет. И выбрала бы потом фильтр в лиловых разводах и белых вспышках, чтобы сделать фотографию еще более сонной, передающей хрупкость и трепетность моей души. И пожелала бы в подписи сама себе просыпаться в этой долбаной куче тряпок и цитрусов каждый день до конца жизни. И щедро насыпала бы смайлов с сердечками и хэштегов, по которым меня найдут онлайн-магазины поддельных очков и кустарные салоны, где наращивают волосы и ресницы, а брови, наоборот, выщипывают (но потом рисуют заново в два раза шире). И они поставили бы мне лайки и оставили бы безличные комментарии про то, что это класс. Это и есть класс. Не высший и даже не средний. Но вполне себе оформившийся и насчитывающий миллионы представителей, которые прямо сейчас отмывают в раковине банку от засохшей корки томатного соуса, чтобы потом запихнуть в нее китайскую гирлянду и счастливо выдохнуть.
В Икею нас привез бесплатный автобус. Внутри меня играл Брамс, снаружи — песня «Маршрутка», выбирать не приходилось. У метро людей, ждущих свой паром в шведскую идиллию, можно было узнать по сдержанной восторженной целеустремленности во взгляде. Все они были непременно парами, ехать в Икею в одиночестве — верх социофобии. Туда можно только вдвоем. Или лучше семьей, как эти трое: он и она передают друг другу длинный список открывашек и табуреток, а шестилетний сын переминается с ноги на ногу. Скоро он сможет немного приглушить зов своего синдрома гиперактивности, прыгнув с разбега в бассейн с мячиками корпоративных цветов или катая между стеллажей маленькую тележку, этот детский протез взрослой тоски. Пашик взял мои руки, чтобы согреть их дыханием.
— Мерзнешь, енот?
Я не ответила — оба мы инстинктивно отпрыгнули, уворачиваясь от грязных брызг. Длинная черная машина с мрачным акульим изяществом резко вильнула к тротуару и затормозила напротив вывески «Le Tulle», под которой светились буквы чуть мельче «Текстиль для загородного дома». Из машины осторожно извлекла себя женщина с навсегда застывшим бесстрастно красивым лицом. С водительской стороны вышел высокий и грузный человек, похожий на тучу в кожаной куртке.
— Нет, ты видела? Повеситься можно. Текстиль для загородного дома. Зашибись. Типа для квартиры шторы какие-то другие должны быть. А название? Если «тюль» написать по-французски, то это к ценнику сразу 150% добавляет. Они бы никогда не зашли в магазин «Тюль», только, блин, «Ле тюлле».
Мы с Пашиком часто играли в эту игру: делали из дорогих машин фаллические проекции их владельцев, ухоженных женщин топили в формалине и хоронили под грудой глянцевых журналов, поливали дорогую одежду кровью бангладешских детей и шампанским из бокалов бренд-менеджеров. Это делалось мимоходом, ровно с той долей внимания к чужой жизни, которая еще не превращает тебя в желчного неудачника, но служит облегчающей инъекцией оправдания китайских кроссовок на твоих ногах и резинового сыра в твоем холодильнике. Они рабы вещей, а мы свободны. Правда о том, что наше рабство просто более низкого пошиба, быстро покрывается катышками и плохо влияет на зубную эмаль, была бы невыносима. И поэтому мы ехали за матрасом. Не в магазин «Ле матрас», потому что такие как мы не покупают вещи в специализированных магазинах. Я не хотела играть, но в Пашике в этот момент мелькнула какая-то беспомощность, и мне захотелось показать ему, что мы команда.
— Тачка дорогая, а глаза какие-то мертвые. Пустые. Будут утром сидеть в своем коттедже за новыми шторами и молча пить чай по разным концам такого длииинного стола. И молчать. И потом она такая: «Почему мы больше не разговариваем?» А он такой: «А о чем?». И всё. И еще они не трахаются.
Последнее, кажется, было в точку. Пашик тихо просиял, напомнив себе, что витальную мощь у него никто не отнимет и ни за какие деньги ее не купишь. В автобусе я сидела у него на коленях, а надо мной нависала задумчивая женщина, и было видно, как проступают жилки на ее напряженном запястье. А рукав куртки с обратной стороны затерся о бесконечные поручни и перила так, что его уже не отстирать.
— Господи, ну куда они все… — задал Пашик риторический вопрос, когда мы мимо бескрайнего автомобильного стойла дошли до главного входа и моментально растворились в толпе. Ничего удивительного — суббота. Я промолчала, потому что раздражение Пашика было мне понятно. Он предпочел бы приехать в полдень четверга и бродить тут, изображая героя из «Я — легенда». Мы так и делали раньше, пока он не согласился на пятидневку, не вытащил тоннели и не надел пиджак. Мочки его ушей грустно съежились, и мне стало его так жалко… Когда мы познакомились, он шутил, что если быстро бежать, то сквозь тоннели свистит ветер. Даже комикс такой нарисовал. Я его сохранила в папке с другими рисунками, последний файл там датирован маем. Это картинка, на которой енот-полоскун стирает в тазике смартфон. Намек на мою криворукость после случая, когда я уронила свой телефон в раковину. С тех пор он мне больше ничего не присылал.
— Слушай, может, по мороженому сначала? — Я собрала в себе всю нежность и попыталась вместить ее в робкий взгляд снизу вверх.
— Нуу… Фига там очередь! Давай потом, пошли уже закроем матрасный гештальт, — сказал Пашик, глядя поверх меня куда-то вдаль.
На самом деле в этот момент мне действительно хотелось мороженого, но настаивать на этом показалось глупым. На входе мы захватили буклетики — известно, что Икеа устроена по принципу лабиринта и никогда не позволит посетителю пройти прямо к тому, зачем он приехал. Она сначала пропустит его через карусель лампочек, шкафчиков, подушечек, полочек, ковриков и каких-то штук неясного назначения, чтобы потом выплюнуть его, обессилевшего, нагруженного ворохом вещей и недоумевающего, к собственно накомарникам, за которыми он и шел. Единственное, от чего можно обезопасить себя — это от того, чтобы пройти какой-нибудь отдел дважды. Без карты местности это сделать невозможно, и мы с Пашиком взяли по одной. Мою попытку захватить еще и тележку он высмеял, так что мы отправились в путь налегке.
Кризис 1. Гостиные
— Енот Плюшкин, Плюшкин енот! — Пашик широко шагал, обнимая меня за плечи и иногда останавливаясь, чтобы поцеловать в нос. — Эй, все, привал!
Он упал на первый попавшийся диван и вытянул свои бесконечные ноги в проход, мешая бюргерам катить тележки. Я потянулась к пушистому пледу, который с продуманной небрежностью был брошен на кресло, и Пашик резко притянул меня к себе, так что я потеряла равновесие и упала на него.
— Дорогая, я дома! — заорал он и начал меня щекотать. Мне хотелось бы, чтобы вместо этого он бережно притянул меня к себе и нежно поцеловал, проникаясь всей этой псевдодомашней атмосферой, которую усиленно создают пледы и подушечки. Поддерживая игру, я отбивалась от него, но потом он случайно ударил меня локтем в нос, окончательно убив во мне надежду на хоть какую-нибудь романтику. Я разозлилась и вскочила с дивана.
— Блин, все. Ты не понимаешь что ли, что значит «хватит»?!
— Ты чего?
— Идем говорю. Кого-то очень бесила толпа народа, кто-то очень хотел поскорее закрыть свой гештальт и убраться отсюда, кто-то такой особенный и занятой, что не готов был постоять одну минуту в очереди за мороженым. А теперь мы тут тратим время! — Я потрогала нос, он, кажется, немного припух, и на глазах у меня выступили слезы. Всё должно было быть не так.
— Ты серьезно? Да куплю я тебе мороженое, господи, детский сад какой-то. — Недоумение на его лице постепенно сменялось раздражением. Назвав его «особенным» и противопоставив «толпе», я нажала на его больное место.
— Иди ты. Сам его жри. Бесишь.
На секунду я как будто перенеслась в детство: мне 10, через год мама и папа разведутся. Он принес ей цветы, и она расплакалась. Я думала — от чувств. А потом они ругались, и я поняла, что он уже ничего не был способен сделать, чтобы ее порадовать: обижал тем, что не дарил цветов, а когда наконец принес их, не смог сказать подходящих слов, просто неловко сунул их ей, будто угощал сеном лошадь. Мама тогда стояла в коридоре прислонившись спиной к стене, и плакала запрокинув голову. А он говорил: «Ну хочешь, я другие куплю, мне не жалко. Ты скажи, какие». И она заплакала сильнее.
— Енотик, не сердись. Мы что, как какие-то старые зануды, будем ссориться в магазине? Все по фану должно быть, эй!
Пашик обнял меня, такой большой и родной, от него пахло теплом и немножко дымом. Я уменьшилась, чтобы уместиться в его кармане, чтобы чувствовать себя под защитой и знать, что он всегда на моей стороне. Действительно, мы не такие, мы видим и слышим друг друга, и кому нужны сопливые сцены из кино, когда можно вместе падать на диван и хохотать.
Кризис 2. Кухни
Мы двигались по карте дальше, до матрасов предстояло миновать еще несколько отделов, а план магазина в моих руках напоминал не то карту сокровищ, не то извилистый синий кишечник. Кухни нам, в общем-то, были неинтересны: в студии, которую снимали мы с Пашиком, уже был какой-то минимум техники и посуды, никто из нас особо не увлекался готовкой, а кухонный стол было бы просто некуда поставить. Ели мы за барной стойкой, громоздясь на неудобных табуретах, которые сколотил для Пашика один из его вечно мечущихся в поисках своего предназначения друзей. Судьба явно не готовила этого друга в плотники, табуреты были шаткие, так что чаще мы просто садились в кресла-мешки с тарелками в руках. Пашик залип в телефон, а я засмотрелась на молодую пару, которая спорила о размере столешницы. С ними скучал малыш лет четырех. Похлопав всеми дверцами и ящиками, он начал бегать между столов и задел меня. Оторопев, остановился.
— Теперь я вожу! Убегай! Спасайся, а то догоню и съем!
Взвизгнув от восторга, мелкий понесся мимо кухонных гарнитуров, а я медленно побежала за ним, время от времени выкрикивая мотивирующие угрозы. Обычно маленькие дети меня раздражают и я совсем не разделяю мнения, что они все милые. Но этот был такой хорошенький, с большими синими глазами и темными кудрями и в рубашечке с крошечным галстуком-бабочкой (родители-хипстеры расстарались).
— Енот, смотри! Слышишь?! Смотри! Я пробежала мимо Пашика, отмахнувшись от него. Он позвал меня еще пару раз, а когда я наконец достигла свою визжащую добычу и начала тормошить его и ерошить ему волосы, Пашик навис надо мной и строго сказал:
— Ты всё?
— Мы всё!
Мы с трофеем оба запыхались и раскраснелись, но были очень довольны погоней и ее результатом. Вернув мелкого его родителям, я обернулась к Пашику. Он пытался скрыть обиду под недовольством.
— Мне рассылка пришла про новый квест. Там скидка. Пойдем сходим?
— Ты мне это хотел сказать?
— А что, теперь я могу рассчитывать на твое внимание только если открою лекарство от рака?!
— Ой, да хватит уже. Видел малого? Он такой сладкий.
— Сладкий. Никак от тебя не ожидал такого. Мимими еще скажи.
Я молчала. Пашик изрек нечто, что, по его мнению, должно было разрядить обстановку.
— А у меня есть знакомая семья, их фамилия Козловы. И они назвали ребенка в честь фильма «11 друзей Оушена». Оушеном. Ну то есть Океаном. И живет теперь в этом мире Океан Козлов. Прикинь?
Я молчала.
— А еще я ролик один видел на YouTube, там показаны были домашние роды. Вообще у них строго с порноконтентом и все такое, но это вроде как было медицинско-образовательное видео, так что его пропустили. И это просто отвал башки вообще. Как женщины через такое проходят, я не знаю. Я бы не выдержал даже рядом стоять…
— Паш?
— Что?
— Заткнись, а?
Кризис 3. Спальни
Спальни встретили нас, мрачных и молчаливых, обманчивой невинностью строго заправленных кроватей, кроваток и кушеток. Мимо меня пролетела подушка в сиреневых разводах. Кто-то хохотнул, поймав ее, и плюхнулся на одеяло. Молодая женщина в кедах со стразами медленно провела рукой по плюшевому изголовью, и я не успела отмахнуться от мысли о том, как эти кеды летят на пол, а пальцы ищут опоры и скользят по изумрудному плюшу, оставляя темные бороздки на ворсе.
— Нет, сам каркас не нужен, только матрас. А какие вообще бывают степени жесткости? — услышала я голос Пашика. Он отвечал на вопрос симпатичной девушки в фирменной футболке.
Пашик глупо ухмылялся и заканчивал какую-то позорную шутку со словом «упругость», девушка вежливо улыбалась, а я не заметила, как оказалась рядом с той огромной кроватью с плюшевыми вставками. Пожалуй, она заняла бы всю нашу студию. Ворс был очень нежный на ощупь, а от ногтей и правда оставались темные борозды. Наверное, ее можно было бы поставить в хозяйской спальне загородного дома. И еще заехать в «Le Tulle» и выбрать аквамариновые занавеси в тон. И отдать их в ателье, где шили шелковый комплект для нашей первой квартиры. Можно по дороге заскочить в магазин и купить свежих ягод. Зимой так часто хочется клубники… Разве можно себе отказывать в простых вещах?
— Енот, мы же поместимся? Ты не собираешься толстеть? — донеслось до меня через весь зал. Пашик подпрыгивал на матрасе лежа и извивался, как ящерица. Я разбежалась и упала рядом с ним. Мы смотрели в потолок, по голому бетону которого змеились трубы вентиляции, и Пашик патетично шептал: «Любимая! Я подарю тебе эту звезду!» А затем мы одновременно вполголоса завели речитативом давно знакомое: «Были в Икее снова видели Бога он похож на тебя немного такая же недотрога немного похож на меня такая же размазня те же усмешки замашки я сказал ему Боже мы устали в Икее твоей мы в Икее твоей растеряшки где нам взять наши деньги на все твои чашки».
Кризис 4. Детские
Выписав себе артикул полуторного матраса средней жесткости, мы должны были идти за ним на склад. Но Икеа была непреклонна и перед этим непременно хотела показать нам все оставшиеся богатства. Повинуясь круговороту жизни, из спальни мы попали в детские.
— Знаешь, какая категория покупателей у маркетологов считается «золотой»? — размышлял Пашик. — Дети. Они сочетают две очень выгодных черты — не задумываются о том, зачем тот или иной товар так расхваливают, и не задумываются о том, каких трудов стоит их родителям добыть деньги. Плюс ко всему, это работает как снежный ком, и в итоге они требуют телефон или игрушку только потому, что у всех в классе или во дворе такие есть. А значит что? Что потребителя нужно на максимально длительное время задержать в фазе детства. Отсюда и кидалты, что по-русски весьма недвусмысленно рифмуется с «кинутыми».
— Ок, но я могу оставить хотя бы мистера Брокколи?
— Это даже не обсуждается. Его мы, конечно, оставим. Мистер Брокколи — это святое.
Тут было где развернуться: Пашик натянул на меня синтетическую бороду, сам напялил пиратскую шляпу и, пока я обнимала новообретенную подушку в виде брокколи, пытался разыграть с помощью напалечных кукол финальную сцену из «Облачного атласа».
— И так, дети, я встретил вашу бабушку, — кряхтел Пашик, вольно интерпретируя реплики Тома Хэнкса.
Что-то кольнуло меня внизу живота, когда я заметила пару крошечных морщинок в уголках его глаз. На какую-то долю секунды я пронеслась через свадьбу, родителей, ипотеку, квитанции за электричество, беременность, кредит на машину, декрет, мамские форумы, макароны к ужину, репосты глупых картинок про семейную жизнь. Бумажка с матрасным артикулом в моем кулаке стала немного влажной. Я этого хочу? Нет? А если вместо ипотеки и кредита подставить ту черную тачку, которая чуть не облила нас грязью, это будет как-то по-другому или нет? Или отказаться от этого всего и жить на полуторном матрасе, обставленном банками из-под соуса, смотреть сериалы все выходные подряд и ставить друзьям лицемерные лайки? Нет? Да?
— Все нормально, капитан? — Пашик улыбался, но выглядел встревоженным.
— Да, все в порядке. Я просто… Я.. люблю тебя очень..
— И я тебя то… — из кармана Пашика раздался звук, который сложно с чем-то перепутать. Мы оба замерли.
Кризис 5. Товары для дома
— Да я забыл удалить его просто!
— Ты хоть бы врал изобретательнее, что ли. Чтобы тебе пришло сообщение, нужно, чтобы ты им регулярно пользовался и лайкал каких-нибудь шлюх. А они тебя. И вот вы пара. И она тебе пишет. А ты, блин, тут матрас выбираешь с расчетом на меня. Уж и выбирал бы трехместный, чтобы все поместились!
— Блин, у тебя комплекс неполноценности что ли? Ты можешь вот так все под сомнение поставить из-за одного сообщения? Я не жил ни с кем никогда, ты первая, ты это прекрасно знаешь. Для меня это серьезный шаг.
— И что? Мне на колени падать и славить Бога, что ты снизошел до того, чтобы жить со мной? Велика радость — мыть твои грязные тарелки и смотреть твои тупые сериалы.
— То есть теперь они тупые? Как-то так сразу, да?
— Если смотреть их полгода подряд и никуда не двигаться — то да.
— Ах ты об этом. Я изменил свою жизнь, я пошел на работу, которую ненавижу, я не могу и не хочу рисовать. Я приношу еду, чтобы было чем пачкать тарелки, которые ты, давай признаем, моешь раз в три дня. И все чтобы ты могла быть сраным фотографом, который толком даже композицию не выдерживает! И я еще не двигаюсь никуда! Это ты отказалась идти в поход, ты отказалась купить самокаты и на квест со мной тоже не пойдешь. Похоже, родить кого-нибудь, запереться дома и деградировать — это твое движение, да?
— Если ты решил продать свою мечту и сделать из меня оправдание для этого — это твое дело. Но ты меня не посмеешь этим попрекать! Я делаю то, что люблю, и ты не вызовешь во мне чувства вины, урод!
— Ага, посмотрим, как ты сама сможешь сохранить свою свободу, если я не буду покупать тебе линзы для фотика.
— Всё сказал?
— Всё.
У нас была легенда, что мы познакомились в баре. Никто, вступая в долгие отношения, не решается признаваться, что они начались в приложении, в котором все оценивают друг друга по возрасту, территориальной близости и трем картинкам. У Пашика было красивое селфи, а в профиле что-то про сапиосексуальность. Только вот он не додумался отключить звук уведомлений о новых сообщениях, весьма характерный. Я обняла мистера Брокколи и выбросила бумажку с артикулом матраса в ближайшую урну.
Фото на обложке рассказа: Tatsuya Tanaka