Книжный магазин «Все свободны» и проекционный музей «Люмьер-холл» организуют на ближайших выходных «Большой книжный Weekend» — фестиваль, посвященный книгам и чтению. Артем Фаустов, совладелец книжного магазина, рассказал журналу «Прочтение», как появилась идея фестиваля и почему работа книготорговца похожа на работу бармена.
— С какой целью проводится фестиваль «Книжный Weekend»?
— «Книжный Weekend» был задуман в первую очередь как литературный праздник для петербуржцев. В Петербурге, втором по величине городе России, таких мероприятий проводится очень мало. В столице, например, есть Московская международная книжная ярмарка (аналог нашего Книжного салона), есть гораздо более интересное, да и вообще важнейшее в стране книжное событие — Non/fiction. Кроме этого, проводится еще несколько книжных мероприятий в год, локальных ярмарок, на которых издательства представляют свою продукцию. Например, недавно проходил оригинальный «ГРАУНД зин фест» — фестиваль зинов и маленьких независимых издательств. Он привлек достаточно много людей, потому что тема интересная. В Питере такого не бывает. Раньше нерегулярно проходила «Независимая книжная ярмарка», но она всегда была маленькой, имела нулевой бюджет и последний раз состоялась еще два года назад, ее тогда организовывал Платон Романов из магазина «Фаренгейт 451». И вот в прошлом году мы, терзаемые тем, что в Петербурге нет серьезного альтернативного мероприятия, рассчитанного на людей, влюбленных в умную книгу, поняли, что фестиваль надо делать самим. Руководство «Люмьер-холла» нас поддержало и предложило содействие. В 2016-м организатором также была Вита Карниз из книжного магазина «Факел», в этом году она в качестве куратора в это же время везет книги петербургских издателей на фестиваль в Иркутск.
— Почему фестиваль проводится накануне Книжного салона?
— Ответ на самом деле прост: мы исходим из нужд логистики. Участникам из других городов удобнее привезти книги сразу на оба мероприятия, сократив расходы на доставку, а заодно провести несколько свободных дней между мероприятиями в майском Петербурге.
— Чем «Книжный Weekend» принципиально отличается от Санкт-Петербургского книжного салона, помимо масштаба?
— Принципиальных отличий множество, и главное в том, что наша ярмарка некоммерческая. Ее цель — это книжный праздник для горожан. Во-вторых, среди участников вы не увидите издательства, которые специализируются на массовой печатной продукции сомнительного содержания. У Книжного салона же отсутствует культурный фильтр. Перед организаторами стоит задача продать выставочную площадь для торговли чем угодно, вплоть до каких-нибудь брошюр по гомеопатии. У нас, конечно, такого нет.
Кроме того, наш фестиваль ориентирован на тусовку и общение, мероприятия (главным образом лекции) носят просветительский характер. Сейчас, например, актуальна тема урбанистики — сразу несколько выступлений будут посвящены ей. Даже Андрей Аствацатуров расскажет о городском пространстве в литературе. В этом году мы сотрудничаем с премией «Просветитель» Дмитрия Зимина, поэтому будут выступать несколько финалистов премии 2015 и 2016 годов.
Наконец, пространство ярмарки у нас куда более уютное. Огромный старинный газгольдер, в котором располагается «Люмьер-холл», сам по себе достоин посещения. На «Книжном Weekend’e» вы не найдете огромных стендов акул издательского рынка, мероприятие не является пиар-акцией книготорговых сетей. «Все свободны», например, будет занимать такой же столик, как и все остальные. Вас ждут книги по оптовым ценам и воодушевленные представители издательств, которые, будучи экспертами, могут рассказать о привезенных книгах и что-то посоветовать. А также — вкусный стрит-фуд, небольшой маркет хендмейда и различные активности для всей семьи.
— Зачем люди сейчас покупают бумажные книги?
— Бумажная книга — как виниловая пластинка. Конечно, большинство пользуется mp3, но тот, кто знает толк в звучании, хотя бы иногда слушает винил. Многие люди (и я отношусь к их числу) любят именно бумажные книги. Это просто другой экспириенс, другие ощущения, другой формат чтения. Этот вопрос изучался специалистами по восприятию, нейробиологами, и разные исследования показали разные результаты. Согласно одним — разницы нет, согласно другим — есть: на какие-то проценты текст усваивается лучше, когда читаешь с бумажного листа. У любителей электронного чтения — свои аргументы: это удобно, дешево, в нашей стране — бесплатно, потому что все, естественно, пользуются пиратскими ресурсами. Не нужно носить с собой книгу, можно форматировать текст, делать пометки и так далее. Но если вы занимаетесь научным исследованием, то, возможно, работа с бумагой более удобна. Единого мнения быть не может. Я не выступаю против электронного формата, напротив, считаю, что это прекрасно. Например, иногда нужно прочесть рукопись, которая еще не вышла на бумаге. Но при всех прочих я предпочту бумажную книгу электронной.
— В одном из интервью вы назвали книгу социальным маркером. Какие еще функции она выполняет для современного читателя?
Про культурный маркер я подслушал у Бориса Куприянова, а он, скорее всего, прочитал где-то еще. Это определение действительно интересно. Вы знаете, что, например, в советской повседневной культуре наличие книг в доме играло роль именно такого маркера. Люди, даже мало читающие, понимали, что показать свой интерес к знаниям, к книгам — это хороший тон, это может быть расценено окружающими как аргумент в вашу пользу. С течением времени эта характеристика стала менее значимой в связи с обесцениванием самого объекта — книги. Потому что издавать стали много, издавать стали дешевле, книга стала доступнее. Появился покет-формат и массовая литература, которую хранить дома — безумие.
Не люблю слово «интеллигенция», потому что, к сожалению, в сегодняшней культурной картине оно обросло ненужными коннотациями. Но тем не менее, если вы интеллигентный человек, то, скорее всего, приходя в гости, первым делом направляетесь к книжному шкафу. Ведь для думающих людей книга по-прежнему важна: если ты видишь кого-то с книгой, значит, вам потенциально есть о чем поговорить.
Книга — это доступный источник знания и образования для тех, кому в наше время никто просто так образование не даст, даже за деньги. Знания передаются от одного поколения к другому. Его носитель — книга. Устная передача этих знаний сейчас неактуальна, поэтому текст или книга как некий артефакт, наполненный текстом, этим носителем и является.
И, конечно, нельзя забывать о том, что книга выполняет и функцию друга. В этом нет ничего зазорного. С книгой люди проводят свой досуг, книга развлекает, книга немножко поучает, заставляет плакать и смеяться, испытывать эмоции — за это мы ее и любим.
— Существует ли свод правил книготорговца?
— Правила есть. Первое — работа книготорговца похожа не на работу продавца в торговом зале супермаркета, а на работу бармена. Книжный магазин — это культурное пространство. Если он перестает быть таким, то перестает быть и книжным магазином. Многие приходят к нам во «Все свободны» пообщаться. Мы часто наблюдаем, как люди случайно встречаются здесь, потому что зашли посмотреть, какие вышли новенькие книжки. Иногда в магазин заходят дружными компаниями. Продавцу нужно уметь поддержать беседу о книгах, об искусстве, о политике — о чем угодно. Нужно быть готовым общаться. Поэтому интровертам, любящим посидеть в тишине, я бы не рекомендовал эту работу. В магазине нужно быть открытым для общения и иметь хорошо подвешенный язык, уметь рассуждать о книгах, даже если вы их не читали.
Второе, вытекающее из первого: естественно, прочесть все одиннадцать тысяч книг, которые есть в магазине, даже за всю жизнь вы не сможете. Но если вы работаете в книжном, то нужно знать ассортимент и авторов, понимать, о чем они пишут. Нужно знакомиться со всеми книгами, которые поступают в магазин: прочесть аннотацию, обратить внимание на обложку, запомнить, куда вы ее поставили. Конечно, это требует эрудиции. Основные разделы нашего магазина — философия, социология, языкознание, искусствоведение, и, несмотря на то, что я не являюсь большим любителем этих областей знания, мне нужно понимать, какие книги есть в наличии.
Недавно в музыкальном магазине «Фонотека» посетитель при мне задавал вопрос продавцу: «Откуда вы все так хорошо знаете, неужели вы послушали всю эту музыку?» Нет! Конечно, он не послушал всю музыку на свете, просто хороший продавец знает, что у него есть на полках.
— Какие задачи должен выполнять книжный магазин (помимо того, чтобы быть культурным пространством)?
— Он должен быть местом, где можно укрыться от городской суеты и пообщаться с книгой. Горе тем магазинам, которые не могут этого обеспечить. Точнее, не горе, но это просто профанация какая-то, а не книжный.
Кроме того, книжные магазины (особенно у нас в России) информируют о выходе новых и переиздании старых книг. К сожалению, сейчас литературная критика находится в упадочном состоянии. Известных обозревателей можно перечесть по пальцам. Литературных журналов мало, есть, например, замшелая «Литературная газета», но ее никто не читает. Не хватает окололитературного информационного поля, и в этом одна из проблем нашего книжного рынка. Люди бы рады читать, но не знают что. Многие из тех, кто следит за литературным процессом, за тем, что публикуется в России, узнаютобо всем именно из пабликов книжных магазинов, таких как «Фаланстер» в Москве, «Пиотровский» в Перми и Екатеринбурге, «Подписные издания» и «Факел» в Санкт-Петербурге — наших братьев по духу. Наши собственные ресурсы в сети тоже наполнены информацией о новых книжках, и люди этим, я знаю, пользуются.
Фото на обложке интервью: Михаил Рязанов






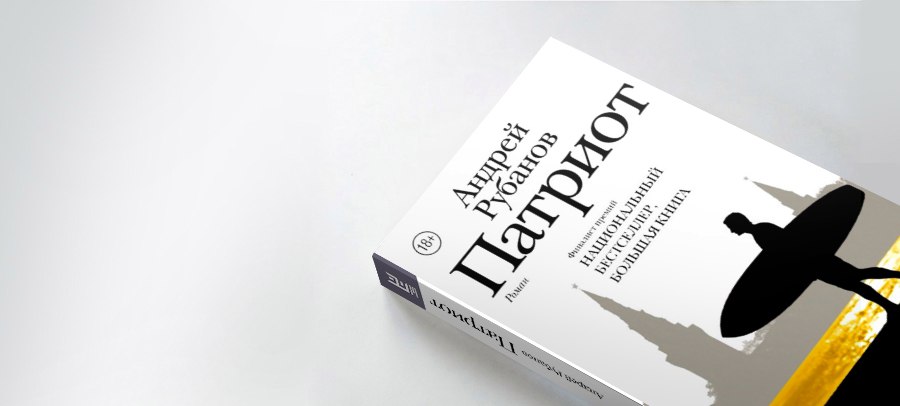

 Кто автор? «Понимание комикса» создавалось больше года, однако идеи, которые легли в основу этого исследования, американский художник Скотт Макклауд вынашивал около девяти лет. Автор вышедшего в России летом 2016 года графического романа «Скульптор» рисует комиксы с 1984-го. Он работал над комиксами в DC и, кроме этого, создал собственную историю «ZOT!». Однако по-настоящему известным Макклауд стал благодаря работам, в которых графически изложил теорию комикса как искусства. «Понимание комикса» — первая из трех книг, переведенная на русский язык.
Кто автор? «Понимание комикса» создавалось больше года, однако идеи, которые легли в основу этого исследования, американский художник Скотт Макклауд вынашивал около девяти лет. Автор вышедшего в России летом 2016 года графического романа «Скульптор» рисует комиксы с 1984-го. Он работал над комиксами в DC и, кроме этого, создал собственную историю «ZOT!». Однако по-настоящему известным Макклауд стал благодаря работам, в которых графически изложил теорию комикса как искусства. «Понимание комикса» — первая из трех книг, переведенная на русский язык. Кто автор? «Тайная история комиксов» — долгожданная новинка весны. Эта книга, по словам коллектива авторов — кураторов группы «OLD COMIX» во «ВКонтакте», — является «полной и окончательной историей американских комиксов, которую можно прочитать вместо всех этих комиксов и поражать своими познаниями окружающих». Аккурат попав в целевую аудиторию, я заплатила за томик на серенькой тонкой бумаге почти шестьсот рублей.
Кто автор? «Тайная история комиксов» — долгожданная новинка весны. Эта книга, по словам коллектива авторов — кураторов группы «OLD COMIX» во «ВКонтакте», — является «полной и окончательной историей американских комиксов, которую можно прочитать вместо всех этих комиксов и поражать своими познаниями окружающих». Аккурат попав в целевую аудиторию, я заплатила за томик на серенькой тонкой бумаге почти шестьсот рублей. Кто автор? Несмотря на то, что «OPUS COMICUM» нельзя назвать сенсацией в полном смысле слова, ее смело можно обозначить как важнейшую книгу в этой подборке. Живописные работы российского художника и теоретика современного искусства Георгия Литичевского находятся в собраниях многих музеев мира: от Третьяковской галереи до парижского Центра Жоржа Помпиду. Известный всему свету художник знаменит еще и своими комиксами, которые, по его словам, он начал рисовать раньше, чем узнал, что они существуют в природе.
Кто автор? Несмотря на то, что «OPUS COMICUM» нельзя назвать сенсацией в полном смысле слова, ее смело можно обозначить как важнейшую книгу в этой подборке. Живописные работы российского художника и теоретика современного искусства Георгия Литичевского находятся в собраниях многих музеев мира: от Третьяковской галереи до парижского Центра Жоржа Помпиду. Известный всему свету художник знаменит еще и своими комиксами, которые, по его словам, он начал рисовать раньше, чем узнал, что они существуют в природе.

 Популярный композитор представит автобиографическую книгу «Миг между прошлым и будущим». Читателей ждут увлекательные истории о жизни, звездах кино и эстрады, отечественных и зарубежных режиссерах и актерах — от Леонида Гайдая, Юрия Никулина и Аллы Пугачевой до Клаудии Кардинале и Шона Коннери.
Популярный композитор представит автобиографическую книгу «Миг между прошлым и будущим». Читателей ждут увлекательные истории о жизни, звездах кино и эстрады, отечественных и зарубежных режиссерах и актерах — от Леонида Гайдая, Юрия Никулина и Аллы Пугачевой до Клаудии Кардинале и Шона Коннери. Каждая новая книга Уэльбека вызывает волны возмущения, в которых едва слышен глубокий голос самого писателя. Жан-Ноэль Дюмон предлагает начать знакомство с лауреатом Гонкуровской премии за роман «Карта и территория» и попытаться ответить на вопрос о том, какое беспокойство побуждает Уэльбека писать. Лекция пройдет на французском языке с переводом.
Каждая новая книга Уэльбека вызывает волны возмущения, в которых едва слышен глубокий голос самого писателя. Жан-Ноэль Дюмон предлагает начать знакомство с лауреатом Гонкуровской премии за роман «Карта и территория» и попытаться ответить на вопрос о том, какое беспокойство побуждает Уэльбека писать. Лекция пройдет на французском языке с переводом. «Питер. На единой волне» — проект, подготовленный фотографом Галиной Зерниной и литературоведом Михаилом Эпштейном. На создание снимков автора вдохновили строки Иосифа Бродского. В рамках данной выставки запланировано несколько лекций для детей и для взрослых. Одна из них посвящена роли поэта в развитии литературного языка.
«Питер. На единой волне» — проект, подготовленный фотографом Галиной Зерниной и литературоведом Михаилом Эпштейном. На создание снимков автора вдохновили строки Иосифа Бродского. В рамках данной выставки запланировано несколько лекций для детей и для взрослых. Одна из них посвящена роли поэта в развитии литературного языка. Скорее всего, Анна Ахматова никогда не слышала об Анне Барковой. И тем не менее можно считать, что строки из «Поэмы без героя» («Мой двойник на допрос идет») написаны об ахматовском «двойнике», о женщине, которая двадцать один год своей жизни провела в тюрьмах и лагерях.
Скорее всего, Анна Ахматова никогда не слышала об Анне Барковой. И тем не менее можно считать, что строки из «Поэмы без героя» («Мой двойник на допрос идет») написаны об ахматовском «двойнике», о женщине, которая двадцать один год своей жизни провела в тюрьмах и лагерях. Брак Гиппиус и Мережковского — явление уникальное. Не уступавшие друг другу в таланте и остроте ума деятели Серебряного века прожили под одной крышей пятьдесят два года, не разлучившись, по словам Гиппиус, ни на один день. О том, как эти абсолютно самодостаточные люди вошли в историю как один из самых крепких творческих союзов в мире, расскажет писатель Дмитрий Быков.
Брак Гиппиус и Мережковского — явление уникальное. Не уступавшие друг другу в таланте и остроте ума деятели Серебряного века прожили под одной крышей пятьдесят два года, не разлучившись, по словам Гиппиус, ни на один день. О том, как эти абсолютно самодостаточные люди вошли в историю как один из самых крепких творческих союзов в мире, расскажет писатель Дмитрий Быков. В рамках фестиваля «Большой книжный Weekend» пройдет лекция филолога и писателя Андрея Аствацатурова, посвященная теме урбанизма в литературе — в том числе в романах Генри Миллера и Джеймса Джойса.
В рамках фестиваля «Большой книжный Weekend» пройдет лекция филолога и писателя Андрея Аствацатурова, посвященная теме урбанизма в литературе — в том числе в романах Генри Миллера и Джеймса Джойса.
 В программе фестиваля — лекции Андрея Аствацатурова, Сергея Кавтарадзе и Алексея Конакова, встречи с Алексеем Ивановым и Львом Данилкиным, презентации и мастер-классы издательств «Арка» и «Ad Marginem». Полная программа доступна
В программе фестиваля — лекции Андрея Аствацатурова, Сергея Кавтарадзе и Алексея Конакова, встречи с Алексеем Ивановым и Львом Данилкиным, презентации и мастер-классы издательств «Арка» и «Ad Marginem». Полная программа доступна  Международная книжная ярмарка Garage Art Book Fair
Международная книжная ярмарка Garage Art Book Fair
 Встречи с Алексеем Ивановым
Встречи с Алексеем Ивановым
 Встреча с Евгением Водолазкиным
Встреча с Евгением Водолазкиным
 Американский писатель и журналист Дэн Браун претендует на решение глобальных вопросов нашей жизни — в том числе проблемы соотношения науки и религии. Об этой стороне произведений Дэна Брауна и о том, что такое «тео-физик», расскажет Елена Кузнецова.
Американский писатель и журналист Дэн Браун претендует на решение глобальных вопросов нашей жизни — в том числе проблемы соотношения науки и религии. Об этой стороне произведений Дэна Брауна и о том, что такое «тео-физик», расскажет Елена Кузнецова. Известный прозаик, публицист, обладатель премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна» успел попробовать себя в самых различных отраслях и специальностях. На встрече, которая пройдет в формате открытого интервью, Захар Прилепин расскажет о том, как разные события жизни могут предопределить творческий путь и общественную позицию.
Известный прозаик, публицист, обладатель премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна» успел попробовать себя в самых различных отраслях и специальностях. На встрече, которая пройдет в формате открытого интервью, Захар Прилепин расскажет о том, как разные события жизни могут предопределить творческий путь и общественную позицию. Международный Книжный Салон — мероприятие, направленное на всестороннюю поддержку, развитие и популяризацию чтения в России. В этом году в рамках салона будут представлены книги более 240 российских издательств. В программе мероприятий — встречи с Ником Перумовым, Александрой Марининой, Алексеем Ивановым, Леонидом Юзефовичем, Денисом Драгунским, Еленой Чижовой и другими, а также презентация сборника «В Питере жить!», дискуссии о современной подростковой литературе и классике. Полный список — на
Международный Книжный Салон — мероприятие, направленное на всестороннюю поддержку, развитие и популяризацию чтения в России. В этом году в рамках салона будут представлены книги более 240 российских издательств. В программе мероприятий — встречи с Ником Перумовым, Александрой Марининой, Алексеем Ивановым, Леонидом Юзефовичем, Денисом Драгунским, Еленой Чижовой и другими, а также презентация сборника «В Питере жить!», дискуссии о современной подростковой литературе и классике. Полный список — на  Письма Н.В. Гоголя первой половины 1840-х годов составили «Выбранные места из переписки с друзьями» — «великую оклеветанную книгу», как называл ее Л.Н. Толстой. Лекцию о том, почему именно в этом произведении наметились черты, характеризующие классическую русскую литературу, прочтет заведующая Мемориальным Музеем — дачей А.С. Пушкина Татьяна Галкина.
Письма Н.В. Гоголя первой половины 1840-х годов составили «Выбранные места из переписки с друзьями» — «великую оклеветанную книгу», как называл ее Л.Н. Толстой. Лекцию о том, почему именно в этом произведении наметились черты, характеризующие классическую русскую литературу, прочтет заведующая Мемориальным Музеем — дачей А.С. Пушкина Татьяна Галкина. Встреча продолжает курс «Шедевры американской прозы ХХ века». На этот раз писатель и филолог Андрей Аствацатуров поговорит о литературе битников и романе Джека Керуака «В дороге», расскажет о том, как бунтари, анархисты, гении и графоманы бросили вызов культуре истеблишмента и создали культовые тексты, не потерявшие актуальности и сейчас.
Встреча продолжает курс «Шедевры американской прозы ХХ века». На этот раз писатель и филолог Андрей Аствацатуров поговорит о литературе битников и романе Джека Керуака «В дороге», расскажет о том, как бунтари, анархисты, гении и графоманы бросили вызов культуре истеблишмента и создали культовые тексты, не потерявшие актуальности и сейчас. На заключительной встрече цикла «Биографии писателей: terra incognita» будет рассказано о творческом союзе петербургских «фундаменталистов», в который входят Павел Крусанов, Сергей Носов, Татьяна Москвина, Александр Секацкий и другие. Также пойдет речь о героях и их прототипах в романе Крусанова «Ворон белый».
На заключительной встрече цикла «Биографии писателей: terra incognita» будет рассказано о творческом союзе петербургских «фундаменталистов», в который входят Павел Крусанов, Сергей Носов, Татьяна Москвина, Александр Секацкий и другие. Также пойдет речь о героях и их прототипах в романе Крусанова «Ворон белый». Филолог Денис Ахапкин попытается ответить на вопрос, в чем же загадка поэзии Бродского. Сам поэт говорил, что поэзия противостоит трагизму бытия, внося в него смысл и гармонию, которых лишена материальная реальность; при этом мир его поэзии достаточно трагичен, а лирический герой — дезориентирован. О единстве и борьбе этих противоречий пойдет речь на лекции.
Филолог Денис Ахапкин попытается ответить на вопрос, в чем же загадка поэзии Бродского. Сам поэт говорил, что поэзия противостоит трагизму бытия, внося в него смысл и гармонию, которых лишена материальная реальность; при этом мир его поэзии достаточно трагичен, а лирический герой — дезориентирован. О единстве и борьбе этих противоречий пойдет речь на лекции.