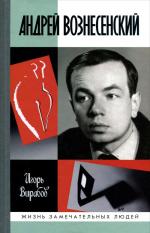Весной в издательстве «Молодая гвардия» вышла биография «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» за авторством писателя Льва Данилкина. Обозреватель «Прочтения» Елена Васильева поговорила с ним о критике, новой книге, а также о том, как и где свершаются революции.
— Почему вы перестали писать критику?
— Потому что это занятие, которому, если ты не шарлатан, надо посвящать по 18 часов в сутки семь дней в неделю; потому что я прожил так много лет — осточертело; потому что — исхалтуриваешься; потому что надоедает, что на любую тему надо заходить исключительно через чью-то книжку; потому что та картина мира, которая проецируется в голову от чтения потока всех этих «новинок» — надоедает до тошноты, а чтобы ее обновлять, интересно читать не очередной роман Франзена или Сорокина, а нечто менее тривиальное — что, я знаю, заведомо не годится для тех, кто ждет от критика внятных, без эксцентрики, советов. Ну кому я могу посоветовать мемуары Ивана Бабушкина или новую книгу Анатолия Фоменко и Глеба Носовского — никому и никогда, это правила игры. И, главное, я чувствую, что слишком много времени в своей жизни потратил на книжки, я кучу всего другого упустил из-за этого. Писать про книги нельзя «на полставки»; то есть можно, полистал, чего-то ухватил, сфабриковал текст форматный, я тоже так умею, но это свинство — по отношению к тем, кто эти книжки долго, месяцами и годами писал. В хороших книжках — а отбираешь-то хорошие — есть история, развитие, их нельзя понять по «пробнику», там дело в нюансах. Помню, как я «Учебник рисования» мурыжил два месяца или, там, «Террор» или «Багровый лепесток и белый» — неделями. Чтобы составить рубрику в «Афише» — четыре-пять книг на две недели — я все эти две недели и читал то, что отобрал, до конца читал.
— И все-таки время от времени вы пишете про какие-то книги?
— Именно что — «время от времени» и «какие-то». Это другой тип высказывания — не регулярный конвейер, не 24-часовая гонка, а отдельные «свободные заезды». Я не выдаю себя — теперь — за литературного критика.
— Вы понимаете, что на ваших статьях выросло поколение? Люди, которые не только начали читать, основываясь на ваших рекомендациях, но и писать рецензии, подражая вам?
— Мне некоторое время назад довелось поговорить с человеком — единственным моим ровесником, к которому я отношусь, можно сказать, с благоговением. Это Алексей Попов, я вот уже 25 лет смотрю его репортажи с «Формулы-1», он гениальный, великий комментатор. И я не удержался и спросил его: осознает ли он, что на его репортажах растет уже второе и чуть ли не третье поколение людей, для которых он и есть «Формула-1», которых он научил — буквально — понимать этот сложный спорт, привил к нему любовь и уважение. В моем случае — я прекрасно осознаю — успехи в миллион раз скромнее: возможно, я тоже придумал какую-то интонацию, которая легко копируется, но вряд ли научил кого-то любить современную литературу и объяснил, за что. Это люди и без меня в состоянии как-нибудь понять. И я всегда отлично осознавал, что когда пишешь о книгах, то должен соблюдать договор: самовыражайся сколько угодно, но объясни читателю, что такой-то писатель знает нечто такое, что мы, обычные люди, никогда без него бы не узнали, и нам следует уважать его за это — и испытывать благодарность по отношению к нему.
— При этом вы говорили в других интервью, что новому поколению нужна новая книжка про Ленина. Нет ли в этом дидактики?
— Книжная критика и книга о Ленине — разные типы работы, принципиально. Одно дело, когда общество платит тебе за то, чтобы ты сделал за людей, которым некогда этим заниматься, черную работу — отобрал хорошие тексты и отодвинул куда подальше трэш, не позволил ему сделаться литературным фактом. Это не такая уж сложная и не слишком масштабная работа — скорее даже ремесло, чем работа. Книга про Ленина — другая немного история. В случае с Лениным это было, скорее, желание исправить глубочайшую нелепость, парадокс. Когда человек, который создал — и неплохо справился — мир, в котором мы все живем, в общественном сознании транслируется через формулу «немецкий шпион», «всех попов расстрелять», «очистим Россию надолго», «гриб» — это колоссальная несправедливость, которая требует объяснения. Поэтому — да, в этой попытке ревизии феномена Ленина и его биографии, — помимо желания круто рассказать интересную историю, есть еще и задача исправить несправедливость.
— Антрополог Светлана Адоньева в книге «Дух народа и другие духи» называет Ленина главным «секретиком» нашей страны, проводя аналогию с детской игрой в «секретики». Как это соотносится с тем, о чем вы говорите?
— Тут важно, что этот «секрет» абсолютно общедоступен. 55-томник собрания сочинений, мемуары, протоколы съездов и конференций, «ленинские сборники» — пожалуйста, любой человек может стать ленинским биографом, «расколоть» Ленина. И я бы не сказал, что мало кто этим занимался — такие люди, ого-го. От Германа Ушакова, который сначала чуть не убил Ленина 1 января 1918-го, а потом стал его биографом, до какого-нибудь князя Святополк-Мирского, который сначала в 1924-м писал из Парижа для ханойских газет разоблачительные некрологи про красного Чингисхана, а потом прозрел, вернулся в СССР и стал ленинистом, сочинил огромную апологетическую биографию. Все эти люди — а их сотни и сотни, тысячи — очень любопытная компания. Мне страшно нравится, что хотя и сбоку припека — но я тоже один из них.
— То, что книга вышла в 2017 году, — маркетинговый ход?
— Все, что связано с Лениным, не продается в принципе, в силу аллергии постсоветской на это имя. Какой уж тут маркетинг. Это следствие моей медлительности. Книга должна была выйти году в 2013–2014 — но мне нужно было, чтобы высказывать свои мнения о нюансах ленинской биографии, нарастить базовые представления об эпохе, и это заняло кучу времени.
— Довольны ли вы результатом?
— Нет, конечно. Я думал, что в январе закончу работу и буду жить другой жизнью. Но нет, сижу и ищу ошибки — у себя. Есть люди, которые занимаются Лениным всю жизнь, как Владлен Терентьевич Логинов, главный лениновед: ему за восемьдесят, и он изучал Ленина всю жизнь. Мое представление о Ленине сформировалось в том числе и на основе исследований Логинова, он научил меня должному отношению к этой фигуре, объяснил — за что уважать Ленина. У него только что вышла новая книга, про Ленина после Гражданской войны, последние четыре года его деятельности. Он другого типа рассказчик совсем, у него другое «я» в его «лениниане» — но вот он может быть доволен своей книгой, а мне-то с какой стати? Так что если хотите оградить себя от рисков — надо читать Логинова. В этом смысле я считаю, что должен рекламировать его книгу, а не свою.
— Вас, кстати, теперь все чаще представляют как писателя, а не как литературного критика. Как вы сами себя определяете?
— Писатель — да, подходит. Литератор. Ленин называл себя — писал в графе «профессия» — «литератор». А как я должен себя определять — аудитор?
— Вы в своих интервью часто называете Ленина «клиентом». Что это за странная модель отношений между биографом и героем?
— Это не первая книжка-биография, которую я пишу. Под словом «клиент» в моем случае не подразумеваются торговые, меркантильные отношения: это долговременные, рабочие связи, не одноразовые. В какой-то момент они перерастают, конечно, в личные, возникает некая «химия». Даже если я сорок лет каждый день, допустим, читаю «Незнайку на Луне», все равно с Носовым таких отношений не возникнет. А с Лениным — да, безусловно. Ты начинаешь помещать своего персонажа в не свойственные ему контексты, начинаешь думать, понравился ли бы ему новый «Твин Пикс» или как бы он прокомментировал, например, этих «школьников Навального» — я думаю, он бы вычислил неизбежность их появления до того, как они полезли на площадные фонари. И это чувство, которое сохранится надолго, я думаю… Как с Прохановым — эта связь установилась, и я годами им интересуюсь, хотя за последние лет десять видел его один раз.
— Читаете ли вы рецензии на «Ленина»?
— Да — очень внимательно. Что пишут про «Клудж», мне плевать, в общем, это мои личные эссе, я сам знаю, чего стоят мои тексты, какие из них — чего, и мне более или менее все равно, какой им приписан статус и что о моей манере думают какие-то третьи лица. Однако книга о Ленине — это не набор историй про меня, и тут надо соответствовать хотя бы какому-то уровню — стандарту «ЖЗЛ», например, — а я любитель, я плюхнулся не в свои сани, что крайне самонадеянно. Я «искал» своего Ленина, потратил на изучение этой истории определенное количество времени и рассказал ее так, как понял. Я знал, на что шел, — ну и готов огрести за свой, возможно, дилетантизм, за то, что не могу в три часа ночи вскочить и, глаза не протерев, объяснить разницу между ППС-левицей и ППС Пилсудского (Польские социалистические партии. — примеч. «Прочтения»), например.
— А вообще сейчас нужна критика? И кому — читателям, авторам или самим критикам?
— Мне кажется, да: это важная часть литературного процесса. В конце 1990-х — начале 2000-х в издательствах было мало людей, которые умели не просто издавать (издавать в России всегда умели), а продавать, рассказывать о книгах, выкладывать на витрину. А сейчас научились. В издательствах работают не дураки, и любую ахинею они могут упаковать таким образом, что вы поверите: без нее жить нельзя. Поэтому — да, существенно, чтобы был противовес им, иначе этот дисбаланс будет работать против общества, которое проигрывает кучу времени от этой информационной асимметрии: издательства знают, что публикуют чушь, но молчат об этом, а за руку их никто не ловит. Выбор, который современная критика делает, в значительной мере зависит от того, что приходит в рассылке с маркером «Вышла главная книга тысячелетия». Про нее все и пишут. Это неправильно, критики должны сами задавать ритм этому оркестру — а не делать вид, будто задают. К сожалению, на самом деле от критиков мало что зависит: и писатель тебя не слушает, и читатель себе на уме, выбирает, услышав что-то по сарафанному радио или еще как-то. Но смысл все же есть, это неблагодарная, но не гиблая работа, и общество сейчас, возможно, более сильно, чем когда-либо, нуждается в фигуре посредника между читателями и бесконечным количеством книжного трэша, который валится и валится на головы. Кто-то должен проводить границы и говорить, что вот это — гнилье, а вот этот текст если упустите, потеряете полжизни.
— Нужно ли книги ругать?
— Хороший вопрос. Вот Алексей Попов, комментируя «Формулу-1», принципиально никогда никого не ругает — и вечно все удивляются: как же так, ну они ж не умеют ездить, вчера-права-купил, чего ж он про это молчит. Я вот тоже спросил его: надо ругать? И он ответил мне: все эти люди — как бы ужасно кто из них ни проехал в этой гонке, каким бы убогим это ни казалось, как бы мы ни смеялись, что он еле-еле с рулем управляется, — если в принципе оказались в «Формуле-1», значит, они величайшие мастера, гонщики экстра-класса, до которых обычных людям — как до луны, и к ним нужно относиться прежде всего с почтением и уважением.
Литература — не вся вообще, а уже отобранная тобой — это тоже как «Формула-1»: если уж вы пишете про тех или иных писателей, выбрав их из миллиона, то ваша роль в качестве критика — объяснить, почему они крутые, а не попинать их и сказать, что они двух слов связать не могут. Не могут — ну так зачем ты его отобрал? Мне не кажется честным самовыражаться за счет писателя. Да, я могу рецензией на полторы тысячи знаков угробить результат многолетней работы чьей-то — а ради чего? Литературный критик в нынешних обстоятельствах — прежде всего отборщик, и раз ты что-то отобрал — транслируй уважение, а не скепсис, цинизм и собственную крутизну, непонятно на чем основанную.
— Зачастую, если рецензия на книгу положительная, критика обвиняют в том, что он выступает на стороне издательства и пишет аннотационные, комплиментарные тексты. Что вы думаете на этот счет?
— Обвиняют — не обвиняют, кто обвиняет? Вам правда есть дело, что там непонятно кто про вас думает? Пиши-читай, зарабатывай репутацию — наверно, тогда не будут обвинять. Репутация зарабатывается годами. Гораздо подлее и отвратительнее — выбирать по пресс-релизам. «Главный роман XX века» — это Франзен. Да с какой стати. Напишите лучше про Сергея Самсонова, который для России в миллион раз важнее, чем Франзен. Быть рабом издательства — это как раз выбирать по пресс-релизам. Но Самсонова — это ж надо две недели его роман читать, жить им, поручиться за него своей репутацией и вкусом. Про Франзена проще, уж конечно.
— Нет ли какого-то диссонанса между читательскими предпочтениями, когда человек выбирает что покороче, и действиями авторов, которые неизменно предлагают толстые романы?
— Я прекрасно знаю, что объем среднего европейского романа — 380 страниц. Это форма, которая всем удобна — и читателю, и издателю. Но есть вещи, которые почему-то не укладываются, есть книги на 800 страниц, которые требуют от читателя невозможного — на месяц выпасть из жизни. Я и сам с этим тоже столкнулся — уже как автор. Я знаю, что мой «Ленин» читается плохо, тяжело. Там есть глава про II съезд РСДРП, я полсотни страниц о нем рассказываю. Я понимаю: очень сложно все это осилить; но мне кажется, что лучше человек бросит читать, чем я, автор, упущу это. Книжка о Ленине должна быть длинной, и если вам не понятно про его поведение на II съезде, то вы вообще ничего не поймете в этой фигуре и придете к тому, что Ленин — гриб, и прочей мути. Поэтому вот вам пятьдесят страниц — мучайтесь. Все можно сократить, много ума не надо, но важно загнать читателя в этот самый «лонгрид». Не просто обвести его меловой чертой, а построить вокруг него крепостную стену, из-за которой он точно не выберется в течение месяца.
— Совершаются ли революции в курилках? Другими словами, чтобы стать успешным, будь ты редактор или критик, нужно ли знать слухи, ходить на тусовки, участвовать в неформальных встречах?
— Я не знаю, насколько показательна моя история. Я ни разу не отказывался от предложений войти в жюри литпремий, поскольку это нормальная, важная, имеющая смысл, честная деятельность, но я никогда не ходил на литературные вечера, презентации, ужины и все такое. В конце 1990-х — начале 2000-х мне казалось, что все это чудовищно коррумпированный механизм, что толстожурнальные доны Корлеоне управляли процессом и все было распределено по знакомству, по ведомствам и известно заранее. Бунт Топорова, который создал «Национальный бестселлер», был направлен именно против этого. Он хотел сделать прозрачную премию не для китов и динозавров, которые несменяемы, как позднебрежневское политбюро, а для молодых людей, часто неизвестных или малоизвестных, для литературного пролетариата. Это сработало: именно такие авторы становились литературным событием. Если бы я ходил на все эти мероприятия и «знакомился», то, наверно, сделал бы другую карьеру. Но я за это время написал семь книг — благодаря тому, что пропустил семьдесят обедов. Я не жалею.
Сегодняшняя система уже коррумпирована по-другому, не через толстожурнальные институции, а через издательства. Сейчас издательства — главное зло. Не потому, что там злые люди сидят, а потому, что система заставляет их продавать дурные книжки, на которые «обычные люди» тратят жизнь.
— Может быть, критике нужен новый жанр, нужна революция?
— Ленин, кстати, был литературным критиком, и выдающимся. Он не был великим мастером художественного слова, как Троцкий и Плеханов, но он владел особенным типом критического высказывания, умел смотреть на тексты «с классовой точки зрения», демонстрировать, чьи интересы — каких общественных групп — сознательно или бессознательно выражает автор. Писатель, который отличается от обычных людей, который чует то, что обычные люди не видят в принципе, — он знает что-то такое об обществе, что может оказаться ценным для того, кто собирается общество изменить. Тот, кто научится — у Плеханова, у Ленина, у Троцкого, у Владимира Шулятикова, у Юрия Стеклова — читать современную литературу вот так, с точки зрения революционера, судить не только «стиль», не только — ах-насколько-же-это-похоже-на-Набокова, — тот и сможет изменить систему. Но, боюсь, сейчас никто так не умеет.
Фото на обложке интервью: MOLLY
Елена Васильева