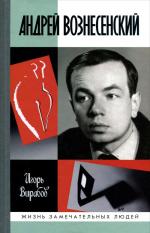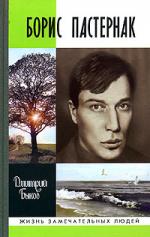- Марат Басыров. Сочинения. — Казань: ИЛ-music, 2017. — 462 с.
Проза Марата Басырова (1966–2016) — настоящий клад, который непросто отыскать среди многочисленных полок современной литературы. Автор ударом ноги открывает дверь, ведущую на нулевой, мистический, этаж реальности. В настоящий сборник вошли полярные по духу романы «Печатная машина» и «Жэ-Зэ-эЛ», а также «Божественные рассказы». Вот и все наследие, одобренное самим писателем, строгим к себе и безжалостным к своему читателю.
Убей в себе рыбу
Хочется дойти до сути вещей, проникнуть в их глубину.
— Ты ж рыбак, так? — говорю я.
— И что дальше?
— Женя не смотрит на меня, он занят.
— Какую самую большую рыбу ты поймал?
Мой напарник работает шуруповертом, ласковое прозвище «шурик», — металлический крепеж его стараниями с противным скрипом входит в дерево.
— Щуку — три восемьсот.
— На живца?
— На блесну.
— Ну-у-у-у, — тяну я окончание, делая вид, что разочарован.
— Чтоб ты понимал, — Женя тоже кривится, но презрительно. Мы словно два актера на сцене, у каждого своя роль. Я играю, он подыгрывает. Зрителей нет, но нас это мало колышит. Мы поборники чистого искусства.
— Если бы на живца, — продолжаю я подкалывать.
— Много ты в этом понимаешь! — повторяет он.
— Ни черта. Научи меня рыбачить.
— Давай еще, — не отвечая, он протягивает руку в перчатке, и я вкладываю в нее оцинкованный шуруп с шестигранной головкой. Брезентовая ткань перчатки задубела, Женя не успевает зажать шуруп. Он скользит по скату и, пролетев с десяток метров, исчезает в снегу.
— Сорвалась рыбка, — говорю я.
— Мы так весь крепеж похерим, — беспокоится мой напарник. — Будем потом в снегу ковыряться.
— Так ты ж держи, — я лезу в карман куртки за новым шурупом. Вынимаю все, что есть. — На, чтоб больше не передавать.
Вся горсть весело звенит по крыше. Для апло- дисментов это жидковато, скорее, напоминает зубовный скрежет.
Женя изумленно глядит на меня.
— Тихо, спокойно, — предупреждаю я. — Только не ори.
Ухватившись за привязанную к кирпичной трубе веревку, я начинаю спускаться по скату. Перебирая руками, сползаю вниз по оцинкованным листам, к самому краю, куда прислонен конец деревянной лестницы. Кровля гладкая, только торчат крепежные головки.
Ногой нащупываю верхнюю перекладину. Затем следующую.
— Женя! — кричу я наверх. Из-за конька со стороны противоположного ската появляется голова в зеленой вязаной шапке.
— Ну?
Я отпускаю веревку и перехватываюсь за лестницу. Мне хочется сказать ему что-то ободряющее, но я не нахожу нужных слов.
— Держись, — говорю я.
— Давай быстрее, — просит он. — Холодно тут сидеть.
Да, холодно, это правда. Мороз градусов за двадцать. Мы тут пятый день. Сегодня должны закончить, и завтра — домой. Оттого у меня прекрасное настроение, хотя я замерз не меньше Жени.
Я оббегаю дом, отхожу на несколько метров, чтобы скат открылся мне весь.
Женя сидит на самом верху, на маленьком прямоугольном островке обрешетки. Осталось положить последний лист, чтобы ее закрыть.
— Красота, — говорю я, любуясь ровными кровельными рядами. Ниже ярко горят гроздья рябины — единственного деревца, которое удалось сберечь вблизи строительства.
— Ну, чего ты там вылупился? — кричит Женя. — Тащи крепеж!
Он заикается, но когда кричит, это не заметно.
Я захожу в баньку, где мы живем, и шарю под полоком в поисках крепежа. В маленьком помещении натоплено, ярко горит электрический свет. Не найдя ничего похожего, я снова выхожу на мороз.
— Нету там крепежа! — кричу я Жене.
— Не может быть!
— Может!
— Тогда ищи там, куда уронил! — взрывается он.
Я уронил, ага. Вот сволочь. Умеет все вывернуть наизнанку. Так, спокойно. Примеряясь взглядом, я подхожу к дому.
Снег возле стены утоптан, везде разбросан разный строительный хлам. Попробуй, найди тут хоть что-нибудь.
— Ну что? — Женя, похоже, и правда, замерз.
— Трех хватит? — я нахожу только три шурупа. Остальные куда-то сгинули.
— Четыре! Как минимум!
Больше нет. Хватит ему трех! Но, зная Женю, я шарю по карманам, и нахожу еще один. Последний, контрольный, пиф-паф ему в голову!
Обогнув дом, подхожу к лестнице. Деревянные перекладины скрипят под моим весом. Женя тяжелее меня, под ним они стонут. Забравшись наверх, я хватаюсь за веревку и встаю на скат. Перехватывая руками, делаю шажок и поскальзываюсь.
Сбитая моей ногой лестница исчезает из поля видимости. Как будто ее не было.
Ошеломленный случившимся, я добираюсь до конька.
— Принес?
Женя аккуратно принимает у меня крепеж, прячет в карман. Затем вытягивает из-под обрешетки последний лист. Выгибаясь, металл издает клекот гусиного косяка, словно прощаясь с вольной жизнью.
Надо ему сказать о лестнице, но я почему-то молчу. Мне не хочется сейчас портить себе настроение. Это глупо, но не в этом ли желании проявляется моя суть?
Женя обвязывается веревкой и спускается ниже, выравнивая лист по ряду. Я рулю, сидя на коньке.
— Как там у тебя? — спрашивает он.
— Нормально, — отвечаю я.
— Тогда держи.
Я держу. Женя вгоняет шурупы.
— Ну вот и все, — приторочив к поясу инструмент, он ползет по веревке ко мне. Если бы.
— Женя, — говорю я.
— Лестницы нет.
— Как нет? А где она?
— Упала.
Он делает резкое движение и шуруповерт срывается с пояса. Нехотя едет вниз с противным звуком, потом бесшумно исчезает.
— Бля-а-ать! — кричим мы будто ошпаренные, проявляя завидное взаимопонимание.
Сейчас начнется!
Садоводство. Середина декабря. Вокруг ни души — елки, сосны и снег. Много снега, много елок. Над головой — небо, похожее на замерзшую грязь. До земли — метров двенадцать. Мы на вершине этого затерянного мирка.
Женя выпаливает в морозный воздух целую тираду, но если опустить набор матерных выражений, то от нее останется лишь пара невнятных предложений. В основном касающихся моей персоны.
— Ну не расстраивайся, — пытаюсь я его успокоить. — Что такого страшного произошло?
— Что произошло?! — он таращит глаза и вдруг на- чинает давиться словами. Его лицо краснеет, он становится похож на большую рыбину, вытащенную на берег. И до меня доходит безвыходность ситуации.
Если разложить по пунктам:
1. Мы не можем спуститься по приставной лестнице, потому что она упала;
2. Лестница есть в доме, но нам туда не попасть;
3. У нас нет шуруповерта, который необходим, чтобы открутить лист и проникнуть внутрь;
4. Темнеет;
5. Теплее не становится;
— то получается: мы в ловушке.
— Ты во всем виноват! — к Жене возвращается способность говорить.
Я не спорю, хотя и не совсем с этим согласен. Во-первых, не во всем. Во-вторых, проще обвинить кого-то одного вместо того, чтобы разделить вину. Я тоже могу сослаться на скользкую кровлю, например. На изготовителей, заказчика, хозяина участка, наконец. Только начни искать крайнего и сразу появится масса вариантов.
— Что будем делать? — спрашиваю я.
Женя не отвечает, да я и не жду ответа. Единственное, что нам остается, прыгать вниз.
— Ноги поломаем или, еще хуже, свернем шеи, — возражает напарник.
Это правда. Зато другой спустится нормально.
— Каким это образом? Если первый покалечится, второй так и останется сидеть на крыше.
И тут он прав.
— А если спуститься по веревке? — снова предлагаю я. Женя думает, потом мотает головой.
— Не хватит. У нас в запасе метров шесть, а это только до края ската.
Мне опять нечего возразить. Если же спускаться со стороны фронтона, то там еще больше высоты. Сами фронтоны глухие, а до окон второго этажа — метров пять. Плюс те же пять метров от трубы до края конька. Труба расположена ровно посередине — как математическая насмешка над альтернативой.
Меня начинает пробирать мороз. Он старается вовсю, будто хочет дойти до самой глубины моей сути. Скоро стемнеет, и тогда ему на подмогу придет кромешный мрак. Взявшись за дело, они быстро разберутся, из чего мы сделаны. Быстро поймут, что кроме жалкой трясущейся плоти внутри нас ничего нет.
Женя берет в руки веревку.
— Ты куда? — в мой голос пробивается дрожь.
— Посмотрю, что там, — отвечает он так, словно речь идет о неведомом, о сокрытом.
— Только, пожалуйста, не прыгай, — прошу я его, глядя, как он по веревке медленно скользит по скату. Мне страшно оставаться одному. Мы находимся в нелегком положении, но мысль о том, что может быть еще хуже, вселяет ужас.
Женя на самом краю встает на колени и, выгибаясь, смотрит за спину вниз.
— Я вижу шурик! — радостно кричит он. — Висит на рябине, родненький!
Вот это новость! Но как же его достать? Однако мне уже передается его возбуждение.
Забравшись на конек, Женя пробирается к трубе, отвязывает веревку. Потом снова возится, пыхтит, и вот уже в его руках кусок проволоки, которой мы крепили металлический профиль. Женя складывает ее вдвое, скручивает и выгибает в форме крючка. Затем продевает веревку, и снасть готова.
— Ты хочешь его выловить? — с сомнением спрашиваю я.
— А ты что предлагаешь? — последнее слово дается ему с трудом. Он снова начинает заикаться.
— Разве хватит веревки? — продолжаю я в том же духе.
Женя смотрит на меня. Нос от мороза посинел, на его кончике балансирует мутная капля.
— Перегнешься через конек и возьмешь меня за ноги, — говорит он, глотая гласные. — Так мы выиграем пару метров.
Слушая его, я представляю конструкцию, и отрицательно мотаю головой.
— Даже не думай, что я соглашусь!
— У нас нет выхода, — он, как лассо, наматывает веревку на локоть.
— Даже не думай, — повторяю я.
Женя опускает руки.
— Ну хорошо. Тогда давай отморозим себе яйца. Давай заледенеем на этой ебаной крыше!
— Зато я не буду виновен в твоей смерти.
— Ты уже виноват в том, что сейчас происходит!
Опять он за свое. Ну что ж, делать нечего…
— Ладно, — соглашаюсь я и тут же выставляю свое условие. Держать будет он, так будет справедливее. Женя недовольно качает головой.
На том и решаем. Но сначала я должен посмотреть, как висит шурик. Мы снова перевязываем веревку, и теперь настает моя очередь.
В потемках снег на земле кажется близким, и у меня возникает непреодолимое желание, разжав пальцы, спрыгнуть вниз и враз разделаться со всем этим. В то же время, мне вдруг кажется, что даже если все пройдет удачно, кошмар не закончится. Начнется другой, пострашнее этого, из которого уже не выберешься.
Шурик висит на ветке, застряв в ее рогатке. До него метра два. Я прикидываю, куда и как мне бросать, чтобы попытаться снять его с дерева, но, честно говоря, почти не верю в успех. Эта затея кажется провальной, стоит только представить мои дальнейшие манипуляции.
Никогда мне не везло с рыбной ловлей. В детстве отец иногда брал меня поудить, — сам он был заядлым рыболовом. Отец настраивал снасти себе и мне, мы забрасывали лески в воду, и начиналась потеха. У него клевало, у меня нет. Мы менялись местами, удилишками, головными уборами — ничего не помогало. Он тянул одну за другой — я тоскливо глядел на неподвижный поплавок. В этом мог быть как момент ущербности, так и избранности. Отец поглядывал на меня сочувственно и с некоторой досадой. Я понимал его, но и только. Мне хотелось плакать от обиды, что я — такой.
Как некстати приходят эти воспоминания! Там, на берегу тихой реки я был обласкан солнцем и родительским вниманием, а здесь мороз уже сковал меня с ног до головы. Но на глазах — те же слезы.
Первый же заброс показывает, насколько я неопытен в этих делах. К тому же, когда я выбираю веревку, крючок цепляется за металлический край.
— Ну что там? — хрипит Женя, вцепившись в мои ноги.
Понятия не имею, как я буду вытягивать шурик на крышу, даже если мне и удастся его зацепить. Но я говорю:
— Все нормально.
Женя кряхтит, крепче сжимая меня под икрами.
Я снова забрасываю. Потом еще раз. И еще.
На шестой или седьмой раз мне удается что-то там зацепить.
— Клюнуло, — говорю я.
— Что? — отзывается Женя сверху.
— Клюнуло, говорю! — я легонько натягиваю веревку.
— Погоди, не торопись! — он вдруг ослабляет хватку, и меня охватывает ужас.
— Держи! — ору я.
Он снова сжимает пальцы.
— Держу, не бойся. Ты полегоньку выбирай. Не дергай, иначе сорвется.
— Ты смотри, чтобы я не сорвался! Это главное, что должно сейчас тебя волновать.
— Ладно, ладно. Давай, тяни.
Я аккуратно начинаю подтягивать. Вот ведь как: впервые в жизни у меня клюнуло, я ощущаю приятную тяжесть, как натягивается моя леса. Меня охватывает подобие азарта.
— Только не упусти, — бормочет Женя, так же с силой сжимая мои ноги.
Что там происходит внизу, я не вижу. Только чувствую, что-то происходит. До сих пор не поймавший ни одной рыбешки, я понимаю, что первая — самая важная.
Это похоже на наваждение, и оно заканчивается так же внезапно, как и появилось. До меня доносится слабый звук, очень похожий на тихий всплеск воды. Веревка ослабевает.
— Что? — глухо спрашивает Женя. У него какой-то безжизненный голос.
— Держи меня. — Мне кажется, что он сейчас легко может меня отпустить.
— Сорвалось?
— Пожалуйста, вытяни меня, — прошу я.
— Сорвалось? — повторяет он вопрос.
— Вытяни! — не выдержав, ору я, упираясь ладонями в металл, и выпускаю веревку. Она медленно, как змея, ползет по скату и исчезает…
Я не знаю, сколько времени мы уже тут сидим. Время остановилось. Нет ничего, кроме тьмы и нечеловеческого холода. Если еще недавно вокруг был целый мир, то теперь он исчез. Мы летим в абсолютной пустоте — куда, непонятно. И если нас никто не ждет — какой смысл полета?
Самое время подумать о Боге. Позвать его, например. Когда звать больше некого, зовут Его.
— Женя, — окликаю я напарника. Он сидит метрах в трех от меня — неподвижно, скованный немотой. Кажется, он не слышит.
— Живой? — повышаю я голос.
— Чего тебе? — отзывается Женя.
Я хочу спросить у него, верит ли он в Бога. Знает ли он молитвы?
И тут меня подбрасывает. Мы знакомы лет восемь, а я ведь ничего о нем не знаю!
А что я знаю о себе? Верю ли я сам?
Помня Отче наш наизусть, мне кажется, что я никогда не произносил молитву как нужно. Выучив однажды, чтобы просто знать, у меня до сих пор не было возможности обратиться непосредственно к Нему.
Я напрягаю память, вспоминая слова. Потом начинаю про себя:
«Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли…»
Женя начинает шевелиться, как Будда, выходящий из нирваны.
— Я прыгну, — вдруг говорит он.
— Что?
— Больше ничего не остается.
Я ошеломлен таким действием моей молитвы.
— Ты с ума сошел! — едва не ору я. — Ты не сделаешь этого!
— Сделаю, — спокойно отвечает он.
— Подожди, подожди, — я почти умоляю. Больше не знаю, что сказать. Мне нужно что-то сказать, чтобы отговорить, но я не могу сосредоточиться.
— Нечего ждать. С каждой минутой мы замерзаем все больше.
— Нет!
Женя не отвечает. Я вижу, как он готовится съехать вниз. Вытягивается в полный рост ногами вниз, держась на вытянутых руках за край конька. Шумно дышит.
— Сейчас приедет хозяин! — кричу я, боясь, что он разожмет пальцы, как только я начну приближаться к нему. — Я знаю, поверь мне, машина уже едет!
— Если что-нибудь случится, ты следующий, — говорит Женя и начинает съезжать вниз.
«Господи!» — ужасаюсь я и неожиданно для себя начинаю бормотать вслух:
— Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша…
Сползая вниз, Женя цепляется поясом за головки шурупов. Чертыхаясь, возится с ними.
— Якоже и мы оставляем должникам нашим… Напарник кряхтит уже у самого края.
— И не введи нас во искушение, но избави от лукавого…
Затем я слышу крик и звук мотора.
Или мне кажется, что я это слышу.
Ночь стоит такая морозная, и такая пустая.
Аминь.