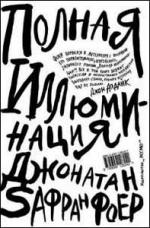- Серия: Латинский квартал
- Перевод с португальского А. Богдановского
- Эксмо, 2006
- Суперобложка, 256 с.
- ISBN 5-699-16226-7
- Тираж: 5100 экз.
Детективы читают, чтобы развлечься. В поездах, самолетах, на курортах или дома, удобно устроившись в любимом кресле, — в часы досуга. Детективы расслабляют. Они прочно ассоциируются с отдыхом. После тяжелых и напряженных будней человек тянется к детективу в надежде отвлечься от повседневных проблем. Между тем существуют по крайней мере две причины, позволяющие поставить под сомнение все вышесказанное.
Во-первых, детектив требует от читателя участия в разгадывании головоломки, созданной автором. Следовательно, для того чтобы читать детектив, необходимо уметь логически мыслить.
Во-вторых, почти в каждом детективе речь идет о смерти. Детектив должен начинаться с убийства, таков закон жанра. Но, как ни странно, смерть, описанная в детективе, не отпугивает читателя и не наводит его на мрачные мысли. Таков один из главных литературных парадоксов. Читателю некогда думать о том, что кто-то был убит, он хочет угадать имя преступника, прежде чем дойдет до последней страницы.
Помните, как в фильме о Шерлоке Холмсе Майкрофт хладнокровно спрашивает у сыщиков: «Чесночный соус?» И Ватсон торопливо отвечает: «Да-да, чесночный соус. Чтобы отбить запах опиума». Для Ватсона гораздо важнее, что тайна раскрыта, а о человеке, который был отравлен, он почти не думает.
«Безмолвие дождя» Гарсиа-Розы слегка отличается от традиционного детектива. Автор понимает, что читатель захочет сыграть с ним в игру «Угадай, кто», и умело ставит ловушки для слишком азартно настроенных лиц. Детектив необычен, потому что читателю здесь известно гораздо больше, чем главному герою книги — инспектору Эспинозе. Пока незадачливый инспектор скрупулезно проверяет все ложные версии, читатель чувствует, что сам-то он уже на верном пути и почти готов назвать главного злодея. Но кандидатов слишком много. Читатель знает больше, чем инспектор, но все же он знает не все. Приходится гадать на кофейной гуще. И когда на последней странице все становится на свои места, читателю остается только развести руками и признать, что в своих догадках он ушел не дальше Эспинозы.
Книга Гарсиа-Розы вышла в серии «Латинский квартал». Место действия романа — Бразилия. Это означает, что помимо увлекательного сюжета нас ждет еще и интересное путешествие.
Если кто-либо из читателей краем глаза видел кусочки из какого-нибудь бразильского сериала (а быть может, некоторые видели сериалы целиком), то он наверняка поразится различиям между Бразилией из мыльных опер и Бразилией Гарсиа-Розы. У Гарсиа-Розы Бразилия — страна, где жить далеко не безопасно. И хуже всех приходится, конечно, полицейским. Нет современного оборудования, чтобы сделать профессиональную экспертизу, нет крепкой поддержки — на опасные задания приходится отправляться в одиночку. И главное… нет хороших полицейских.
Знаменитый инспектор Эспиноза слишком слабохарактерен и тяжел на подъем. Его никак нельзя назвать суперменом. Ошибка за ошибкой, и в итоге увеличивается число жертв. Кто виноват? Инспектор. Подобный герой — еще одна интересная находка Гарсиа-Розы и еще одна любопытная деталь, которая делает «Безмолвие дождя» необычным произведением.