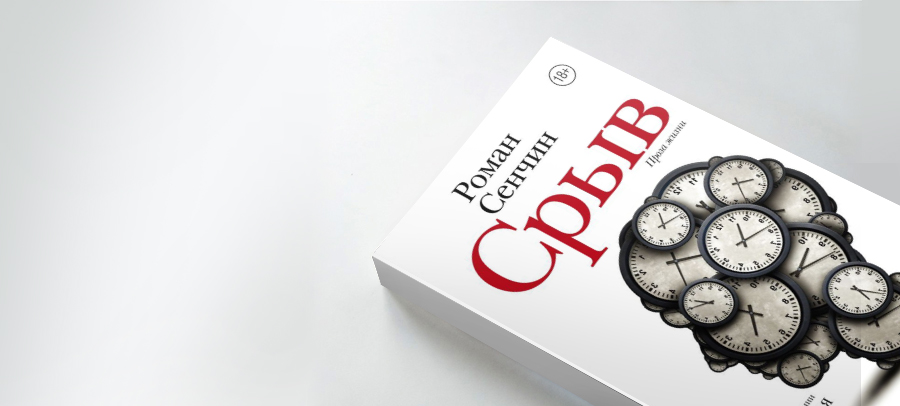- Антуан Володин. Бардо иль не Бардо / Пер. с фр. В. Кислова. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2017. — 256 с.
ХХ век не остался позади. Он непременно должен был закончиться концом света: слишком уж много страшных событий принесло прошлое столетие. Распадаясь на призрачные голоса, оно остается в каждом, как полузабытый ночной кошмар.
Переводчик с русского и с языка призраков, Антуан Володин появился в 1985 году. Человек, называющий себя этим именем, — примерно в 1950-м.
Оба они выбрали направлением творчества постэкзотизм. «Пост» вовсе не означает, что явлению предшествовал экзотизм без приставок. Это, скорее, передает своеобразную концепцию мира, кое-как собранного на руинах ушедшего. Постапокалиптическое мышление постэкзотизма отменяет привычные системы координат: нет больше национальности, времени, религии, гендера, жанра.
Их коллеги по перу, Мануэла Дрегер, Лутц Бассман, и даже Элли Кронауэр, автор историй про героев с непривычными западному читателю именами — Ilia Mouromietz, Aliocha Popovitch, также причисляют себя к постэкзотистам.
Все их произведения вполне умещаются в рамки магического реализма, а все эти писатели — заключены в одно тело.
Тем не менее множественные умы человека, творящего под всеми этими псевдонимами, создают «иностранную литературу на французском языке», литературу непростую для восприятия, как недавно вышедшая в отечественном переводе «Бардо иль не Бардо».
«Бардо Тхёдол» — тибетская книга мертвых, путеводитель для усопших. Монахи читают ее в течение семи недель перехода сознания между мирами, и потому книга принципиально диалогична: это наставление умершему.
Основу священной книги «Бардо Тхёдол» составляет знание: на каждом из этапов монах объясняет покойному, что с ним происходит. В романе Володина же, напротив, изначальная заданность действий сменяется хэппенингом. Само повествование строится на границе двух литературных родов — эпоса и драмы. Антуан Володин включает как отдельные драматические элементы (к примеру, ремарки), так и вставные тексты, обозначенные как «бардические пьесетты».
Семь историй, составляющих книгу Володина, так или иначе связаны с переходом в Бардо. Но главной проблемой романа становится не смерть героев и даже не пресловутая смерть автора — «Бардо иль не Бардо» провозглашает смерть диалога.
Антуан Володин часто вводит в повествование героя-комментатора, периодически подменяющего повествователя. Эта роль может достаться и журналисту, получившему донельзя скучное задание — передавать репортаж из мира мертвых, и женщине-птице, «должно быть, исследовательнице из другого сна»:
Ее звали Мария Хенкель, как и меня. И находилась она там для того, чтобы описывать действительность, а вовсе не для того, чтобы стать ее частью.
Комментатор необходим, чтобы внести хоть какую-то иллюзию объективного взгляда со стороны на мир разрозненных голосов. Герои не слышат друг друга: они дублируют фразы, говорят что-то в пустоту. Важным становится не смысл сообщения, а сам факт говорения, возможность быть услышанным — но чаще всего непонятым.
Чтения и песнопения рассыпались на отголоски, которые не удавалось ни воспринимать, ни связывать воедино. Текст был неживой, он не отсылал ни к чему узнаваемому и представлял собой тотальную муть, чья невнятность страшно огорчала слушателей.
Сообщение искажается в процессе передачи. Это может происходить намеренно, если так хочет говорящий. Жертва насилия вместо «Бардо Тхёдол» произносит обвинительную речь, чтобы причинить посмертные страдания своему мучителю. Пьяный клоун, упростив священную книгу до комического выступления, напротив, пытается адаптировать текст, чтобы умерший товарищ лучше его понял. Главным становится намерение, а не его реализация. Так, в открывающей книгу истории двое стараются удержать в сознании умирающего коммуниста. При этом один читает «Бардо Тхёдол», другой — «Изысканные трупы», антологию сюрреалистических тирад:
— Когда ты предстанешь перед Чистым Светом, — вещает Друмбог, — не отступай, не отступай ни на йоту, думай лишь о том, как с ним слиться, иди к нему и растворись в нем, ни о чем не жалея.
— По карельским стрекозам артиллерист выбирает тину, — читает Штробуш. — Если любовь уходит, красивая пианистка строит волшебную хижину… Повторяю… Если любовь уходит, красивая пианистка строит волшебную хижину…
Они читают на ухо Коминформу.
Даже когда его сердце останавливается, они продолжают читать.
Нарочитая искусственность, абсурдность происходящего служит отражением внутренних переживаний героев: подобно Бардо, это одновременно и мир, и состояние. Невозможность слышать и быть услышанными напрямую связана с проблемой самоидентификации героев. «Еще не мертвые, но, без сомнения, тронутые», с необычными именами Фрик, Шлюм, Пюффки, Коминформ, герои Володина, чем только не занятые в странной своей повседневности (от убийств до еженощных разговоров со зверями в зоопарке), все как один маргинальны, потеряны и бесконечно одиноки:
Получеловек, полуживотное. Все такие. Ты, я… Ведь я тоже… Я не могу на сто процентов быть уверен, что я личность. Откуда мне знать.
На смену собственному «я» приходит «мы». Множество отдельных голосов сливаются в гудящий хор, ведь услышать историю каждого — слишком страшно.