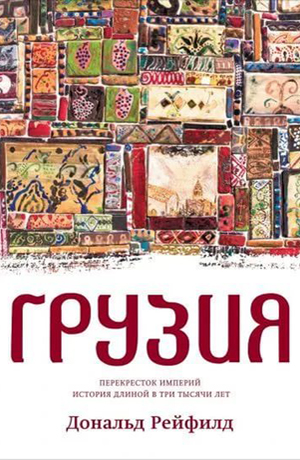- Сергей Самсонов. Соколиный рубеж. — М.: РИПОЛ классик, 2016. — 704 с.
За «Соколиный рубеж» Сергей Самсонов получил премию «Дебют» в 2016 году, а в нынешнем — произведение номинировано на «Нацбест».
Великая Отечественная. Красные соколы и матерые асы люфтваффе каждодневно решают, кто будет господствовать в воздухе — и ходить по земле. Счет взаимных потерь идет на тысячи подбитых самолетов и убитых пилотов. Но у Григория Зворыгина и Германа Борха — свой счет. Свое противоборство. Своя цена господства, жизни и свободы. И одна на двоих «красота боевого полета».
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ДАЛЬШЕ БУДЕМ ГОСПОДСТВОВАТЬ МЫ
1
Я убит? Я воскрес? Как я здесь очутился? Где я? Каждый немец на всем протяжении фронтов от Полярного круга до Ялты задавал себе те же вопросы. Что же с нами случилось? С нашей армией, гением, силой? Почему ничего до сих пор не закончилось и не видно конца? Сколько кружев сплели в украинских степях и на русской равнине остроумный фон Клейст и живущий движением Гудериан, управляясь с армадами танков, как с одною машиной. Их рокадные перемещения, клещи, вальсирование дали нам цифры русских потерь в шесть нулей, и за взятыми с боем Смоленском и Вязьмой уже не забрезжила — засияла победа. Впереди нет врагов, позади — эшелон, груженный не шинелями, не глизантином для обындевелых танковых моторов, а циклопическими плитами коричневого финского гранита для создания идола фюрера в центре Москвы. И вдруг все споткнулось, остановилось в понимании, что под Москвой что-то сделалось нечеловечески не так; что выходного напряжения в катушке Альфреда фон Шлиффена1 впервые не хватило — перевалить широкий бруствер из тел последних русских ополченцев оказалось трудней, чем Арденны. В безукоризненно отлаженных часах перестала вращаться секундная стрелка, а минутная и часовая вообще предусмотрены не были. В нашем слое реальности — в небе — наша волчья эскадра сожгла свыше тысячи русских машин всех пород, став для сталинских соколов именем силы, воплощением божьего гнева и неотвратимой судьбы, но на русской земле… опустившись на землю, оказавшись среди офицеров пехотных дивизий, панцерваффе, армейских штабов, мы хотели услышать от них объяснение «всего».
Говорили, что русские с первых же дней стали драться с упорством зверей, ощутимым еще на границе, под Брестом, и вышедшим далеко за пределы немецкой шкалы измерений под Ельней — наподобие русских же отрицательных температур. Говорили, что бросить танки Гудериана на юг, в тыл группировке красных войск, упершихся под Киевом, было не гениальным маневром, а критическим промахом фюрера, — из-за этого мы потеряли динамику на направлении главного удара.
Впрочем, в поезде Днепропетровск — Симферополь мне привелось столкнуться с Рудольфом фон Герсдорфом, прусским юнкером и штабником 1-й танковой группы фон Клейста. В Мировую войну отец его сражался под началом моего. Так вот, этот сумрачный умник, похоже, начитавшийся Толстого, был уверен, что Хайнц-ураган просто физически не мог не повернуть своих танкистов к югу, как бы он ни противился этому всем естеством и огромнейшим опытом. Нацеленная на Москву стремительная красная стрела на деле соскользнула с Ельнинского выступа сама — и как раз потому, что уперлась в то самое озверелое сопротивление русских. Старина Хайнц хотел уберечь своих Кriegskameraden2, драгоценные жизни германцев, в то время как Сталин людей не жалел, в то время как русские сами себя не жалели. Гекатомбой под Киевом Сталин закупил себе главное — время и зиму.
О зиме говорили отдельно — как о некоем живом существе, божестве, высшей силе. Говорили, что наши потери от холода, санитарные и безвозвратные, много больше, чем от боевых действий красных: солдаты вермахта в пошитых им вдогонку тоненьких шинелях и подбитых гвоздями юфтяных сапогах промерзают до аспидной черноты рук и ног; мозг под железной каской цепенеет, и не спасают даже теплые подшлемники — кто заснул на посту, тот уже не проснется. Танкисты жгут покрышки под легкими бензиновыми «майбахами», чтобы завестись, и все, от рядовых до оберстов, выпрыгивают из штанов, лишь бы где-то разжиться овчинными тулупом и русскими валенками, — обдирают туземцев, отнимая у них меховые, подбитые ватой, пуховые вещи, расхаживают в женских горжетках и манто, с упрятанными в муфты издрогшими руками, превратившись из победоносных элегантных солдат — покорителей Франции, Бельгии, Польши в дикарей, оборванцев, обрядившихся в шкуры, вызывающих ту же брезгливость, что и русские пленные.
Мы-то жили в раю даже этой зимой: невзирая на климат и убожество русских дорог, убивавших трехосные «мерседесы» и «опели», отдел IVA снабжал нас белым хлебом, говядиной, яйцами, сливочным маслом, концентрированным молоком, консервированной ветчиной и сосисками; после каждого вылета нам полагалось по 25 граммов настоящего кофе, прессованные с сахаром орехи, вяленые финики, миндальные бисквиты, шоколад. С сигаретами, шнапсом, вином тоже полный порядок, а солдатам на передовой даже вымерзший хлеб доставлялся со скрипом.
Фон Герсдорф был сдержан и предупредителен — не то что армейские, заеденные вшами, намерзшиеся в снежных окопах офицеры, больные, желтолицые, измученные неврастеники. Они теперь не слишком привечали нас: в условиях тридцатиградусных морозов наши теплые цигейковые куртки, ватиновые бриджи и унты с электроподогревом вызывали на их обезжиренных лицах гримасы видовой, попрекающей зависти, словно мы свои комбинезоны у них, земнородных, украли.
В феврале мы с Баркхорном, Гризманном и Курцем получили непрошеный отпуск в Крыму и, направляясь на вокзал, столкнулись с ползучей вереницей наших гренадеров: конъюнктивитные глаза, ввалившиеся щеки, грязно-щетинистые, сизые, обморожением тронутые лица, натыканные под шинель газеты и солома, отвернутые на уши пилотки, обвязанные бабьими платками, как при зубных мучениях, черепа; кое на ком и вовсе были лапти — чудовищных размеров самодельные плетеные из лыка снегоступы. Все это вызвало у нас брезгливый стыд, хотя стыдиться надо было за гений фюрера и нашего Генштаба: кто полагал, что силы заведенной в вермахте пружины достанет, чтобы обогнать вот эту зиму?
Впрочем, я даже не сомневался, что все было задумано, отлажено, заведено и шло, как безотказные часы, в которых каждый муравьиный батальон сжимал свою пружинку так, как надо, но то, что двигалось навстречу нам, ледник, было много сильнее и больше рационального железного завода, и русская температурная шкала, безмерное упорство их солдат — всего лишь частности того природного закона, по которому зимой 41-го года в Москве нам не быть. Иными словами, я разделял толстовский фатализм фон Герсдорфа: все сделалось так, как оно обстоит, не в силу близорукости немецкого Генштаба и неистового самовнушения вождя, а вопреки всем нашим концентрическим ударам и абсолютному воздушному господству.
Впрочем, разве не в этом весь смысл? говорил я себе. Пересилить великий природный закон, который начинает действовать в России, едва в ее пределы приходят убивать и властвовать чужие? Но в ту минуту, когда я смотрел на наших гренадеров, я понимал и чувствовал иное: все фронтовые муки проступали на их облезлых лицах рвущейся в тепло собачьей мордой, а в иных глазах не было даже умоляющей боли и надежды протиснуться между заборных досок на сухую подстилку и к сытной кормушке. Пристывшие взгляды немецких солдат уже не выражали ничего, кроме животного приятия неизбежного и угасания самосознания, когда не то что смысл «всей войны», но даже собственная участь безразлична.
На подступах к Москве, рассказывал фон Герсдорф, бескрайние поля однообразных снежных холмиков, из которых торчат заметенные каски, костяные носы и головки подбитых гвоздями сапог, руки-ветки со скрюченными пятернями и босые ступни сине-черного цвета. Мы достигли предела: германцы не хоронят своих мертвецов.
Я зашел в Ботанический сад у подножия Яйлы: на острых листьях пальм лежали снежные нашлепки — еще не виданная странность, не объяснимая чернорабочей пользой красота. Тишина зимней Ялты оглушила меня: мостовые, ограды, фонари променада, свинцовое море — все было застлано легчайшей, недвижимой сизо-молочной дымкою какого-то предродового бытия; очертания и краски стирались, дневной и ночной свет как будто слились воедино — нереальный, затягивающий в созерцание мир, оттого еще более фантастический и непонятный, что вокруг были самые обыкновенные сооружения для жизни.
Я замирал перед чугунными водоразборными колонками, перед витринами смешных провинциальных фотоателье и даже перед уличными фонарями, не в силах вспомнить ни предназначения, ни названий всех этих осязаемых предметов. Так ощущает себя, верно, выздоравливающий, выходя из больничной палаты на волю и ничего не узнавая в мире, ничуть не изменившемся за время его сражения со смертью. Ковыляющие по бульварам солдаты уже не служили войне, угодившие в этот межеумочный мир и свободные от «Zu Befehl!»3, открепленные ото всего ледяного, железного, что держало их жизни когтями так долго.
Я ощущал себя обложенным предохранительною ватой, словно елочный шар, снятый с ветки и убранный в ящик до новой Вифлеемской звезды. Бродил по бульварам, выбирал себе девушку на ночь и думал обо всем, что сказал мне фон Герсдорф.
— Вы, Герман, не живете на земле и потому вы ничего не видите. — Его холеное лицо преобразилось, как будто обданное тусторонней стылостью, не русским морозом, а чем-то… он даже будто бы еще не побывал «там», а только заглянул «туда» и сразу же отпрянул от повеявшего. — Есть нечто, что много страшнее и русских морозов, и русских ресурсов, которые у них поистине огромны. Мы ожесточили их всех. Не одних только красных фанатиков — всех. За каких-то полгода. Когда мы только вторглись в Белоруссию и Украину, миллионы простых беспартийных крестьян и рабочих, обывателей, интеллигентов, попов еще видели в нас непонятную силу, а иные — и освободителей от большевистской проказы. Они еще не понимали, что мы им несем. Может быть, перемену рабской участи на… на какую-то лучшую. Все убитые мирные жители — при обстрелах, бомбежках, я имею в виду, — эти жертвы еще можно было бы объяснить неизбежностью: Krieg ist Krieg4 и подобными пошлостями. Мы расстреливали комиссаров и всех большевистских партийцев — это было бесчестно, но еще поправимо. Как я уже сказал, на коммунистов многим русским наплевать. Иные крестьяне, которых лишили земли и скота, и сами ненавидят эту власть. Но мы взялись за очищение этой территории от евреев… хоть безобиднее народа я не знаю — экономный, пугливый, травоядный народ, всегда так трясшийся за собственные жизни, все эти жалкие старьевщики, часовщики, портные, счетоводы. О, вы, воздушные счастливцы, не представляете себе и сотой доли тех масштабов… А я лично читал послания начальников айнзатцкоманд: они просили у меня солдат, они хотели, чтобы мы занялись их… работой, потому что самим им не хватает ни рук, ни патронов. Но мы ведь на этом не остановились — не ограничились евреями. Мы стали расстреливать тех, кто их прячет. Мы всех приравняли к чумным грызунам и евреям. Что, речь идет о нашем жизненном пространстве? Нам надо очистить его от славян? Их слишком много, да, и стольких нам не прокормить? Опасно оставлять в своем тылу так много молодых здоровых мужиков? Ну а при чем тут дети, бабы, старики? Давайте обойдемся без слезливых отступлений, скажете мне вы? Давайте вообще рассматривать все наши действия вне положений лживого, бессмысленного гуманизма? Что ж, давайте. Тогда, быть может, нам сначала стоит взять Москву, и завладеть каспийской нефтью, и обескровить красные заводы, а уж потом заняться расовой гигиеной? Но вместо этого мы сами поджигаем землю у себя под ногами, когда у русских за спиной Урал и сто миллионов здоровых мужчин. Да, мы столкнулись с партизанами, но наши меры устрашения… это какая-то бессмысленная круговерть: подпольное сопротивление — карательные меры — и еще один взорванный мост — и еще одна кара, еще одна сожженная вместе со всеми стариками и младенцами деревня. Кто начал эту чехарду? Большевики? Уже не важно. Каждый новый виток бьет сильнее по нам. Мы добились того, что огромные области в нашем тылу превратились в очаги партизанщины. Те, кто еще вчера встречал нас хлебом-солью, уходят в леса, отравляют колодцы, поджигают амбары с зерном. Даже дряхлый старик, даже женщина, даже ребенок. Что мы им принесли? Справедливость? Свободу? Порядок? Обращение как со скотиной в том смысле, что хозяин свой скот бережет: бить-то бьет, но не режет? Даже этого нет. Мы показали им иное. Свалку трупов. А когда человек видит этот исход, он берет хоть дубину и идет убивать. И вообще: я хочу вам сказать… — Он замолк и с минуту не мог говорить, а потом посмотрел так отчаянно, словно силился вытащить из меня человека, который мог понять его страх, или стыд, или боль. — Скажу вам как потомственный солдат такому же солдату. Убийство — наше ремесло, извечное, и Бог его не отрицает. Вы — истребитель, вы деретесь в воздухе — своего рода идеальной обеззараженной среде, где нет безоружных, бессильных, убогих… Чему усмехаетесь? Вот вы, вот ваш противник, сидящий в такой же машине, как вы, на той же лошади и в тех же латах, если вам угодно. Искусство идет на искусство — все честно. Но, Герман, сражаясь, как рыцари… опять вы смеетесь… мы ведь не просто завоевываем новое пространство на Востоке — мы тянем следом за собой все это: айнзатцкоманды, чистки, истребление. И что потом? — Он заглянул в неотвратимое «потом», немилосердный ад взыскания убитых, как будто кто-то в человеческой истории хоть раз способен был расслышать подземный стон раздавленных и сгнивших, как будто, кроме самой смерти, может ждать человека иное возмездие, как будто всех нас, и убийц, и уничтоженных, не ждет одна земля. — Потом мы станем говорить, что мы дрались на фронте, а жгли и вешали другие? Что, человек, который сплел веревку, менее виновен, чем тот, который затянул петлю на шее жертвы? И если мы не остановимся, то потерям нашу честь, и нас никто и никогда не назовет солдатами, хоть мы и дрались как солдаты и не пачкали рук этой кровью.
Я усмехался потому, что речи этого «прозревшего солдата» напоминали мне о Руди, наших спорах перед моим отлетом на Восток.
— То, во что мы уверовали как народ, — говорил Руди мне, — есть изнасилование человеческой и всей живой природы. Миллионы германцев начинают свой день с убеждения себя, что они образуют особый, священный народ, что на свете вообще есть два вида двуногих существ — люди, то есть мы, немцы, и все остальные. Бах и Вагнер превыше Скарлатти, Монтеверди, Рамо, Куперена. Это какой-то дикий спор о том, какое дерево ценней и более угодно Богу — шварцвальдская ель или кавказская секвойя. Я ставлю выше Баха, но разве это значит, что надо выполоть, как сорняки, всех остальных? Обезумелые ветеринары построили расовую иерархию, положив в основание критерии, которые смешны в своей недоказуемости и о которых Господь Бог не знает ничего. Измерение черепа? Да двести лет таких исследований не прояснят, чем череп мекленбуржца отличается от черепа еврея или эскимоса. Высотою таких-то костей, которые, как ты, наверное, догадываешься, имеют весьма отдаленное отношение к их содержимому. А кто такой чистокровный немец? Может, ты или я? Но Борхи происходят из Неаполя. Графы Борхи женились на польских княжнах, на датчанках, австрийках, гречанках, француженках и — о ужас — на русских Тучковых, Пыхачевых, Враницких, Нащокиных, да еще и гордясь, что они породнились вот с этими русскими, добавляя короны к гербу и не ведая, что на самом-то деле они разжижают арийскую кровь ядовитой славянскою подмесью. Ты не помнишь Татьяну и Лиду, в которых влюблялся по очереди? И женись ты на Лиде, кем бы были сейчас ваши дети? Презренными Mischlinge?5 Кровь снабжает мозги кислородом, кровь сама очищает себя с каждым пульсом, а не говорит о праве на жизнь. Она сама есть это право, да и не право никакое, а способность — смотреть на это дерево, дышать вот этим воздухом, и только.
— В чем ты хочешь меня убедить? — отвечал я ему. — В том, что у размалеванных под зебру лошадей не рождаются полосатые жеребята? Теория Гюнтера и прочих недоумков завиральна, но не более, чем любая другая. Может быть, обойдемся без экскурсов в историю империй и религий? Какому единому Богу должны все молиться, а главное, как — на четвереньках или на коленях? Не имеет значения, какие признаки различных групп положены в основу разделения и вражды…
— Решения вопроса о жизни и смерти…
— Руди, Руди. Кому адресуешь ты этот вопрос? Националсоциалистам? Большевикам? Колонизатором Америки? Британским гарнизонам в Индии? Задай его Господу Богу, которому навязываешь вегетарианство точно так же, как наши гореантропологи свою бредовую теорию тебе. Кто, как не Бог, построил все существование в природе на убийстве? Это Он почему-то не мог или не захотел сделать так, чтобы все ели травку и никто не жрал мясо. Двуногим надо жить, и они помыкают всеми прочими тварями по своему усмотрению — режут кур, забивают свиней. Этих кур и свиней, плодородных земель, рудных жил слишком мало, а людей слишком много. Надо ли продолжать? С чего бы это людям одного народа поступать с остальными иначе и лучше, чем они поступают с коровами, свиньями и другою своей повседневной поживой? А что делает Бог, говорящий нам всем «не убий»? Он видит, что создал всех нас людоедами, и за свою ошибку истребляет род людской с лица земли, насылая на нас свои ангельские эскадрильи. Если Он не прощает, то почему же мы должны прощать, и если Он не любит нас, свое подобие, то почему же мы должны друг друга возлюбить? Мы — Его дети, мы берем пример с отца. Так на что ты пеняешь? На ложность критериев? Есть только один реальный критерий: жив народ или мертв. Мы можем называться как угодно — высшей расой, Священной Римской империей, ревнителями христианской веры, как наши предки-рыцари, — но суть всегда одна: мы, немцы, должны быть жестокими, чтобы господствовать и жить. Есть человеческая воля к жизни, она и заставляет нас искать любые признаки национальной исключительности или, вернее, просто их выдумывать. Они нужны нам, словно хлыст или бензин, иначе нация и каждый человек останутся инертными и упокоятся в своем ничтожестве навечно. И заметь, мы сегодня еще утруждаем себя изобретением каких-то оснований для войны, мы сегодня еще производим раскопки своей бесподобности на Кавказе, в Крыму или в Индии, а в дальнейшем никто — уж поверь — даже не позаботится принарядить свое троглодитство приличиями. Достаточно будет сказать: «Мы хотим получить эту землю, эту нефть, этот уголь» — и все. Ну, придумают чтонибудь американцы о правах человека на выбор — паранджи, сексуальности или формы купальных костюмов, — и везде, где есть нефть или золото, все священные эти права тотчас будут поруганы — разумеется, в их самых чистых и честных глазах. Наша расовая антропология абсолютно нелепа, груба, но как раз в силу этого внятна. Она недоказуема, но и не требует никаких доказательств. Она — как раз то самое единственное представление о мире, которое сегодня может быть воспринято и даже предварительно затребовано массой. Потерявшие все, кроме собственных рук и мозолей, после нашего жуткого поражения в войне эти массы хотят восхищаться собой, почитать себя выше своих победителей. Выше нас — своих бывших хозяев. Каждый гамбургский грузчик, каждый рурский шахтер. Да вся их требуха возопила: о фюрер, приди, дай нам новое имя, дай нам превознестись. А выше кого может стать вот эта тупая, пропахшая пивом и капустной отрыжкою шваль? Выше Баха и Шенберга, выше Круппов и Тиссенов, выше наших господ индустрии, науки, войны? Выше нас с тобой, Борхов? Ну, это большевистская утопия, не менее бредовая и отрицающая замысел Господень, чем наша современная антропология или твое желание видеть немцев травоядными. Скажи спасибо, что германцы не додумались до равенства и не начали резать друг друга, как русские. Нет, каждый немец пожелал возвыситься как немец. Да, лишь в силу того, что у тебя немецкая фамилия и кровь. И эта дикая идея освободила в людях сжатую пружину унижения и злобы, и атрофированная воля нашей нации наконец стала равной своей скрытой подлинности. Энергия этого взрыва ни с чем не сравнима, и пускай она порождена заблуждением и самообманом. Заблуждение это дает сейчас каждому ощущение причастности к общему делу, к абсолютной свободе и силе.
— И ты служишь этому делу? — Брат смотрел на меня с безнадежной тоской, так, как будто прощался со мной, понимая, что ему меня не переделать, не вытащить из колодца моей неизменной природы.
— Ты слушаешь меня, но ты меня не слышишь. Националсоциализм — это всего лишь форма выражения германской воли к доминированию. И моей личной воли. Я — воздушный солдат и артист, для меня абсолютная красота — только там, и эта партия дает мне возможность предельного самоосуществления.
— Тогда дело плохо совсем. — Брат посмотрел в меня неузнающе и будто даже с обвинительным напором, словно услышав то, что переводит меня из палаты душевнобольных в разряд санитаров и даже врачей. — Они соблазнены, обмануты, а ты все понимаешь. Ты отделил себя от массы, от народа, как зоолог от полчищ взбесившихся крыс. Ты смотришь на них взглядом естествоиспытателя, смеясь над их наивностью и прямо поощряя своим молчаливым согласием их вожаков.
— Нет, Руди, я не отделяю себя от народа — я готов разделить его участь, какою бы та ни была. Завтра я буду там, где десятки английских «спитфайров» набросятся на нас, как мухи на дерьмо. Так что если меня и возможно назвать испытателем, то только собственного естества.
— Ну конечно, конечно, ведь это же твое осуществление! Тебе нужны мгновения высшей жизни, я тебя понимаю, чертов ты Фауст. Ну хорошо, ты получил свою войну, допустим, что войны с большевиками было не избежать и с британцами — тоже. Но та кровавая евгеника, которую мы как народ провозгласили своей целью, она что, целиком совпадает с твоей личной волей и правдой? Ты говоришь, что мы не взяли пример с русских, что немцы хотя бы не душат друг друга, но разве ты не видишь, что немцев поделили на истинных и мусор, разносчиков заразы, паразитов? И в чем оправдание? В том, что истинных больше? Или ты посоветуешь мне вспомнить Спарту, в которой я, твой брат, не прожил бы и дня? А евреи? Их ты тоже готов принести в жертву собственной подлинности? Ты несешься вперед, а СС у тебя за спиною решает вопрос низших рас, сумасшедших, кретинов, монголоидов, микроцефалов, коммунистов, бездомных, цыган, педерастов… — Вот тут он осекся и дрогнул: у него самого разве что с «черепным показателем» — полный порядок.
— Знаешь, Руди, тебе, мягко скажем, нужно быть осторожней в высказываниях.
— Даже с собственным братом? — усмехнулся он горестно и беззащитно.
— Ты можешь говорить что хочешь, но не здесь. Уезжай. Отправляйся в Давос. Или в Швецию. Здесь ты не сможешь быть самим собой.
— Ты хочешь разделить судьбу народа, а я — нет? — Оценит ли это народ? — Ну вот видишь. Тебе приходится признать. Как же можно служить той священной Германии, которую боишься? Если ты не уверен в ее справедливости?..
У Руди слишком много уязвимых мест, он весь — уязвимое место, он — ничей и не может быть чьим-то, как воробей, который просто пьет из лужи. Есть минимум пара железобетонных причин отправить его в Заксенхаузен, пометив не черным, так розовым винкелем6. Сперва брат насиловал душу и плоть, отчаянно пытаясь стать «таким, как все», и даже был помолвлен с чудесной Марией фон Фалькенхайн, но так и не смог переделать себя, объявив Медси, что не способен зачать с ней детей и не хочет лишать ее материнского счастья.
В годы Веймарского государства Берлин был столицей «свободной любви», но Руди и тогда был скрытен чрезвычайно. Не могу сказать, что заставляло его выворачиваться наизнанку и прикидываться «одиноким молодым человеком». То ли просто его нежелание ранить нас всех. То ли ветхозаветный иудейский запрет на такие соития, то есть невытравимое чувство, что врожденной и неодолимой тягой к юношам он оскорбляет Господне творение и уж если не может любить как мужчина, то должен усмирить свое вывернутое естество.
Не думаю, что братом двигал страх изгойства. Дворянская среда достаточно терпима в этом смысле, не говоря уже о музыкантах, о богеме. Страх явился потом, с воцарением фюрера, когда всем было сказано: педерасты заразны — мягкотелы, трусливы, изнеженны, падки на удовольствия, лживы и, по определению, не могут хранить верность родине. Впрочем, думаю, Руди страшился не лагеря, а унижения — того, что гестапо своими мясницкими лапами влезет в сокровенную область его бытия.
Мое отношение к его сексуальности? Три слова: он мой брат. Впрочем, речь не о крови, текущей по родственным жилам, не о том, что родных принимают любыми: кто это сказал? Нет, «возлюби» порой звучит как «должен», «тебя тошнит, а ты себя переупрямь». Я не хочу сказать, что каждый вправе выкидывать в приют родных дебилов и калек, — я говорю о проявившейся и никуда не девшейся способности смотреть на явления Божьего мира как один человек, одинаково чувствовать, слышать — либо вы два чужих человека с одною фамилией, которые без фальши могут разговаривать лишь у могилы матери, да и то не всегда.
Я старше Руди на шестнадцать месяцев. Он — законный насельник той же летней страны, в которой солнечно царила наша мать, чьи тревожные губы быстрее и вернее всех градусников замеряли пожароопасную температуру наших маленьких тел, золотая бесстрашная Эрна, даровавшая нам этот рай, потому что любое нормальное детство — это право на рай. Мы родились в начале Мировой войны, в померанском имении Борхов, в краю, где и серые камни, и серое море безучастно являют и глазу, и слуху одно — исполинскую мощь постоянства, уравнения, стирания, забвения всего; где холодная скудость природы обучает тебя различать все оттенки прозрачного серого и голубого, все градации и обертоны заунывного рокота Балтики, дыхание которой чувствуется всюду. Впрочем, это пространство воспитало нас с Руди совершенно по-разному: я всегда норовил заселить мир своей небогатой, неулыбчивой родины племенами могучих врагов, зверолицых, когтистых язычников, ледяных великанов (чем беднее реальность, тем отважнее воображение), а для Руди во всей этой бедности, тишине, неподвижности, монотонии уже было все.
Фамильный особняк с обжившими карнизы хищноклювыми химерами и стрельчатыми окнами угрюмого фасада вращался вокруг новых Борхов воинственной частной вселенной, которая была наполнена «реликвиями рода»: литографическими картами, гравюрными портретами особо отличавших рубак маркграфских войн, фотографиями кайзеровских кирасиров, вереницами Максимилиановых латников с их гофрированными броневыми наплечниками и «медвежьими лапами», с воробьиными клювами и звериными мордами кованых шлемов, ископаемыми Кастенбрустами в латных юбках и грандбацинетах, с огромными двуручными мечами, волнистыми струящимися фламбергами, мясницкими гросс-мессерами, кошкодерами, скьявонесками и палашами — разумеется, я с самых первых шагов предпочел смирным играм сражения.
Крушение Deutsches Reich, народные волнения с красными знаменами, выпуск новой обойной бумаги с шестью и девятью нулями покупательной способности — ничто не сказалось на качестве наших игрушек и снеди. У отца были доли в ривьерских гостиницах, у матери — богатое приданое: рафинадные виллы в Аббации и на Сицилии. Впрочем, мать продала бы и фамильные кольца, лишь бы мы получали все самое лучшее: чудесные скрипучие футбольные мячи, спортивные фланелевые пиджаки и теннисные туфли, шоколад из Швейцарии, кексы из Англии, покрытые серебряною краской алюминиевые модели «мерседесов», в которых я, трехлетний, раскатывал по солнечным аллеям, виртуозно орудуя рулевым колесом и педалями.
Руди же неизменно чурался быстролетных машин, механических ружей и редко позволял нам с Эрихом затаскивать его в свои воинственные игрища: мы с Буби разоряли сады окрестных фермеров, воровали их яблоки и поджигали солому в сараях — не потому, что были голодны или озлоблены, а потому, что представляли себя конквистадорами и викингами. Мы были движимы необсуждаемою тягой к нарушению запретов, к расширению пределов телесного своего бытия. Начитавшись Майн Рида, Фалькенгорста и Купера, мы раздевались чуть не донага, украшали друг друга гусиными перьями и, подражая делаварам, забирались в самую чащобу Мюрицского леса. Мы строили плоты, которые держали нас на честном слове, когда мы стаскивали их на «настоящую водичку». Мы хвастались друг перед другом величиною наших мускулов, и каждым летом наша кожа приобретала истинно индейский бронзовый оттенок, отменно закаленная балтийскими ветрами и водой померанских лагун.
Если мне или Буби хотелось наполнить пространство беготнею и криками, словно из несогласия с ходом природного времени и желания его обогнать, привнести в него смысл нашей гоночной скорости, освоения и обладания, Руди, наоборот, открывался окрестной тишине и прозрачности, отдавая природе то как раз, что нам с Буби давалось труднее всего, — неподвижность, молчание и послушание. Если меня в одиннадцать годков застали на крыше сарая впряженным в чудовищный планер, сооруженный из бамбуковых распилков этажерки и раскроенных ножницами одеял (лишь навозная яма спасла меня от переломов цыплячьих конечностей), Руди одолевал притяжение земли по-иному — замирая надолго посреди совершенно бездвижного леса или на побережье, где только песчаные отмели, меловые утесы да редкие низкорослые сосны, накрененные ветром от моря к земле. Брат будто бы перенимал у воздуха единственное свойство — способность бережно и свято проводить в неведомую область каждый звук, будь он уныл, печален или радостен.
Однажды брат — в особенно морозном декабре, когда дыхание перехватывало и чугунные прутья ограды обжигали ладонь без перчатки, — не вышел к ужину, пропал, мы кинулись искать, сначала думали, что он забрался на чердак, а потом уже двинулись в лес с фонарями. Вокруг была та строгая, немая и воцарившаяся будто бы навечно красота, которая одною зимней стужей и может быть сотворена, ледяным дуновением силы, никого не жалеющей и потому создающей миры без изъяна. Заиндевелые деревья принадлежали царству минералов — не деревья, а камни, кораллы, возникшие на вечность раньше, чем деревья. Руди мы нашли под старым дубом, превратившимся в мощный, натруженный ростом кристалл: мой брат сидел между столетних корней, неподвижный и белый, как обряженный в снежную шубку ангелок на могиле ребенка, и на обданном стылостью белом лице жили только глаза. И я понял, что он, столь живой и горячий, не мог не прислушаться к неумолчному звону лесной тишины, против собственной воли затянутый в космос мерцательных призвуков, из которого нет и не надо возврата. И сразу следом за уколом страха я почуял бессильную жалость к нему, не способную что-то поправить и наставить его на «путь истинный», — эта жалость во мне и поныне.
Вместо того чтоб показать нас с Руди какому-нибудь модному в ту пору шарлатану от психиатрии (один строит планеры, а другой вообще, судя по поведению, болен «прогрессирующим лунатизмом»), наша мать, золотая бесстрашная Эрна, купила мне «Цоглинг», а еще через год — и «Малютку Грюнау», подарив изначальное чудо отрыва, а для брата был нанят педагог из Еврейской школы Холлендеров, переправленный нами впоследствии в Швецию вместе с семейством. Мать всегда защищала нас перед отцом, который и саму ее считал — и не без основания — сумасшедшей.
Наш отец, Хеннинг Клаус Мария Шенк Борх, разумеется, тоже окончил кадетскую школу, в Мировую войну эталонно командовал ротою горных стрелков «Эдельвейса» и сорвал в Доломитовых Альпах наступление целой итальянской дивизии, за что и получил Pour le Mérite — изящный синий крест, составленный как будто из ласточьих хвостов; никогда я не видел награды красивее, чем эта высшая награда уже не существующей империи, эпохи, эры войн, когда многое, если не все, решалось личной силой вожаков и чистотою полководческого почерка (Брусилова, Петена, Жоффра, Людендорфа). Внезапно и ужасно ощутивший себя под Верденом ничтожеством, отец страдал от ежедневного кровотечения «Германия унижена» и, само собой, связывал с нами надежды понятно на что. Что там Руди с его колокольчиками, когда и мое увлечение «аэро» отвращало его от меня, представляясь ему формой бегства от честной земляной концентрированной смерти, разделяемой аристократом с народом?
С авиацией как родом войск у него были личные счеты. Вот вам художественное остроумие судьбы — отец был искалечен первосамолетами, народившейся силою новой эпохи, воплощением уже не его, а моей предстоящей войны: свинцовая стрела с трехгранным наконечником вонзилась ему в ляжку, когда он пил утренний кофе, сидя на орудийном лафете и не передергиваясь от привычных шрапнельных разрывов и посвиста пуль. Пилоты французских бипланов ворохами вытряхивали эти стрелы из ящиков над скоплениями нашей пехоты. Стимфалийские птицы, роняющие на немецкие головы смертоносные перья. Что-то от рока древних было в этой новаторской смерти, беззвучно пикирующей с самолетных небес. К Руди этот железный хромец относился со спартанской брезгливостью, словно к самому слабому в нашем помете щенку: раздражающий меланхоличной своей отрешенностью, Руди стал для него страшноватым симптомом вырождения Борхов.
Обращенный в себя и никак не могущий ужиться с собою самим, наш таинственный брат до шестнадцати лет оставался одиноко растущей стыдливой мимозой, никому не известный и будто бы вовсе не желавший быть кем-то услышанным, а потом мать без спроса пустила в обращение его фортепианные пьесы, и они восхитили и дряхлого Штрауса, и «властителей дум поколения» Берга и Веберна. Руди быстро прошел сквозь искушение жирной новизной сериализма, распрощавшись с идеями Шенберга раньше, чем этот еврей был загнан немцами в разряд дегенератов, и сделав это из соображений, весьма далеких от инстинкта самосохранения. Его «Освобождение из лона», «Мир молчит» и особенно «Благодарение» меня завораживают. Помню, как мы гуляли по Штральзунду и зашли в небольшую, по-моему, шведскую кирху согреться. Мои щеки ободраны ветром, я не чую от холода ног, а еще через миг — всего холода мира, и это Jesus bleibet meine Freude разносит все мое нутро по высоте. И, почувствовав, что невместимый восторг бытия клетку ребер сейчас разорвет, я беру брата за руку, Бах течет в нас, как кровь, сообщая, что мы с ним — одно. Дуновение этой же силы я чувствовал в собственной музыке Руди — алмазно твердые и невесомые аккорды, почти что исчезающее, слабое, но не могущее погаснуть никогда полярное сияние, зачарованный собственной тишиной снежный мир, который соткан из несметных одинаковых трезвучий: Руди перебирал их, как четки, и единственное, что его занимало, — это их чистота, производство такой чистоты, что даже для меня и прочих тугоухих особей она звучала как неоднородная. Так эскимосы различают множество различных состояний льда и никогда друг с другом их не перепутают.
Быть выдвинутым в «первый ряд» теперешних немецких композиторов он, разумеется, не мог: теперь мерилом музыкального величия могли быть только «выражающие национальный дух» литавры и фанфары, в программах филармоний царили лишь вагнерианская громокипящая мегаломания и пафос, все эти Вотаны, Брунгильды, Зигфриды, валькирии, в то время как Руди вообще ничего не хотел выражать, а тем более громко. Высоко его ставивший Штраус предложил ему, впрочем, членство в Reichsmusikkammer, что избавляло Руди от призыва в действующую армию: абсолютная воля империи уравняла немецкое простонародье с потомственной аристократией, и даже дети рейхсминистров должны были служить на общих основаниях — командирами танков и подносчиками орудийных расчетов, — точно так же, как отданный Сталиным на заклание Яков. Музыкантов, артистов и прочих «выразителей национального духа» еще берегли, равно как и ученых, конструкторов, механиков — всех, кто мог создавать для империи новые самолеты и танки.
Положение Руди в Имперской музыкальной палате было более чем шатким: он уклонялся от вступления в партию, уверяя, что музыка, сочиненная им, не становится более или менее немецкой от того, что он, Руди, «еще не в рядах». До недавнего времени он проходил по разряду «блаженных»: ну какие претензии могут быть к птицам, к собакам?
Оказалось, что могут. Сочинения брата порой исполнялись в нейтральных пределах — вот кто-то из британских дипломатов и отправил одну из его партитур в кругосветное плавание. Бесподобная «Зимняя музыка» и позднейшее «Благодарение» были записаны Королевским оркестром для радио, кто-то в Красном Кресте догадался использовать их как лекарство, гдето между уколами морфия и святыми отцами, облегчая агонию безнадежных больных. В английских газетах написали о «музыке исцеления и милосердия», о молодом немецком композиторе, «услышавшем всечеловеческую боль» и «воззвавшем из сердца нацистской Германии к состраданию и примирению». Два десятка доносов тиражом в миллион экземпляров. Руди был освещен ярким светом, словно рыба в ночной глубине нечаянно упавшим на нее прожекторным лучом. И теперь под ним медленно накренялась земля: все трудней устоять, не сбежать под уклон — и, наверное, все-таки лучше на фронт, чем в железную пасть Заксенхаузена.
Конечно, я живу со знанием, что Борхи не равны немецкому простонародью: никто из нас не побежит на бойню из-под палки. Один звонок отца товарищам в Oberkommando der Wehrmacht — и протянувшиеся к Руди щупальца ослабнут: он будет устроен на теплое место в тылу, в какой-нибудь штаб или прямо в военный оркестр… Но безотчетный детский страх, который сщемил мое сердце той ночью, когда брат пропал в зачарованном снежном лесу, нет-нет да и скребется мышьими коготками внутри.
1 Альфред фон Шлиффен — виднейший немецкий военачальник и военный теоретик, прародитель доктрины «молниеносной войны».
2 Кriegskameraden (нем.) — боевые товарищи.
3 Zu Befehl (нем.) — «Слушаюсь!», «Есть!».
4 Krieg ist Krieg (нем.) — война есть война.
5 Mischlinge (нем.) — «полукровки», «метисы»; юридический расовый термин Третьего рейха, обозначающий потомков межнацио- нальных браков.
6 От нем. Winkel — досл.: «угол»; треугольные нашивки на робах заключенных нацистских концлагерей; цвет винкеля указывал на принадлежность к той или иной категории «преступников»: черный — умалишенный, розовый — гомосексуалист и т. д.