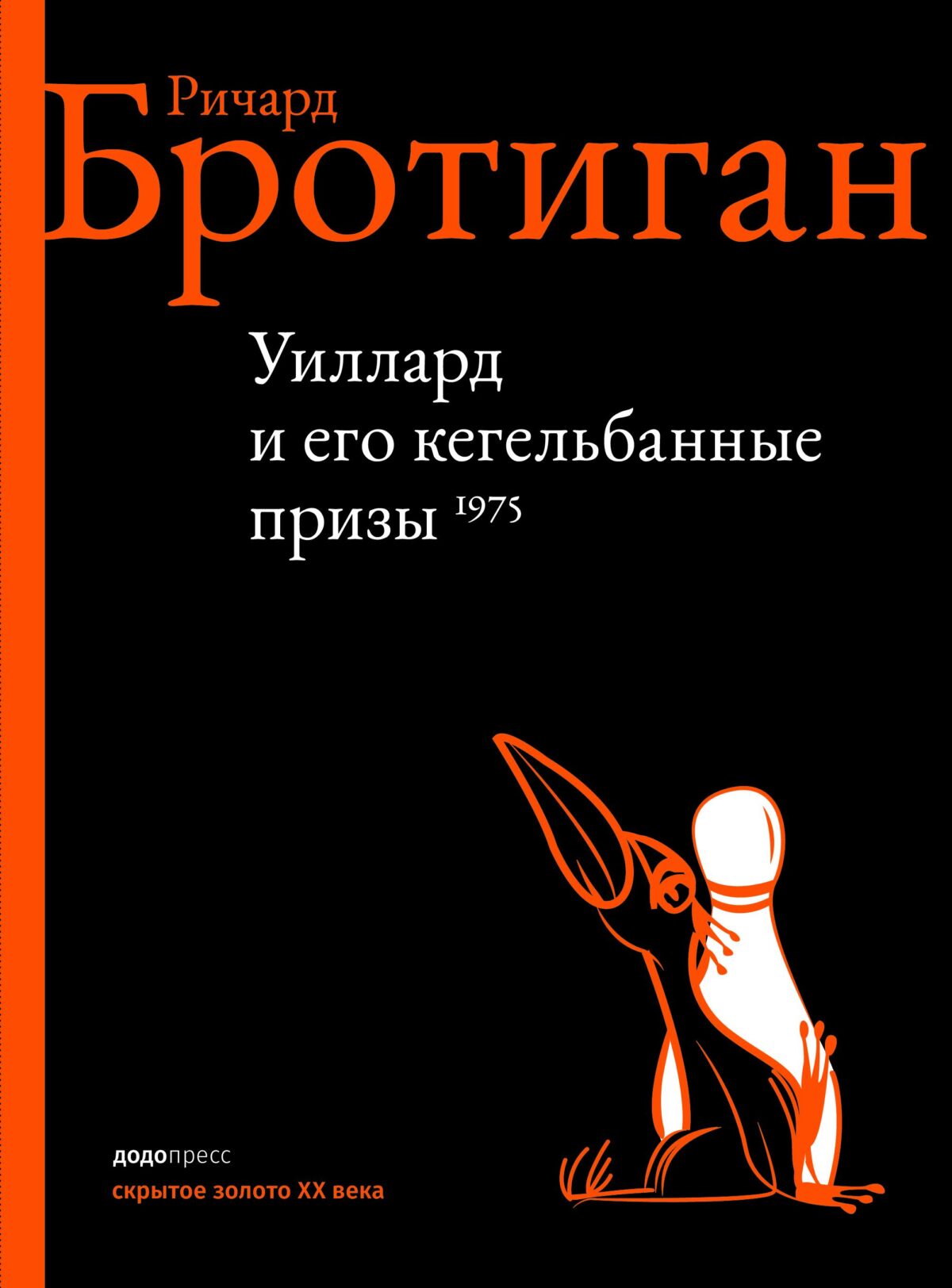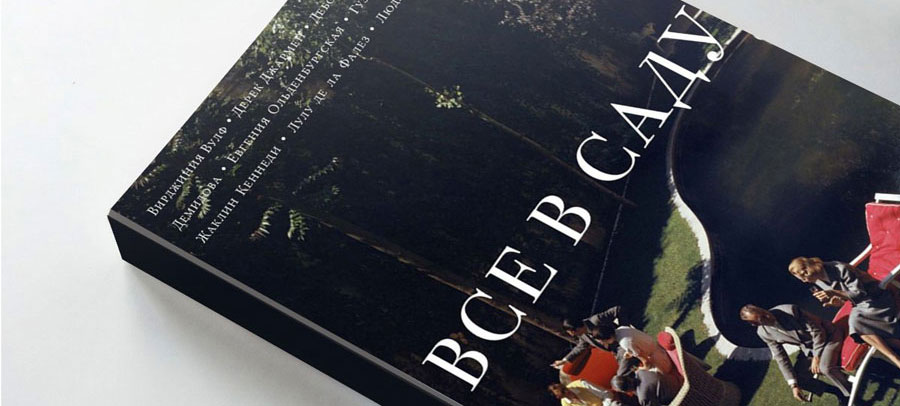Ричард Бротиган (1935–1984) — американский писатель и поэт, знаковая фигура контркультуры 1960–1970-х гг. Автор 11 романов, 10 поэтических сборников и 2 сборников рассказов, хотя деление на виды литературы в его случае довольно условно. Со всем своим богатым воображением, юмором (иногда полагаемым «черным») и фантазией Бротиган работал в синкретическом жанре — недаром его романы называют «романами-бротиганами». «Уиллард…» — «бротиган» 1975 г. — как обычно, о разъединенности людей и невозможности понять друг друга. Комические, абсурдные и грустные взаимодействия нелепых и очень человечных персонажей составляют ткань романа, зыбкого и щемящего, как черно-белое французское кино.
«Безмерна моя скорбь, ибо ни на что не годны друзья мои»
— Это всего лишь обрывки, — почти год спустя говорил Боб Констанс, которая лежала на кровати без одежды, связанная и с кляпом, пристроив голову у него на коленях.
— Строчки, — произнес он. — Обрывки строк… — Он умолк, а потом на миг забыл, о чем говорил.
Констанс ждала, пока он вспомнит, о чем говорил. Он листал книгу, но не помнил, зачем. Страницы шуршали, будто листья на рассеянном ветерке.
Потом он вспомнил, что делал, и начал заново, слово в слово повторяя то, что уже говорил.
— Это всего лишь обрывки. Строчки, — произнес он. — Обрывки строк, а то и отдельные слова, оставшиеся от стихов, написанных древними греками тысячи лет назад.
— «Прекрасней»1, — сказал Боб. — Вот все, что осталось от стихотворения.
— «Сбежав»2, — сказал Боб. — Вот все, что осталось от другого.
— «Он тебе изменяет», — сказал Боб. — «Ломая». «С тобой я все невзгоды позабыл»3. Вот еще три.
— А вот два просто дивные, — сказал Боб. — «Безмерна моя скорбь, ибо ни на что не годны друзья мои». «Откусывает от огурцов»4.
— Что скажешь? Тебе нравится? — спросил Боб. Он забыл, что она не может ему ответить. Она кивнула: да, ей нравится.
— Еще хочешь послушать? — спросил Боб.
Он забыл, что у нее во рту кляп.
Она медленно кивнула: да.
— Вот еще четыре отрывка, — сказал Боб. — Больше ничего не осталось от голоса человека, жившего тысячи лет назад: «Бури». «Из этих». «Я был». «Он понял»5. Потрясающе, а?
Она очень медленно кивнула: да.
— Еще один? — спросил Боб.
Она медленно кивнула: да.
— «И ничего ни из чего не выйдет»6, — сказал Боб.
Уиллард и его кегельбанные призы
А что же Уиллард и его кегельбанные призы? Как они вписываются в эту историю извращения? Прямо. Они в квартире этажом ниже.
Уиллард был птицей из папье-маше высотой фута три, на длинных черных ногах, с частично черным туловищем, покрытым странным красно-бело-синим узором, не похожим ни на что на свете, а еще у него имелся экзотический клюв, как у аиста. Его кегельбанные призы были, разумеется, крадеными.
Украли их у троих братьев — братьев Логанов, — составлявших очень сильную, можно даже сказать, непобедимую кегельбанную команду: так они играли много лет. Только ради этой игры они и жили — и вдруг кто-то взял и украл все их призы.
С тех пор братья Логаны без устали искали их, колеся по всей стране, будто три злых брата из вестерна.
Они были тощие, востроглазые и выглядели оборванцами, потому что перестали заботиться о своей одежде, регулярно бриться и сделались закоренелыми преступниками, чтобы финансировать свой поиск украденных призов.
А ведь поначалу были добропорядочными, типично американскими парнями, живым примером — воплощением того, как прожить жизнь не попусту, и с них брал пример и стар и млад. Увы, трехлетние мучения напрасных поисков не прошли для них даром. Братья Логаны стали совершенно непохожи на себя прежних — на благородных героев кегельбана, гордость родного городка.
Уиллард же, разумеется, не менялся: птица из папье-маше в окружении своих кегельбанных призов.
«И ничего ни из чего не выйдет»
В комнате было слишком ярко. Комната небольшая, и висевшая на потолке лампочка была для нее чересчур велика. По улице внизу проезжали машины. Ранним вечером они много ездили.
Боб смотрел Констанс в глаза сверху вниз.
Лицо его было очень кротким, далеким и грезило вспять. Он думал о людях, которые жили в другое время и уже умерли, и скорбел о них и о себе, и обо всей человечности: о прошлом и о будущем всего этого.
Констанс, глядевшую на него снизу вверх, глубоко трогало выражение его лица.
Вдруг ей захотелось сказать ему, что она все равно его любит, пусть он и дошел до жизни такой, но только она не могла. Нормально вставить ей кляп ему удавалось примерно один раз из десяти — и сейчас был тот самый раз.
Вот так повезло, подумала она.
Поэтому она ласково потерлась щекой об его ногу, а то никак иначе сказать ему, что его любит, она не могла.
Она хотела сказать ему, что вместе они это переживут и все опять соберут воедино так, что все снова будет дивно, но не могла, потому что ее язык был крепко прижат к нёбу носовым платком, намокшим от ее же слюны.
Она закрыла глаза.
— «И ничего ни из чего не выйдет», — тихо повторил Боб, на этот раз — только самому себе.
Братья Логаны идут по следу
Один из братьев Логанов сидел в кресле и пил пиво из банки. Другой лежал на кровати в дешевом гостиничном номере и читал комикс. Время от времени он смеялся вслух. Стареющие обои напоминали змеиную кожу. Его смех отражался от стен, тарахтя, как хвост гремучки.
Третий брат мерил шагами номер — что само по себе достижение, такая маленькая была комната. Ему не нравилось, что брат читает комикс и смеется. По его мнению, брату не следовало предаваться таким легким развлечениям.
— Где же эти чертовы кегельбанные призы? — завопил он.
Брат Логан, лежавший на постели, от неожиданности выронил комикс, а брат Логан, пивший пиво, остановил банку на полувзлете ко рту и обратил ее в статую пивной банки.
Они уставились на своего брата, которому как-то удавалось мерить шагами крошечный номер.
— Где же эти чертовы кегельбанные призы? — повторил он.
Они ждали телефонного звонка, который сообщит им, где кегельбанные призы. Этот звонок стоил им $3000 денег, добытых попрошайничеством, мелким воровством, затем — ограблениями бензоколонок и, наконец, убийством.
Долгие три года истратили они на поиск призов. В числе жертв оказалась типично американская невинность братьев Логанов.
— Где же эти чертовы кегельбанные призы?
Святой Уиллард
Тем временем — меньше чем в миле от тесного номера захудалой гостиницы, где братья Логаны ждали звонка, который сообщит им местонахождение кегельбанных призов, — Уиллард, большая птица из папье-маше, стоял, на призы опираясь. Призы, числом около пятидесяти, были расставлены на полу: крупные и замысловатые, словно кегельбанные алтари в миниатюре, и мелкие, как иконы.
Уиллард и кегельбанные призы находились в гостиной большой квартиры. Стоял вечер, и в гостиной было темно, но тем не менее призы испускали тусклое нерукотворное свечение.
Святой Уиллард Краденых Кегельбанных Призов!
Люди, жившие в этой квартире, ушли в местный художественный кинотеатр на старый фильм с Гретой Гарбо. Их звали Джон и Патриша. Он был молодым кинематографистом, а она преподавала в школе. Они близко дружили со своими соседями сверху, Бобом и Констанс.
Раза три-четыре в неделю Боб один спускался к соседям. Ему нравилось сидеть в гостиной на полу с Уиллардом и его кегельбанными призами, пить кофе и разговаривать с Джоном об Уилларде. Пэт в это время обычно была на работе. Она преподавала испанский в неполной средней школе.
Боб задавал вопросы об Уилларде и его металлических друзьях. Частенько это бывал один и тот же вопрос, потому что Боб забывал, что уже задавал его.
— Откуда у вас все эти кегельбанные призы? — спрашивал Боб в сотый раз — или, может, в тысячный? Этот вопрос он любил повторять чаще всего.
— Я нашел их в брошенной машине в округе Марин, — терпеливо отвечал Джон в сотый раз — или, может, в тысячный? Они были знакомы с Бобом уже три года, и вначале Боб не был таким. Напротив, он был искусен во всех аспектах своей жизни и обладал настолько острым умом, что тот бы мог устроить пикник на лезвии бритвы.
Джон тревожился за Боба. Он надеялся, что это пройдет и Боб снова станет таким, как был.
Иногда Джон задумывался, что же заставило Боба так себя вести: снова и снова повторять один и тот же воп- рос «Откуда у вас все эти кегельбанные призы?» и т. д., неуклюже двигаться и быть таким рассеянным, а иногда он проливал кофе, и Джон убирал за ним, Боб же едва осознавал, что́ он натворил.
Когда-то Боб казался Джону героем, настолько хорош он был во всем, что говорил или делал. Но эти дни прошли, и Джон жаждал их возвращения.
Кегельбанные призы продолжали тускло светиться в комнате, а Уиллард тенью маячил среди них, словно невысказанная молитва.
Когда Джон и Патриша вернутся, беседуя о Грете Гарбо, и включат в гостиной свет, их встретят верный Уиллард и его кегельбанные призы.
«Сельдерей»
Боб снял ремень и медленно принялся пороть Констанс, оставляя на ее ляжках и ягодицах легкие красные отметины. Та неопределенно постанывала под кляпом, крепко сидевшим у нее во рту, и она не могла его выплюнуть.
Иногда ее по-прежнему возбуждало, когда он ее порол. По-настоящему это ее возбуждало первые несколько раз, когда он так делал, — они только начали играть в «Историю О.», — прежде чем он заполучил себе в член бородавки, и те никак не проходили.
Он никогда не порол ее до крови и не оставлял синяков. Тут он был очень осторожен. Делать ей больно не входило в его замыслы.
Эта порка возбуждала его куда меньше, нежели когда он связывал ее и вставлял кляп, но он продолжал ее пороть — это входило в ритуал перед их очень жалким половым актом, потому что ему нравилось, как она стонет под кляпом.
Ей же кляп во всем этом совсем не нравился, а Боб сильнее всего возбуждался, когда затыкал ей рот, но именно затыкать ему удавалось хуже всего, потому что он при этом очень нервничал. Она никак не могла понять, почему он так настойчиво затыкает ей рот, а он ей ничего не объяснял, потому что не знал и сам.
Иногда он пытался понять, почему так любит затыкать ей рот, но не мог найти этому никакой рациональной причины. Просто ему нравилось, вот он и затыкал.
Много раз после того, как он связывал ее, — а начинал он всегда с этого, — она говорила:
— Пожалуйста, не затыкай мне рот. Связывать — сколько угодно, пороть — тоже, но, пожалуйста, не затыкай рот. Прошу тебя. Мне это совсем не нравится, — но он все равно втыкал ей кляп, и почти всегда — халтурно, а иногда делал ей больно, и ей почти никогда не нравилось, что ей затыкают рот, а если и нравилось, то лишь потому, что она вспоминала, как ей это нравилось вначале.
Потом он клал ремень рядом с ней на кровать. Эта часть завершалась.
Какие у нее дивные глаза над кляпом, подумал он, как чутко и умно смотрят на него.
Он развязал ей ноги.
— «Над бровями сплетя венки сельдерея, вольный праздник справим в честь Диониса»7, — сказал ей Боб, по памяти цитируя из «Греческой антологии». — Красиво, а?
Она закрыла глаза.
1 Алкей, фрагмент 108 в антологии «Греческая лира», т. 1 (см. прим. 19).
2 Там же, фрагмент 115.
3 Там же, фрагменты 114, 117 и 132.
4 Там же, фрагменты 139 и 151.
5 Там же, фрагменты 101, 102, 103 и 105.
6 Там же, фрагмент 173.
7 Анакреон. Из антологии «Греческая лира», т. 2, фрагмент 56. Цитируется по: Афиней, «Пир мудрецов», кн. XV, 16, пер. Н. Голинкевича.