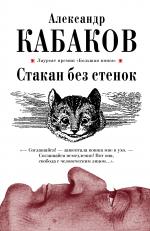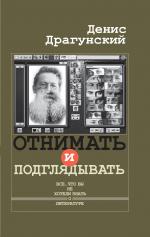- Людмила Улицкая. Поэтка. Книга о памяти: Наталья Горбаневская. — М.: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 416 с.
В октябре в Редакции Елены Шубиной выходит книга, под обложкой которой писатель Людмила Улицкая собрала рассказы друзей и знакомых поэта и диссидента Натальи Горбаневской о ее жизни и творчестве, а также некоторые интервью правозащитницы. По словам Людмилы Улицкой, книга «о том месте, которое Наталья Горбаневская занимает сегодня в нашем мире, в частном пространстве каждого из знавших ее лично, и о том, что подвиг ее жизни был не политическим, как считают миллионы людей, а чисто человеческим – о чем знают немногие».
ПРОИСХОЖДЕНИЕ Я — потомственная мать-одиночка.
Наталья Горбаневская
В 1960 году, когда я впервые попала в дом Наташи, на Новопесчаной улице, семья ее была — она да ее мать, Евгения Семеновна. Занимали они одну комнату в коммуналке, в сталинском доме, построенном, кажется, пленными немцами, как весь тот район застраивался после войны. Комната их была похожей на ту, которую и моя семья занимала, — большой стол посередине, часть стола под книгами-бумагами, а на другой половине сковородки и чашки. Столовая и кабинет на столе, а вдоль стен один диван и один топчан. Ну и книги. Много книг. В те годы между матерью и дочерью стояло, как облако, раздражение, и временами оно прорывалось шумными ссорами. Они были очень схожи, и внешне тоже, и я не сразу поняла, как они привязаны друг к другу, как любили друг друга изматывающей душу любовью.
При первой возможности Наташа старалась из дома съехать — на квартиру. Временами снимала. Помню чудесную комнату в Староконюшенном, там она довольно долго прожила, ей там было хорошо. Но в те годы я мало что знала про ее семью, картина эта постепенно открывалась из ее рассказов. Это была чистая женская линия — для России не редкость. В России с мужчинами всегда было плохо — их на всех не хватает. Война, лагеря и водка сильно истребляют мужиков. Зато женщины в отсутствие мужчин особенные — сильные, жертвенные, устойчивые. Наташину бабушку Анну Федоровну я не застала, а Евгению Семеновну успела оценить — нервный, раздражительный, вспыльчивый бриллиант в вязанной крючком беретке какого-то бывшего цвета, с яркими светлыми глазами, с сильными скулами.
От Наташиного образа жизни находилась она в постоянной ярости, но вернее и преданнее человека на свете не было. Подняла без мужа двух детей, Витю и Наташу. С братом Наташа порвала отношения очень рано, во всяком случае, в шестидесятом году он в дом не приезжал, но, знаю, Евгения Семеновна его навещала. Наташа с ним не общалась — расхождение их было глубоким, c ранних лет оно началось.
И Евгения Семеновна была несгибаема. Она проявила невиданный героизм, когда осталась одна с двумя маленькими внуками, совсем уже не молодой женщиной. Сначала она их отбила у государства, потому что решение было относительно детей — отправить их в детский дом. Как же ей было тяжело тогда! Жила она не на пределе возможностей — за пределом. Выдержала. Друзья Наташины помогали. Больше всех — Ира Максимова, вернейшая из верных. Ее уже нет.
Когда Наташу выпустили и она собралась уезжать из страны, Евгения Семеновна заявила, что никуда не поедет. Прощались насмерть. В то время, в 1975 году, и речи еще не было, что можно приезжать в гости за границу. Дети Наташины были для Евгении Семеновны, я думаю, дороже своих собственных. Но упрямство ее было не меньше Наташиного. Уезжала Наташа с мальчиками уже не из коммуналки на Новопесчаной, а из трехкомнатной квартиры у «Войковской». После отъезда Наташи Евгения Семеновна долго уговаривала Иру Максимову обменяться с ней квартирами: Ира в однокомнатной с мужем и дочкой, а она, одинокая старуха, во дворце! В конце концов обменялись. Лет пять, не меньше, Евгения Семеновна Иру уговаривала, прежде чем этот обмен состоялся.
Потом времена стали немного смягчаться, и появилась наконец возможность у Евгении Семеновны навестить Наташу и внуков в Париже. Я думаю, около двух лет мы с Ирой ее уговаривали, а она твердила: «Нет, нет, нет!» Ну, она приехала в Париж, в конце концов, и было все прекрасно, они замечательно встретились. Было полное счастье, и они уже почти не ссорились. Евгения Семеновна в старости смягчилась.
Восхитительная семейная генетика продолжала работать. Мальчики еще совсем молодыми народили первых детей, внебрачных: мальчик Артур в Польше и девочка Нюся, московская. Наташа, мне кажется, не сразу узнала об их существовании. Завелись еще трое внуков: Петя у Ясика, Милена и Ливия у Оськи. Эти уже в браке, с папами-мамами. И тут произошло нечто удивительное — Наташа собрала вокруг себя всю большую семью. Всех соединила, перезнакомила, перелюбила, если так можно выразиться. Сделала всё возможное, и даже сверх возможного — познакомила Ясика с его сестрой по отцу, когда этого человека уже и в живых не было. И этих, даже не знающих о существовании друг друга, она тоже подружила…
Стала Наташа матриархом. И развела вокруг себя такое великое изобилие любви, которое нельзя было вообразить. Знаем мы давно — ничего нет лучше хорошей семьи, где детки облизанные, папа-мама-бабушки-дедушки. Но не у всех получается. И чем дальше, тем всё меньше это получается. Но вот Наташа — никакого в помине мужа, одни бедные любови, все сплошь стремительные и горестные. Это для поэзии прекрасно — а то ведь не было бы никаких замечательных стихов из любовного семейного благополучия, а для строительства семьи такая свобода — материал непригодный. Однако ей удалось прекрасно выстроить свое семейное здание. Своими руками, маленькими руками, не очень ловкими, и великими трудами — но не тяжкими, а легкими, благословенными. Это чудо. Русское, если угодно, чудо.
Есть еще одна черта сходства у Наташи с ее матерью. В семье Горбаневских с довоенных времен была приемная дочка, Мотя. Анна Федоровна, Наташина бабушка, ввела ее в дом, а Евгения Семеновна ее приняла. Эта история несколько затемненная — Мотя была дочерью репрессированных родителей, но и по сей день об этом не любит вспоминать. И у Наташи тоже была приемная дочь, Анна, и тоже, как в случае с Мотей, официально это не было оформлено. Это великое женское начало — удочерить — их общее дарование. И по какому-то неписаному закону судеб у обеих это стремление накормить, напоить, спать уложить, одарить всем, что есть, соединилось с безбрачностью, женским одиночеством, украшенным в Наташином случае мимолетными увлечениями, молниеносными романами, безответными любовями…
Связь матери и дочери была очень глубокой. Наташины письма к матери — свидетельство их постоянной заботы друг о друге, большой зависимости, внутренней борьбы. И великой любви.
Л.У.
Метка: Редакция Елены Шубиной
Будь мужчиной, доченька
- Анна Матвеева. Девять девяностых. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 346 с.
Девять девяностых — это в десять раз больше, чем одна сотая, но все равно очень далеко до целой единицы. С другой стороны, от девяти — один шаг до круглой десятки, а от девяноста остается совсем чуть-чуть до ровной сотни. В общем, Анна Матвеева весьма скромно оценила свой труд: ей можно было смело ставить десять баллов из десяти.
Из-под пера екатеринбургской писательницы вышли девять рассказов о незабвенной переломной эпохе между XX и XXI веками. С четырьмя из них можно было познакомиться и раньше: «Жемымо» публиковался в литературном выпуске журнала «Сноб», «Умный мальчик» — в «Русском пионере», «Девять девяностых» — в сборнике «Русские женщины», «Безумный Макс» — в издании Homo Legend. Анна Матвеева — вообще очень «журнальный» автор: до 2012 года ее активно печатали «толстяки», среди которых «Новый мир», «Знамя», «Звезда» и, конечно, «Урал». Такой «послужной список» вправе сравниться с номинациями на литературные премии. Тут Матвеева, кстати, тоже не отстает: ее новая книга — уже в полуфинале «НОСа».
«Девять девяностых» — это сборник рассказов с элементами литературного цикла. Коротко говоря, обычный сборник представляет собой весьма грубую компиляцию текстов, объединенных достаточно поверхностными признаками: автором, темой или жанром. Цикл — конфигурация более высокого уровня: здесь могут появиться общая рамка, единый повествователь или определенная совокупность мотивов. Самое главное — в цикле присутствует динамика, ощущаемая на внутритекстовом и эмоциональном уровне, а сборники зачастую весьма статичны.
В своей книге Анна Матвеева не только объединяет разные произведения на одну тему, но эту тему развивает и прорабатывает. Писательница организует игру и с общими мотивами, и с художественными деталями. В рассказах «Такая же» и «Девять девяностых», например, она наделяет скрытой силой обычные яблоки, которые становятся ключом к сердцам героев.
В. срывала яблоко с дерева, и ветка пружинила над ее головой. Яблоко было холодным и до того вкусным, что радости хватало на целый день — а там уже подступало следующее утро и было новое яблоко.
Центральным мотивом книги, пожалуй, является гендерный. От суждений вроде «девочки лучше мальчиков» (к слову, у писательницы три сына) Матвеева переходит к серьезным высказываниям о том, насколько нынешний мир ориентирован на ту половину человечества, которую принято считать слабой.
Пал Тиныч и сам часто думал: мы живем в эпоху женщин. Раньше, история не даст соврать, ценились мальчики — но сейчас эти предпочтения уцелели разве что в Китае. <…> Девочки — в той же системе интересов и ценностей, к которой приписаны женщины, главные воспитатели современных детей. <…> Будем честны: наш мир — в городской его версии — гораздо лучше приспособлен для женщин.
Рассказы о мальчиках (четные) автор чередует с рассказами о девочках (нечетные), чтобы в заключительной повести «Екатеринбург» подарить всю силу мужского характера женскому образу:
Любимые слова мамы — «Ни в коем случае».
Папы — «Будь мужчиной, доченька».Даже города в книге имеют половую принадлежность:
Есть города-мужчины — Киев, Лондон, Мадрид.
А есть женщины — Варшава, Рига, Вена.
Париж, разумеется, мужчина.С городом в книге Матвеевой может случиться «любовь по переписке», а с человеком — «игра в города». Этот сборник хочется собирать и разбирать, словно кубик Рубика, и пройдет еще много времени, прежде чем все цветовые детали встанут на свои места.
Анне Матвеевой удалось написать книгу о чувстве, не терпящем банальностей, — о любви к мужчине, женщине, ребенку, дому, городу и жизни вообще. Такой непонятной и понятной одновременно, что на обложку книги о Екатеринбурге действительно можно поместить Эйфелеву башню.
Александр Кабаков. Стакан без стенок
- Александр Кабаков. Стакан без стенок. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 256 с.
В Редакции Елены Шубиной выходит сборник эссе, рассказов и путевых записок лауреата премии «Большая книга» Александра Кабакова. По словам автора, «в результате получились весьма выразительные картины — настоящее, прошедшее и давно прошедшее. И оказалось, что времена меняются, а мы не очень… Все это давно известно, и не стоило специально писать об этом книгу. Но чужой опыт поучителен и его познание не бывает лишним. И стакан без стенок — это не просто лужа на столе, а все же бывший стакан».
ОСАЖДЕННЫЙ Все меньше хочется выдумывать. Видимо, попал
под влияние общей тенденции.А уж если выдумывать, то что-нибудь несусветное — летающих женщин, бессмертных мужчин, демонов и ангелов — в общем, всякую фантастическую белиберду, которой и без того хватает, включая не белиберду, а классику… Впрочем,
это не останавливает. Что ж, если майорский нос
гулял сам по себе вдоль питерских каналов, так
уж после этого ничего и не выдумай? И пусть себе
кот садился в трамвай, потирая усы гривенником, — никто не запретит и нам придумывать
сказки и фантастические романы…Да что угодно, лишь бы не начинать тоскливую
как бы реалистическую тягомотину: «Ранним весенним утром Петр Иванович Семенов, господин
средних лет, живущий в гигантском столичном
городе, вышел из подъезда своего многоэтажного
дома и отправился в большой банк, где он служил
топ-менеджером…» Ужас! К тому же сразу, как
только потребуются детали, начнешь путаться
и нести чушь, поскольку сам менеджером ни топ,
ни каким другим в банке не служил, квартируешь
в умирающей пятиэтажке, и не средние идут твои
годы, а вполне уже, по чести говоря, преклонные.Нет, положительно — нон-фикшн притягателен! И никаких фантазий не надо. Не надо напрягать воображение, а потом получать от критика презренное клеймо «булгаковщина» (а то и вовсе «аксеновщина»). И жизнь изучать в ее
конкретных и разнообразных проявлениях не
требуется — достаточно одно проявление записать точно и без прикрас, а читатель уж сам извлечет из этой правды свою, ему необходимую правду.Да, положительно — только нон-фикшн! Хватит беллетристики, побаловались, пора и честь
знать. Вот вам истинная история, документально
подтвержденный случай.Итак:
Ранним весенним утром Петр Иванович Семенов, господин средних лет, живущий в гигантском
столичном городе, вышел из подъезда своего многоэтажного дома и отправился в большой банк,
где он служил топ-менеджером. Паспортные данные Петра Ивановича, его ИНН и номер страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования, а также адрес по месту постоянной
регистрации и другие реквизиты любой желающий может найти в социальных сетях, Фэйсбуке,
Одноклассниках и прочих. Там же, в Фэйсбуке,
вы можете ознакомиться и с той историей, которую
мы собираемся вам здесь рассказать, но, конечно,
там она будет изложена пристрастно, а здесь мы
абсолютно объективны. Так что, если понравится — лайкните. А если вас смущает то, что на старомодном листе бумаги, содержащем слишкам многа букаф, и лайкнуть-то негде, то лайкните где угодно, какая разница.Итак:
Ранним весенним утром… Весна в том году была короткая, зато жаркая, в полном соответствии
с обещаниями ученых — в основном, как обычно,
британских — вовсе упразднить сдержанно жизнерадостные демисезоны, весну и осень, оставив
только экстремистские лето и зиму. Поэтому Петр
Иванович вышел из дому налегке. На нем были:
узкое и коротковатое, из черного кашемира, соответственно текущему деловому тренду, пальто
нараспашку… А также узкий, строго по тренированной фитнесом фигуре темный костюм… И, понятное дело, сияющие ботинки стиля oxford
brogues. Уже только по вышеописанному экстерьеру можно было бы заключить, что жизнь Семенова удалась, или, чтобы употребить актуальный оборот, состоялась. Если же добавить, что
спустя пять минут он вновь появился в нашем
поле зрения, но уже выехав из паркинга под домом на автомобиле почтенной немецкой марки
и модели текущего года, то следует признать, что
жизнь его не только состоялась, но именно удалась.Итак:
Петр Иванович Семенов, господин средних
лет… Средних — это сорока трех. К такому прекрасному возрасту у нашего фигуранта (воспользуемся популярным в текущие времена борьбы
с коррупцией словом) было все, что положено
фигуранту. Несколько счетов не только в родном банке, но и в других, отделенных от РФ госграницами. Приличный домик в Испании и еще более приличный по известному Новорижскому
шоссе. Еще одно транспортное средство, находящееся в пользовании жены, японский затейливый кроссовер. И, наконец, сама жена, девушка
Алена Васильевна Семенова, неполных тридцати пяти лет, со скромным модельным прошлым и столь же скромным деловым настоящим, обремененным заботами о собственном оздоровительном бизнесе «СПАщая красавица». Пусть
нас простят за упоминание близкого Петру Ивановичу человека в ряду его материального имущества, тут ничего обидного нет, а только логика жизни.Итак:
Живущий в гигантском столичном городе…
Боже, как удивителен этот город! Не будем даже
и пытаться перечислить хотя бы главные чудеса — просто проедем по его Третьему транспортному кольцу, будь оно неладно с его вечными
пробками, да оглянемся вокруг, да задохнемся
от вида небоскребов, упирающихся в сиреневое
от гари небо, да зажмуримся на мгновение, взлетая по стартующей в бесконечность эстакаде, да
представим себе это пространство, эти двадцать
миллионов обитателей, эти миллиарды вдохов
и выдохов… И миллиарды рублей, добавим мы,
так же растворенных в городском воздухе, как
дыхание горожан и выхлопы машин, в основном
пока еще не соответствующие современным европейским стандартам. Только вдохов и выдохов
на всех горожан приходится примерно поровну,
выхлопы зависят от года выпуска автомобиля
и мощности… А денежки вообще выпадают из воздуха сугубо неравномерно, густо оседая на некоторых депозитах и совершенно игнорируя большинство текущих, зарплатных и пенсионных,
счетов и просто дырявые карманы среднего населения — не путать со средним классом. В результате возникает, как сказали бы электрики,
разница потенциалов, а где разница потенциалов,
там и напряжение, спросите у тех же электриков,
а где напряжение, там, того и гляди, пробежит
искра и, соответственно историческому прецеденту, возгорится из нее пламя. Черт возьми!
Черт возьми, иногда восклицал про себя Петр
Иванович, да что ж они, не видят, что ли?! Кто
они, Семенов отчетливо не представлял, но на
всякий случай время от времени принимал участие в, как говорится, протестных акциях. Он шел
или стоял на мостовой вместе с немалым количеством горожан, среди которых встречалось порядочно таких же господ в кашемировых пальто,
тоже, видимо, смущенных разностью потенциалов — впрочем, возможно участвующих в упомянутых акциях лишь соответственно тренду, то
есть моде, вроде как на то же узкое и укороченное пальто.Итак:
Вышел из подъезда своего многоэтажного дома… Не всегда П.И. Семенов жил в этом многоэтажном новостроенном доме (монолит, планировка свободная, первичная отделка) со своею женой Алёной и девятилетним сыном Иваном.
Вернее, сын тогда еще только намечался, а Петр и Алёна жили в малогабаритной трешке с родителями Алёны и ее младшим братом. Район Капотня для готовящегося возникнуть сына был не слишком подходящим. Да и совместная жизнь с родителями жены тяготила, прямо скажем, бедного — тогда еще бедного — Семенова даже больше
Капотни. А у самого героя жилья не было никакого, поскольку он происходил из города Каменска-Шахтинского Ростовской области. И совсем
недавно он произошел из простого менеджера
в старшие менеджеры по работе с физическими
лицами… Короче, еще много денег на срочные
и специальные, особо выгодные вклады утекло,
прежде чем безо всякой ипотеки Семенов приобрел четырехкомнатную в новостройке, в тихом,
но перспективном районе Октябрьского Поля.
В эту квартиру тесть с тещей приходили только
в гости, никак не отвыкнув приносить с собою домашние заготовки квашеных огурцов и капусты,
которых никто в доме Семеновых давно не ел,
предпочитая обходиться продуктами из приличных магазинов. Открывая гостям, а спустя некоторое время закрывая за ними стальную дверь
с сейфовыми замками, Петр Иванович всякий
раз удовлетворенно отмечал и толщину, и качество стали, и хитроумность замков любимой двери, потому что только на нее и была вся надежда.Итак…
И отправился в большой банк, где он служил…
Именно служба в банке и привила Петру Ивановичу Семенову любовь к стальным дверям и веру в них как в единственное достойное препятствие
той самой искре и тому самому пламени, о которых говорилось выше. Будучи работником банка,
он отчетливо представлял себе, как всё ненадежно в этом ненадежнейшем из миров. Он помнил,
как в страшные дни уже далекого, слава Богу,
первого кризисного года тихо шумела у стеклянных, слегка усиленных решетками входных дверей банка толпа угрюмых вкладчиков и как ему
хотелось оказаться тогда в сейфовом помещении,
за броневыми дверями, и никогда не выходить оттуда. А ведь еще не было тогда не только сына Ивана, проводящего теперь, к счастью, учебный год на
безопасном острове, однако ведь на каникулы-то
возвращающегося на родину, но и жены Алёны,
слабой бизнесвумен… Какие двери?! Вырвут танком. Привяжут тросом и вырвут.Итак:
Топ-менеджером… В этом качестве он имел
возможность слегка растянуть обеденное время
и, допивая американский кофе с молоком в одном
из наиболее приличных итальянских кафе, которых вокруг банка развелось больше, чем в каком-нибудь квартале Милана, беседовать с коллегой,
таким же топом, о том, что волновало. «Дом надо
строить, вот что, отсидимся, если что, по-любому, — говорил он коллеге, и коллега соглашался,
а Семенов продолжал так же убежденно и невразумительно: — Умные люди давно в дома посъезжали, отсидятся, если что, по ходу…»Тут мы простимся с уже поднадоевшим приемом и прекратим раскручивать одну первую фразу, тем более что мы ее уже до конца использовали. Дальше изложение будет строгое и документально подтверждаемое — если хотите, ссылки
на соответствующие сайты пришлем. Действие
продолжается уже летом, наступившим вслед за
тою ранней весной, и осенью, довольно быстро
вытеснившей то лето.Итак:
Петр Иванович Семенов, у которого, как сказано, уже были дом в Испании и еще один, совсем нехилый, по Новой Риге, решил строить третий,
совершенно особого типа Дом — именно такой,
с большой буквы «Д».Дом этот должен был стать одной сплошной
стальной дверью, которую не вырвешь никаким
танком, да и, собственно, неоткуда будет ее вырывать — кругом вроде дверь… Пожалуй, что и дверь
эту будем писать с большой «Д».Для начала Петр Иванович Семенов продал
испанскую и новорижскую недвижимость, поскольку искомой безопасности ни та, ни другая
не предоставляли, а деньги имело смысл пустить
на строительство Дома, уже шедшее полным ходом и быстро истощавшее счета, один за другим.
Конечно, можно было бы ограничиться усилением обороноспособности новорижского жилища,
но это было бы затратнее, чем построить Дом
с нуля, — Петр Иванович через некоторых знакомых был осведомлен, во что обходится реформа обороноспособности. Кроме того, Семенова
смущало расположение дома: его привлекательная престижность, увеличивающая цену каждой сотки, увеличивала и риск — пламя, если возгорится, был уверен Семенов (и не он один
был в этом уверен), прежде всего полыхнет
именно на Рублевке и Новой Риге… Что касается
Испании, региона Марбелья, то относительно
этого жилья сомнения у Петра Ивановича усиливались после почти каждого выпуска новостей. Буйные толпы, шатающиеся по улицам
Южной Европы, в том числе Испании, сюжеты
о раздаче бесплатной еды голодным и забастовках госслужащих, лишенных тринадцатых зарплат, бутылки с «коктейлем Молотова», летящие в полицейских, — всё это нисколько не привлекало Петра Ивановича, и он даже сожалел, что когда-то купил испанский домик. Вложение можно было сделать и много более выгодное — к примеру, купить еще одну московскую квартиру, в сталинском доме, да сдать дипломату, или две элитных однушки в новостройках и тоже сдать, своему брату менеджеру, только еще начинающему…Словом, теперь Петр Иванович Семенов строил Дом.
Участок был выбран идеальный — на небольшом (проще защищать) полуострове, выступающем в водохранилище. Конечно, получить разрешение на покупку этой, еще недавно принадлежавшей районной администрации земли в прибрежной зоне было непросто. Тут речь даже не
шла о том, чтобы кому-нибудь занести, как положено, тут решалось всё на уровне бескорыстных
личных контактов в тесном и почти совершенно
закрытом кругу. Однако ж желание Петра Ивановича было настолько сокрушительным, что однажды он услышал заветное «ну, если горит тебе,
Петруха, стройся, только на новоселье не забудь
позвать», и стройка началась.Началась она даже не с нулевого, а с подводного цикла: в водохранилище вокруг полуострова
была установлена мощная стальная сетка, исключающая приближение к будущему Дому любых плавсредств, включая субмарины. Эта сетка
была установлена по примеру военно-морских
баз и стала как бы подводной Дверью.Потом были проведены саперные работы на
перешейке, соединяющем полуостров с материком — то есть с бывшим совхозным полем, понемногу распродающимся под коттеджи и таунхаусы. Минирование обошлось без чрезвычайных
происшествий, оставленный для хозяев и нужд
дальнейшего строительства проход был обозначен широкой аллеей молодых сосен, в целях маскировки перемежающихся с беспородной растительностью.Работы велись в ночное время, бригада молдаван немедленно по окончании была депортирована на добровольной основе, снабженная выходным пособием и советом всё забыть.
Жена Алёна поначалу ни во что посвящена не
была, но, как любящий человек, что-то почувствовала. Петя стал более молчалив, чем был прежде, глаза его приобрели еще более обычного сосредоточенное выражение, а на письменном столе
в его домашнем кабинете теперь постоянно лежал
школьный учебник физики, раскрытый на странице, на которой рассказывалось о разнице потенциалов, чреватой искрой… Кроме того, она слышала, как муж задумчиво, за какой-нибудь несложной работой, повторял стихотворную строчку «…из
искры возгорится пламя…», хотя вообще стихов
не любил и не знал. Когда же Петр Иванович привез ее взглянуть на завершающееся строительство Дома, уверенность ее окончательно сформировалась.Дом был выстроен из бетона, серый куб в один
этаж. Бетон был сплошной, окна в нем прорезаны
узкие и высоко от земли, в обычное время они закрывались стальными ставнями с мощными замка´ми, запирающимися изнутри одной кнопкой
с центрального пульта.Дверь в Дом вела стальная, когда она бывала
открытой — недолго, чтобы хозяева успели пройти, — можно было подивиться толщине: полметра стали, столько же, сколько бетона в стенах,
и вдвое толще, чем дверь в городской квартире.
Замко´в было четыре, по одному с каждой стороны, когда их запирали с центрального пульта,
глубоко в стены вдвигались стальные стержни,
почти в руку толщиной каждый.При запертой Двери и ставнях Дом снаружи
выглядел просто как сплошная бетонная глыба
правильной формы, украшенная металлическими накладками. Похоже было на какой-то брошенный недострой, уже начинающий зарастать
бурьяном — усилия ландшафтного дизайнера
дали результат…Внутри же Дом был совершенно обычный, мебель сюда перевезли с Новой Риги, и даже все интерьерные идеи снова воплотили. Натуральное
черное и красное дерево, тонкая кожа, зеркальное
стекло и прочие штучки, наличием которых внутри Дома вполне объяснялся суровый и неприступный вид Дома снаружи. Во всяком случае,
трезво оценивающий действительность человек
понял бы мотивы и соображения, руководившие
Семеновым при строительстве бетонной крепости.
Если в Доме цена дверных ручек на внутренних
дверях больше, чем три средних по стране зарплаты, то лучше укрыть их в бетонном кубе, за броневой дверью. Поскольку последствия разности потенциалов в учебнике физики описаны понятно…
Охота на свободу
- Виктор Ремизов. Воля вольная. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 416 с.
У городского жителя, гулявшего только в прозрачных лесах средней полосы, представление о тайге складывается лишь благодаря бардовским песням. В них романтично настроенные шестидесятники рвались в непроходимые чащи со словами: «А я еду, а я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги».
Песни звучат в голове все время, пока читаешь роман Виктора Ремизова «Воля вольная». Он как раз о северных лесах и людях, непонятно как выживающих там, где уже за забором таится опасность. Романтика Юрия Кукина тут разбивается о мрачный быт местных жителей. Волнующие ароматы хвои и дыма заменяются более реалистичным зловонием. Тайга у Ремизова душно пахнет свежесодранными шкурками соболей, порубленными для наживки рябчиками и соляркой от охотничьих вездеходов.
Промороженные, просоленные морскими ветрами деревенские мужики с задубевшей от непогоды кожей и коричневыми желудями ногтей из поколения в поколение ведут образ жизни, который не терпит сантиментов. Несколько месяцев в году они проводят в тайге, расставляют капканы на пушного зверя и занимаются освежеванием лосиных туш. Икра — местное золото — добывается здесь тоннами. Двадцать процентов с улова отходит местным ментам, остальное отправляется в другие регионы страны и даже в Москву. Браконьерство в этих краях необходимо, чтобы пережить зиму.
Вечная тема противостояния власти и народа в романе выражается в ненависти охотников к ментам. «Для Студента, как и для большинства самостоятельных поселковых мужиков, мент не мог быть нормальным человеком. Мент был противоположностью вольной природы, на которой они жили. Самой воле вообще». Люди в сером мешают спокойно заниматься делом, постоянно требуя денег. Вялотекущий процесс взяточничества прерывается, когда один из охотников, Степан Кобяков (Кобяк), случайно сталкивается с начальником районной милиции Тихим и его замом Гнидюком, таранит их уазик, стреляет под ноги и скрывается в тайге.
Правда остается за Кобяком. Это понимают и местные мужики, и подполковник Тихий. Последний злится на Гнидюка, который первым полез в кобяковский вездеход с обыском, спровоцировавшим разборку. Однако тому надо выслужиться перед начальством и настучать в Москву. Возня за власть вызывает разбирательства на федеральном уровне. На Степана Кобякова начинается охота.
Дальше сюжет готов скатиться в обычный детектив, однако погоня за Кобяком отступает на задний план. Виктор Ремизов, работавший геодезистом в тайге, чувствует лес так же тонко, как и местные, и делает его главным героем повествования. Красота заснеженных деревьев незыблема, несмотря на людские страсти. Человек в тайге остается гостем, который обязан жить по законам природы.
Степан шел и чувствовал, как тепло любви ко всему этому охватывает душу. В лесу он всегда становился мягче: улыбался, с собаками, деревьями и горами молча разговаривал… И никакие менты не встанут у него на дороге. Эти поганцы так же его сейчас интересовали, как позавчерашний ветер.
Почти всем героям Виктор Ремизов дает говорящие имена и фамилии. Подлый до мозга костей майор Гнидюк, уставший от необходимости принимать решения подполковник Тихий, несгибаемый Кобяков (фамилия созвучна с именем половецкого хана Кобяка, мутившего воду в междоусобное время), а также деревенские мужики: свойский Дядь Саша, суетливый Поваренок и другие.
Ситуация, в которой оказался Кобяк, объединяет местных. Руководствуются они не сверхидеей, а, скорее, правилом из песни «Муравейник» Виктора Цоя:
И мы могли бы вести войну
Против тех, кто против нас,
Так как те, кто против тех, кто против нас,
Не справляются с ними без нас.Помогают они с тем же спокойным упорством, с каким распутывают сети или ставят капканы на соболя. В этих краях время течет медленнее, а проблемы вечности превращаются в песчинки.
Брат недавно вернулся с Кольского полуострова. Там тоже тайга. При въезде на его участок помор предупреждает: «В пятистах метрах отсюда живет мишка, но я ему брошу тюленью тушу, и он вас не тронет». Местные жители говорят медленно, тщательно произносят каждое слово: их жизнь расписана на годы вперед — торопиться некуда. По меркам обитателей тайги, мы, городские, движемся со сверхзвуковой скоростью, но вряд ли знаем, куда придем.
Татьяна Москвина. Жизнь советской девушки. Биороман
- Татьяна Москвина. Жизнь советской девушки. Биороман. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 347 с.
В конце сентября в Редакции Елены Шубиной выходит автобиография известного журналиста, писателя, театрального критика Татьяны Москвиной. Книга «Жизнь советской девушки. Биороман» продолжает издательскую серию «На последнем дыхании», которую открыли «100 писем к Сереже» Карины Добротворской. Предельная искренность как обязательное условие мемуаров проявляется здесь и в описании ленинградского быта 1960–1980-х годов, и в трудном пути к самой себе.
Увертюра
Я пишу для тебя
Я не могла понять, зачем и для кого буду писать эту
книгу, пока не увидела её.Случайно на улице, шла мимо. Девушка лет восемнадцати в мешковатом чёрном пальто, длинные русые
волосы, кое-как подстриженная чёлка. Что-то нелепое
в фигуре. И в манерах. Что-то категорически не совпадающее с реальностью, порывистое и ужасно трогательное.Она не видела меня, увлечённая своей книжкой
или своими мечтами.Она смотрела куда-то серо-голубыми северными
глазами, а я замерла в узнавании… Я так хорошо знала
этот зачарованный рассеянный взгляд, эти обкусанные
ногти, эти бедные разбитые туфли.Я всем нутром ощущала, как она талантлива и как
несчастна. И я знала, что ещё долго-долго придётся ей
быть талантливой — неизвестно, в чём, — и несчастной, а это уж слишком ясно, отчего.Это женский мутант.
Это результат жестокого эксперимента по внедрению духа в природу.
Это женщина, которой досталась искорка творческого разума.
Это я.
Это я несколько десятилетий тому назад — с отчаянным туманом в голове, зачитавшаяся до одури, бредущая по городу…
Видимо, такие всегда были, есть и будут — наверное, существует норма в процентах. Я думаю, процентов пять—семь от общего числа…
Или уже больше?
Или всё-таки меньше?
Я не знаю. Но мне хотелось бы написать книгу,
которая помогла бы этой девушке выстоять в жизненной борьбе — выстоять и, быть может, победить.На этом месте многие читатели могут и надуться.
Скажут — а что, если у нас ногти не обкусанные
и взгляд не зачарованный, и если мы вообще мужчины
средних лет, так что же, нам и книжку эту читать не
разрешается?Что вы, что вы. Сегодня я приглашаю всех! Я же
буду рассказывать о своей жизни, а это вызывает
аппетит у многих. Я сама с наслаждением читала
жизнеописания людей, с которыми не имела ничего
общего ни по полу, ни по возрасту, ни по судьбе —
но чем дальше от себя, тем даже лучше, своё-то мы
и так знаем.Пусть ко мне на огонёк приходят самые разные
люди, пожалуйста. Я говорю лишь о внутреннем послании, о письме «неведомой подруге» или ученице, которую никогда, наверное, не встречу в реальности, — это
я сама восемнадцати лет, возродившаяся вновь, сейчас,
в этом мире.Мне кажется, ей сейчас горько, трудно, странно.
Её мысли и намерения путаются. Она не знает, что ей
делать, куда идти, где её путь. Мир жарко и пошло
наваливается на душу, бормочет бредовое и сбивает
с толку — а настоящих друзей мало. Почти нет. Их
может не быть вообще, так бывает…Я окликаю тебя.
— Эй, ты! Да, да, ты, с толстой книжкой в руке,
в стоптанных туфельках, с туманной, гудящей от слов
головой!Тебе кажется, что ты одна — и это так, ты одна,
но… ты не одна.Побудь со мной.
Послушай меня.
Я расскажу, как долго и трудно я шла к самой себе.
И ещё неизвестно, пришла ли. Из моей нелепой жизни
нельзя вывести никакого урока, но что-то понять из
неё — мне кажется — можно.Я вас не боюсь
Моя первая книжка, сборник эссе «Похвала плохому
шоколаду», вышла в 2003 году, из чего, как вы понимаете, следует, что автор удосужился собрать свои
сочинения в книгу, уже «отмотав срок» в сорок пять
лет. В следующем, 2004 году появился мой первый
роман, «Смерть это все мужчины», и я стала считаться
писателем, которым, конечно, была от рождения, чего
мир просто не знал.Но почему так поздно? Что это за литературный
дебют такой — в сорок шесть лет?Я могу предъявить высокому суду всякие черновики, рукописные и машинописные, разных лет —
простите, я писала, писала… только никому не показывала и ничего не завершала.Тут дело, конечно, не в семье (муж, двое детей),
которая брала силы, но уж не настолько, чтоб не смочь
написать книжку.(Каждый день по страничке — через год будет
книжка!)И не в трудностях самого процесса (всё ж таки
молотить на машинке было очень утомительно). Но
вела же я исправную критическую деятельность, сочиняла статьи, иногда довольно большие. Бывало, что
я писала от руки, и рука дико уставала. Тем не менее
я написала за три дня пьесу «Рождение богов», зелёной
шариковой ручкой, в припадке вдохновения. Стало
быть, и это не оправдание. Даже без верной Софьи
Андреевны (жена Толстого переписывала его сочинения, но у меня не может быть жены, я сама жена!) давно
могла бы ты, девушка, написать свою «Войну и мир».Ну, так в чём же дело?
Дело в ужасе перед людьми, перед их мнением.
Я боялась всеми кишочками души оказаться отвергнутой и осмеянной. Это сейчас внутри выросло что-то вроде дерева и оделось корой, правда, не особо прочной. А до «великого одеревенения» моя душевная природа состояла, как тело матерого бойца, из ран, ожогов,
синяков, обморожений и прочих злополучий, в разных
стадиях заживления…В детской жизни было два горестных случая. То
есть их было двести двадцать два, но эти запомнились
острей всех.Меня отдали в школу — ещё семи лет не было —
зачем сидеть в детском саду смышлёному ребёнку,
который свободно читает и пишет. Трудности в общении со сверстниками, некоторую угрюмую отъединённость от мира, чрезмерную ранимость просто не заметили. (Я всегда была скрытной — коренное свойство
натуры.)Так вот, школы я испугалась. Так испугалась, что
несколько раз на людях описалась от страха. Дети смеялись — учительница, добрейшая Тамара Львовна,
взяла меня под защиту. Ничего очень уж страшного не
было, травли там или постоянного издевательства, дети
были неплохие, потом я подружилась с некоторыми
и защитилась ими от стаи. Но забыть ощущение позора трудно.Дома ничего не сказала.
Второй случай. Меня в начальных классах оставляли на продлёнку, часов до шести в школе — делать
уроки, читать под надзором. И кормили ещё какой-то
дрянью. Так ужасна была жареная картошка, отвратительная, горького вкуса — а я-то выросла на гениальной бабушкиной стряпне, — что я не могла это есть
и потихоньку выбрасывала несъедобные дольки под
стол. Кухонная работница заметила самоволку и стала
возмущённо орать. Крупная злая бабища, а я тогда
была маленькая, тихая, с косичками. Она заставила
меня лезть под стол и собирать эту горькую невыносимую картошку, и я не посмела сопротивляться. Через
шесть лет — смогла, всему школьном режиму смогла
дать отпор, о чём расскажу, а тогда сил не набрала ещё.
Полезла под стол, ползала там среди школьниковых
ног, собирала картошку, они смеялись, ух как они смеялись! Помню атомную смесь жаркого красного стыда
и солёных изобильных слёз.Я думаю, надолго остался ужас — сделать что-то
не то, над чем будут смеяться. Но его больше нет.Страх перед насмешками и осуждением людским
ушёл вместе с другими человеческими свойствами, из
которых более всего мне жаль чудесной способности
любить на ровном месте. Она, эта способность, очень
скрасила мне жизнь.Я не боюсь людей. Наверное, я их больше не
люблю — и оттого совсем не боюсь.Я кровно приварена к семье, легко отдам жизнь за
детей, многие люди меня восхищают, есть те, кто дорог
и симпатичен. Но любви больше нет — надорвалась,
устала я любить.(Мне кажется, если быть честными и посмотреть
внимательно и строго вглубь жизни — уходит любовь-
то, утекает от нас…)Ну, об этом мы ещё поговорим, а сейчас важно то,
что отдельная русская женщина совершенно распустилась и осмелела. И собирается рассказать о своей жизни,
дерзко выкрикивая «я вас не боюсь!»И чего мне бояться? Я научилась жить среди равнодушия, без горячей заботы о себе, без подарков судьбы, в беспокойстве и раздражении постоянном. Когда
меня оскорбляют, мне больно, но через два—три дня
всё проходит. Женщины часто воспринимают триаду
«деньги—слава—любовь» как возможную защиту от
холода и боли (любовь тоже боль, но иного рода) —
однако я выучилась жить и с холодом и с болью. Я терплю холод, как почтальон в старину, отправленный в
дальнее поселение с важным письмом, я терплю боль,
как терпит её человек с вылезшим гвоздём в ботинке,
который ежеминутно терзает пятку, — и ботинок
почему-то нельзя снять.Тем более что радость хоть не каждый день, как
солнце на Севере, но согревает душу.Пока что — всё терпимо.
Зря я так боялась.
Я что-то знаю?
Я, я, я, я… Забавно придумала Рената Литвинова имечко для своей глухой героини в сочинении «Обладать
и принадлежать» — Яя. Внутри нас действительно
живёт какая-то «Яя», и любит она про себя сказки сказывать и приговоры приговаривать.Над этим посмеивался гениальный Шварц Евгений Львович в гениальных своих дневниках (которые
до сих пор вроде бы полностью не расшифрованы), где
писал без придумок, с натуры — людей, годы, жизнь.
У него есть пассаж про художника Лебедева, который
любил самые обычные свои движения сопровождать
торжественным «У меня есть такое свойство…».«У меня есть такое свойство — я терпеть не могу
винегрета…»Ох ты батюшки, свойство у него.
Думаю, и вы встречали немало таких людей, важно
сообщающих нам совершенные пустяки, как рельефные, полные смысла личные «свойства».«Я пью только зелёный чай».
«Я плохо сплю в поезде».
«Не люблю печёнку!»
Ну а что, собственно, нам говорят про человека
подобные «свойства»? Ничего. Разве что помогают
притереться к индивиду, если судьба его к вам привела-приткнула. Если он ваш гость, к примеру, — ладно,
заварим ему зелёного чаю. Не дадим печёнки. Мы
гуманисты.Другое дело, если человек заявит что-то из области ментальных пристрастий.
«Почти не читаю художественной литературы, она
меня утомляет, мне скучно».«Русский рок? Нет, не перевариваю, увольте».
«Сейчас хожу только в Студию театрального искусства Женовача — это лучшее, что есть в Москве».
Уже ничего, можно какой-то разговор затеять.
Поспорить хотя бы, правда, те воображаемые фразы,
что я привела, рисуют портрет довольно категоричного, намеренно ограниченного человека, и спорить
с ним будет трудно.Но я веду к чему? К тому, что самоопределение
через набор свойств — чаще всего маленький Яя-театр.
Человеку хочется построить и сыграть цельный художественный образ себя. А потом его ещё и проанализировать! Не только перевоплотиться в образ себя, но
и рассказать о нём. Выполнить одновременно функции художественного творчества и критического анализа!Поразительно, но многие с этим справляются
отлично. (Никто не сообщает только одного — каков
его обычный процент лжи в рассказе о себе, никто
и никогда.) Так что, общаясь с человеком, имеешь дело
с двумя существами: с ним и с его художественным
образом.Крайний вариант такого раздвоения изумительно
сыграл актёр Сергей Русскин в роли Иудушки Головлёва («Господа Г.» по роману Щедрина «Господа Головлёвы», театр «Русская антреприза имени А. Миронова», Петербург). Иудушка — бездушный выродок, он
родился дефективным, бесчувственным к людям, с сильными, хищными первобытными инстинктами, что-то
ужасное есть в этой полной бабьей фигуре с адскими
ледяными глазами, что-то от нелюдя, тролля, болотной
нежити. Но он сам считает себя прилежным христианином, образцовым человеком, близким к ангелу!
Он обирает ближних с неумолимостью насекомого,
и при этом слово «бог» не сходит с его уст, принимаются смиренные позы, он сам себе кажется прекрасным, благородным, справедливым, добродетельным!Ага, скажете вы, но придумка себя идёт изнутри —
есть же «объективные показатели».Хорошо. Я смотрю на себя в зеркало — вижу
немолодую женщину среднего роста, очень крупную,
полную, с огромной грудью и животом. При этом
у меня тонкие запястья, щиколотки и шея. Осветлённые волосы обстрижены и не доходят до плеч, глаза
зелёные, но многие утверждают, что голубые —
странный, не разгаданный мной эффект. Слева в углу
губ большая родинка с явной перспективой на бородавку. В разных странах мира меня принимали только
за русскую. Лишь однажды — за польку! Помню, как
ленфильмовский гример Коля, когда я пришла на
грим для картины «Мания Жизели», посмотрел в зеркало и сказал: «А что её гримировать? Хорошее русское лицо». Подумал и добавил: «Типа Крупской».Хорошее русское лицо типа Крупской. Хорошее,
нормальное русское чудище женского рода.Но там, внутри себя, я же ничего этого не чувствую! Ни веса, ни возраста, ни цвета глаз, ни родинки — ничего…
Внутри меня обитает та, чьего имени я не знаю
и называю её Мать — Тьма, великая Тьмать, и моё тело
нужно только для поддержки её временных границ.Она заперта во мне. Она где-то есть в полной
мере не во мне, как где-то есть океан, но она есть и во
мне — она меня создала, и я не могу не отзываться,
когда она зовёт.Тьмать доходит до головы, но там она всевластия
уже не имеет. Туда она протекает во время сна полностью, а с пробуждением медленно и неохотно утекает,
оставляя густые, тёмные, долго высыхающие следы.
Там, в голове, неравномерный свет — то блистающий
и острый, то спокойный и мерцающий. Иногда он так
разрастается, что чудится, будто заливает он всю Тьмать,
затаившуюся внизу, в родовых глубинах. Но уж оттуда
её не изгонишь, не вытравишь ничем и никогда!А среди борений света и тьмы, кто там поёт
и чирикает?Да так. Какая-то птичка. Вот залетела и поет.
И я её спрашиваю утром: ну что, как дела? Будем жить?
И она отвечает: да-да! Будем жить-жить!Птица моя капризница — то запечалится вдруг, то
развеселится. Но вообще-то она питается радостью
и дарит мне ощущением полёта, хотя где она там летает — уму непостижимо…Но кто же здесь я?
А вот всё это хозяйство вместе и есть я. Всё это
хозяйство, да притом в динамическом развитии от
нуля до наших дней.Об этом и расскажет вам мой «биороман».
Буду писать спокойно и просто.
Занавес, занавес, поднимайте занавес — я готова.
Закон сохранения горя
- Марина Степнова. Безбожный переулок. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 328 с.
О том, что мы умрем. О том, что мы живем.
О том, как страшно все. И как непоправимо.Г. Адамович
Проза Марины Степновой по праву занимает особое место в современной литературе. Ее романы — лирические переживания, облеченные в прозаическую форму. Грустные истории, говорящие о простых, но очень важных вещах — о том, что каждый человек должен любить и быть любимым.
«Безбожный переулок» — новый роман писательницы, в котором она остается верной себе. Тот, кто полюбил «Женщин Лазаря», будет рад совершить глубокое погружение в подсознание новых героев, присвоить себе их мечты, испытать на себе их боль. Также он еще раз сможет убедиться в том, что творчество Марины Степновой — это продолжение традиции, заложенной русскими классиками несколько веков назад.
По своей трагической интонации «Безбожный переулок» необыкновенно похож на произведения Чехова. В то время как современные люди пьют чай, ходят на работу и в магазин, рушится их жизнь. Самым важным в книге Степновой является вовсе не сюжет — его можно рассказать в двух предложениях и тем самым абсолютно опошлить. В центре внимания оказываются «подводные течения» — скрытые в оговорках и намеках сильнейшие переживания персонажей. Перед главным героем стоит задача распознать эти зашифрованные послания в поведении своей возлюбленной и разгадать ее тайну. Однако он, как и действующие лица в пьесах классика, с треском провалился.
В романе есть и наследница женских образов Чехова — Маля. Главное в ее жизни — мечта: «Я всегда мечтала просто жить, понимаешь? Это же самое интересное. Жить. Ехать. Останавливаться где хочешь. Снова ехать. Смотреть. Жить». Но в отличие от своих предшественниц Маля не останавливается на полпути к мечте, а идет к ней до конца.
Впрочем, сравнением с одним Чеховым здесь не обойтись. Роман охотно играет с цитатами Фета, Ахматовой, Адамовича, Хлебникова, Георгия Иванова. Образы и ситуации, встречающиеся в нем, уже были когда-то описаны русскими поэтами: «Осенний крупный дождь стучится у окна, обои движутся под неподвижным взглядом. Кто эта женщина? Зачем молчит она? Зачем лежит она с тобою рядом?». Удивительно, что даже готовят здесь по рецептам, которыми наверняка пользовалось женское общество из «Анны Карениной». Что уж говорить об имени главного героя — Иван Сергеевич Огарев. Оно будто бы предопределяет его трагическую судьбу. Многочисленные отсылки к писателям-классикам свидетельствуют о том, что во все времена люди страдают по одним и тем же причинам: «Бедные люди — пример тавтологии. Кем это сказано? Может быть, мной?».
Но в конце Огарев напоминает персонажа не столько русского романа, сколько немецкой романтической повести, который видит реальность, неподвластную взгляду других людей. Грань между открывшейся ему истиной и безумием необычайно тонка. Одни решат, что Иван Сергеевич сошел с ума, другие — что он открыл для себя новую, настоящую жизнь, полную свободы, — ту самую, о которой мечтала его возлюбленная.
Художественный стиль Марины Степновой подталкивает принять позицию вторых. Язык романа чрезвычайно поэтичен и легок. Он заставляет поверить в каждое описанное чувство. Писательница подмечает мельчайшие детали, вкусы, делая созданный ею мир по-настоящему живым. Она искусно сочетает необыкновенно трогательные описания с фрагментами текста, написанными нарочито грубым стилем, с откровенным обличением, а иногда и вовсе с выдержками из медицинского справочника:
В комнату ползла, оставляя мокрый длинный след, уже не мать, не человек даже, просто все еще живое существо, почти оставленная Богом протоплазма, надоевшая пластилиновая игрушка, локтем сброшенная с поделочного стола. Аневризма, тихая, страшная ягода, невидимый пузырек, присосавшийся к сосуду, наконец-то лопнула. Мозг заливало тяжелой черной кровью, закупоривались по одному сосуды, захлопывались дверцы, суетливая возня, паника, разбегающаяся в разные стороны обезумевшая жизнь.
Такое разнообразие повествовательных регистров необходимо писательнице для того, чтобы как можно более точно отобразить все проявления жизни, подчеркнуть бессилие человека перед своей судьбой. Быть может, поэтому конец «Безбожного переулка», несмотря на всю его нереалистичность, кажется таким естественным.
Персонажи Марины Степновой, как и их литературные предки, ищут самое важное место на Земле — свой Дом. Заветное детское «чур, я в домике» они проносят через всю жизнь, превращая это заклинание в формулу счастья. Иван Сергеевич Огарев наконец-то нашел пристанище для своей души. Для этого, как и положено по традиции, ему пришлось лишиться всего, возможно, даже рассудка. Стоило ли это таких больших жертв?
Денис Драгунский. Отнимать и подглядывать
- Денис Драгунский. Отнимать и подглядывать. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 378 с.
В книгу «Отнимать и подглядывать» вошли статьи и заметки российского филолога и писателя Дениса Драгунского, опубликованные им в последнее десятилетие и посвященные литературе и всем нам. По словам автора, «отнимать и подглядывать — это, конечно, ужасно. Нехорошо, невежливо и даже иногда наказуемо», однако без этого не бывает ни нормального общества, ни культуры.
ЛЕТО И ТИШИНА
Когда что-то важное случалось, бабушка говорила: «Москва гудит!» Я помню, я слышал, как гудит Москва. Когда на каждом перекрестке, во всех дворах, в троллейбусах и метро, у каждого газетного киоска и цистерны с квасом, и в квартирах тоже, родные, знакомые и совсем незнакомые люди — везде говорили о чем-то, что потрясало. На моей памяти Москва гудела, когда в 1961 году снимали памятники Сталину. Когда через три с небольшим года сняли Хрущева. Когда поэты читали стихи на стадионах. Когда в 1971 году погибли космонавты, об этом шумела улица — буквально, реально, вслух. Как ни странно, о танках в Праге говорили тише. Потом Москва затихла надолго, лет на пятнадцать.
Правда, в этот молчаливый период московский шум распался на ручейки, на отдельные источники звука. На маленькие бумбоксы, как сказала бы нынешняя молодежь. Москва тихонечко гудела о повестях Трифонова, о судьбе «Нового мира», о Бродском и Солженицыне, о Любимове и Ефремове, о Параджанове и Тарковском. Конечно, это была Москва частичная, интеллигентская, жадно читающая и взволнованная судьбами страны, — но все же казалось, что ее много — той Москвы, а значит той страны. Были ключевые слова, общие коды и пароли, было желание узнать, понять, обсудить.
Перестройка, распад СССР, реформы Ельцина—Гайдара, мятеж 1993 года — Москва и страна снова загудела, вся, целиком, сверху вниз и справа налево. Все смотрели новое телевидение, независимое и смелое. Совокупный тираж толстых журналов обеспечивал однотипным чтением практически все грамотное население СССР. Это было очень политизированное чтение и не всегда такое уж высокохудожественное: многие романы-откровения тогдашних лет сейчас читать просто невозможно. К публицистике эти претензии не относятся: статья-сенсация через десять лет просто обязана оказаться наивной, простодушной, банальной. Иначе она не была бы сенсационной тогда. Так ли это важно? «Общерусский разговор», о котором говорил сто лет назад Василий Розанов, все-таки состоялся.
Но закончился довольно быстро.
Наверное, свою роль сыграла цензура, укрепление властной вертикали, государственный контроль над телевидением. Но главное не в этом. И даже не в том, что народ, вынужденно объедавшийся пищей духовной, с удовольствием перешел на более материальное меню.
Дело гораздо серьезнее.
Когда чего-то слишком много, оно как будто исчезает. Или теряет смысл. Стеллажи книжных магазинов пугают изобилием названий. Ярмарка интеллектуальной литературы Non-Fiction способна раздавить посетителя необозримой массой толстых, мелким шрифтом, многотомных умных книг обо всем. «Социология французской шляпной ленты в сороковых годах XIX века». «Комментарии и указатели к дневникам английских солдат в Индии». «Московские домовладельцы Сущевской части». «Трансгруэнтность локальности в постмодерне». Гигабайты информации, тонны веса, сотни тысяч рублей. Составлять библиотеку — даже по какой-то узкой отрасли — бессмысленно. Неподъемно и по деньгам, и по времени — все равно не прочтешь, физически не успеешь. Профессиональная эрудиция балансирует между интернетом и малотиражными изданиями, не вывешенными в сети. Надобно сказать, что в интернете тоже не всё прямо на блюдечке лежит. Кое-что приходится искать так же долго и хлопотно, как в старом каталоге со скрипучими ящичками.
Гуманитарных книг много, и все они очень специальные. Группы носителей знания складываются вокруг издательских проектов. Интеллектуальное сообщество дробится на мел кие и мельчайшие коллективы, и это, наверное, естественно, когда касается специальных проблем. Обидно другое. Есть масса общественных вопросов, которые составляли суть интеллигентского разговора и десять, и сто лет назад. Говорили о законе и справедливости, о свободе и рабстве, о художнике и власти, и прежде всего — о правах человека. Сегодня все это выпало из поля зрения умных и образованных людей. Смерть несчастного Магнитского, дело Самодурова и Ерофеева, конфликт вокруг Химкинского леса… «Не надо, пожалуйста, не объясняй, я все равно не пойму, не разберусь», — сказал мне знакомый профессор-гуманитарий. Правда, сильно моложе меня.
Интересная штука. Вечные темы образованного сословия — «власть и народ», «народ и интеллигенция», «интеллигенция и власть», этакая большая тройка интеллигентского дискурса, — превратились в предмет специального интереса политических журналистов. Остальные прикасаются к ним с осторожностью — тем более что вольная политическая дискуссия сильно опошлена (а если честно — опоганена) интернет-форумами, где сплошная ругань и обличение врагов России — естественно, либералов и западников. К великому сожалению, этот стиль потихоньку проникает и в более респектабельную полемику.
Скучно, конечно, и отчасти пусто. Однако тоска по общекультурному диалогу, по тому самому «общерусскому разговору» — это ностальгия по модерну, то есть по индустриальному обществу, причем в его советской, тоталитарной версии. Ностальгия по обществу однотипной фабричной занятости, когда 90% людей живут на одну зарплату и читают (смотрят, слушают, обсуждают) примерно одно и то же. Поскольку «другое» — запрещено.
Глупое брюзжание.
Надо бы попытаться понять, что происходит вокруг. Тем более что происходят весьма серьезные вещи. По сравнению с которыми цензура и вертикаль власти — сущая чепуха, мелкая рябь на бездонном озере.
Старинный шутливый вопрос: достовернее ли стала история с тех пор, как размножились ее источники?
Конечно, нет. Что такое достоверность? Когда нечто достойно веры. Достойный человек Фукидид в V веке до нашей эры подробно и беспристрастно описал историю Пелопонесской войны, которая происходила у него на глазах. Попытки обвинить Фукидида в политической предвзятости и намеренных подтасовках оказались несостоятельны, недоказуемы. Если он и ошибался, то это были обычные ошибки и неточности, от которых не застрахован никто. Одна война — один историк: вот формула абсолютной достоверности. Однако войн все больше, а число историков растет в опережающей прогрессии. На любой аргумент находится сотня контраргументов — тоже хорошо документированных. История сплющивается, превращается в вещество необычайной фактической плотности, и вот в этом веществе, как внутри атом ной бомбы, возникает цепная реакция: событие превращается в идею, а идея — в обвинение, в проклятие. Самый краткий курс истории — это два слова и два знака препинания: «Они — гады!» Впрочем, число восклицательных знаков можно увеличивать — для убедительности и доказательности.
Говорить о достоверной, истинной, правдивой истории Второй мировой войны — значит просто не понимать предмета разговора. Говорить о «недопущении переписывания истории» — такое же прискорбное невежество, и хватит об этом.Есть темы более интересные — лично для меня. Да, для меня лично, и не вижу в этом ничего стыдного, особенно сейчас. Надоело быть динозавром, который смотрит вдаль, за горизонт, ищет цели и смысла. Общей цели для страны, общего для людей смысла! Последняя когорта глупых длинношеих динозавров появилась на свет в середине семидесятых. Дальше пошли млекопитающие, умные и складные. Они хотят хорошей работы. Хорошая работа — это когда хорошая зарплата. Чтоб жена и дети, квартира и автомобиль. Чтоб детям дать хорошее образование — чтоб у них тоже была хорошая работа (см. выше). Никто не хочет составить карту истоков Конго или открыть ген шизофрении. Точнее говоря, почти никто. Нет великой мечты. Ни личной, ни общей. Какой уж тут «общерусский разговор»? О чем гудеть Москве?
Главное, главное, главное — не брюзжать! Главное — научиться жить при капитализме. В буржуазном обществе. Где голодуху и дефицит не надо драпировать великими идеями и высокими мечтаниями. В бедных интеллигентных советских семьях родители устраивали с детьми «путешествие по карте». Вот прямо так — садились с атласом под абажур и, водя карандашом по ниточкам рек и дорог, воображали себе ландшафт и поселения. Или обсуждали прочитанные книги. И ходили в кино всей семьей. Оттуда, собственно, и высокие цели: хотелось выпрыгнуть из-под абажура.
А сейчас все кругом в необозримом ассортименте. И сравнительно недорого.
Мы думаем, что разговоры о ментальности, об экономике, о развитии демократии имеют смысл. Мы ошибаемся. Смысл имеет только искусство. Вернее, так — оно наименее бессмысленно из всего перечисленного. Оно расширяет зазор между «заработал» и «потратил».
Нужнее ли стало искусство с тех пор, как оно стало преизобильно и доступно? Особенно кино. Когда в него не надо ходить, когда оно само настырным торрентом стучится в каждый компьютер.
Когда изобретают что-то новое, это не отменяет старое. Мраморные статуи и картины маслом на холсте будут создаваться до скончания веков. Никуда не денутся многотомный роман, спектакль в трех действиях и фильм, на который «надо идти».
Но физическое присутствие не означает социального влияния. Классический мейнстрим, он же Большой-Пребольшой Стиль, становится уделом маргиналов, меньшинств, которые варятся в собственном фестивально-премиально-клубном соку. «Вы видели? Смотрели? Читали?» — «Не надо, пожалуйста, не рассказывайте, я все равно не прочитаю, не посмотрю…»
Литература — это нечто для литераторов. Театр, кино — для режиссеров.
Уже довольно давно фотография стала массовым самодеятельным искусством. Очередь за кинематографом. Почему кинематографисты чего-то хотят и требуют? Сейчас фильм можно снять мобильником. Повесить в YouTube…
И стать знаменитым?
Нет, конечно. Кому это надо? Неужели мы столь безнадежно суетны?
Чтоб люди услышали, посмотрели, что-то поняли?
Нет. Холодно. Та же суетность.
Чтобы сказать. Может быть, только самому себе. Если сумеешь себя услышать.
Я сажусь в кресло, я беру в руки мобильник, я фотографирую сам себя. Мобильник у меня простой, без контрольной камеры, поэтому я иногда промахиваюсь. Ничего. Цифра этим и отличается от аналога. Не понравилось — стер, дальше поехал. Снял. Перекачал на компьютер. Гляжу и стараюсь понять себя и молчаливую, ни о чем не гудящую Москву в окне.
Возможно, я когда-нибудь сниму такой фильм. Посмотрю его и сразу же сотру.
Искусство имеет право быть одноразовым. Особенно на фоне вечности.
Извлечение камня глупости
- Елена Чижова. Планета грибов. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 348 с.
Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла
Второзаконие 32:28
Методы владения читательским вниманием петербургской писательницы Елены Чижовой имеют удивительное, абсолютно нескромное сходство с воздействием на аудиторию одного экспериментального спектакля о тоталитарном режиме. Он был поставлен в Цюрихе в конце прошлого века в цирковом шатре, куда за определенную плату впускали всех желающих, но до финала не выпускали никого. Тесно, душно и темно — такова обстановка, которую безо всякой сценографии наполнял чеканный барабанный бой. Громкость звука постепенно усиливалась, ритм становился быстрее и быстрее, а вскоре и вовсе заходился в истеричном биении, вызывая чувство паники у многочисленной толпы посетителей.
Откуда идет тенденция осовременивать, почти что одомашнивать казематы, тюрьмы, орудия пыток, можно размышлять долго. И даже если беззаботные туристы, весело фотографируясь на гильотине или в испанском сапожке, так нивелируют страх смерти, то только будучи уверенными, что механизм не приведен в решительное действие. В сравнении с парком садистских развлечений новый роман Чижовой «Планета грибов» потрясает сильнее. Он основан не на устаревших кодах, а на реальности знакомой, дебелой, удушающей.
Сосново. Два дома по соседству. Два героя. Собственники чужой земли, которая еще принадлежит фантомам их родителей. Голосами наполнены комнаты, память: «Учти, ягодный сок не отстирывается», «Надо было пошевелиться. Принять меры», «Ты — дочь писателя». Напоминание о родословной — спазм, подобный эффекту от инквизиторской казни «Дочь дворника». Классовый упрек, которым понукаются безымянные он и она, звучит как заповедь: почитай отца твоего и мать. Но — не вняли. Сын инженеров-технологов стал переводчиком, девочка из интеллигентной семьи — торговкой.
Отрезать пуповину, ведущую к истории отечества, — идея фикс для многих персонажей автора. Как и попытка эмиграции. Сменить гражданство в этой книге стремится женщина, резкая, строгая, стальная, бездетная по факту, но мысленно ведущая беседы с нерожденным сыном. Он говорит ей: «Все эти советские души, обожающие своего Создателя… Знаешь, у меня такое впечатление, что они — не совсем люди». И, оглядываясь по сторонам, как в подтверждение этой догадки герои замечают жутких и непременно скудоумных монстров, сошедших с полотен Босха: «Стараясь отрешиться от давящей головной боли, он всматривался в их лица, но видел только овощи — на старушечьих плечах, вместо голов. Старуха-огурец. Старуха-картофелина. Старуха-кабачок…»
Не столь решительный, в отличие от женщины, мужчина держит с призраками прошлого нейтралитет, взаимный договор о невмешательстве. Нетронутыми остаются предметы родительского быта (тогда как героиня бьет статуэтки, сжигает наволочку, рвет форзацы книг), границы дачного участка. Он мучится тщеславием, но не имеет смелости встать в полный рост. Он собирает свои черновики для будущих исследователей, но сделанные им переводы незаметны. «Кавдорский тан», «король в грядущем» — ему так импонировало перекликаться титулами с другом-филологом — встретил не тех ведьм, не богинь судьбы, а среднестатистических обычных женщин.
Предвестье зла, таящееся в пекле солнца, в порывах бури, в шуме леса, в растущем из глубины влечении, доподлинно и осязаемо. Но обращение романных персонажей к Богу всегда идет с союзом «если». Заминка, достаточная для того, чтобы с опаской наблюдать за исполнением молитв. В спокойной интонации повествования слышна угроза и пессимизм:
Счастье, что Он терпелив. Готов повторять снова и снова, надеясь, что рано или поздно народу наскучит повторение — мать учения, и он перестанет кружить по широким полям шляпы Его извечного врага.
Все, кто стоит у власти божественной или человеческой, чьи звания мы пишем с прописной, кровавыми руками дергают за нити жизней. О том — свидетельства скрижалей и летописей. Об этом роман Чижовой, где несовершенство мира как настоящего, так и мифического, населенного грибами, одинаково обременительно автору и его неразумным созданиям.
Карина Добротворская. Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже
- Карина Добротворская. Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже. — М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной. — 352 с.
Автобиографическая книга Карины Добротворской написана в эпистолярном жанре и посвящена ее первому мужу кинокритику и сценаристу Сергею Добротворскому, ушедшему из жизни семнадцать лет назад. «В этих письмах нет никаких претензий на объективный портрет Добротворского. Это не биография, не мемуары, не документальное свидетельство. Это попытка литературы, где многое искажено памятью или создано воображением. Наверняка многие знали и любили Сережу совсем другим. Но это мой Сережа Добротворский — и моя правда», — сказано в предисловии книги.
1.
8 января 2013
Привет! Почему у меня не осталось твоих писем?
Сохранились только несколько листков с твоими смешными стишками, написанными-нарисованными рукотворным печатным шрифтом. Несколько записок, тоже
написанных большими полупечатными буквами.
Сейчас я понимаю, что почти не помню твоего
почерка. Ни мейлов, ни смс — ничего тогда не было.
Никаких мобильных телефонов. Даже пейджер был
атрибутом важности и богатства. А статьи мы передавали отпечатанными на машинке — первый (286-й)
компьютер появился у нас только спустя два года после
того, как мы начали жить вместе. Тогда в нашу жизнь
вошли и квадратные дискеты, казавшиеся чем-то инопланетным. Мы часто передавали их в московский
«Коммерсант» с поездом.Почему мы не писали друг другу писем? Просто
потому, что всегда были вместе? Однажды ты уехал
в Англию — это случилось, наверное, через месяц или
два после того, как мы поженились. Тебя не было
совсем недолго — максимум две недели. Не помню,
как мы тогда общались. Звонил ли ты домой? (Мы
жили тогда в большой квартире на 2-й Советской,
которую снимали у драматурга Олега Юрьева.) А еще
ты был без меня в Америке — долго, почти два месяца.
Потом я приехала к тебе, но вот как мы держали связь
всё это время? Или в этом не было такой уж безумной
потребности? Разлука была неизбежной данностью,
и люди, даже нетерпеливо влюбленные, умели ждать.Самое длинное твое письмо занимало максимум
полстраницы. Ты написал его в Куйбышевскую больницу, куда меня увезли на скорой помощи с кровотечением и где поставили диагноз «замершая
беременность». Письмо исчезло в моих переездах,
но я запомнила одну строчку: «Мы все держим за тебя
кулаки — обе мамочки и я».Жизнь с тобой не была виртуальной. Мы сидели
на кухне, пили черный чай из огромных кружек или
кисловатый растворимый кофе с молоком и говорили
до четырех утра, не в силах друг от друга оторваться.
Я не помню, чтобы эти разговоры перемежались поцелуями. Я вообще мало помню наши поцелуи. Электричество текло между нами, не отключаясь ни на секунду,
но это был не только чувственный, но и интеллектуальный заряд. Впрочем, какая разница?Мне нравилось смотреть на твое слегка надменное
подвижное лицо, мне нравился твой отрывистый
аффектированный смех, твоя рок-н-ролльная пластика,
твои очень светлые глаза. (Ты писал про Джеймса Дина,
на которого, конечно, был похож: «актер-неврастеник
с капризным детским ртом и печальными старческими
глазами».) Когда ты выходил из нашего домашнего
пространства, то становилась очевидной несоразмерность твоей красоты внешнему миру, которому надо
было постоянно что-то доказывать, и прежде всего —
собственную состоятельность. Мир был большой — ты
был маленький. Ты, наверное, страдал от этой несоразмерности. Тебя занимал феномен гипнотического
воздействия на людей, который заставляет забыть
о невысоком росте: «Крошка Цахес», «Парфюмер»,
«Мертвая зона». Ты тоже умел завораживать. Любил
окружать себя теми, кто тобой восторгался. Любил,
когда тебя называли учителем. Обожал влюбленных
в тебя студенток. Многие из твоих друзей обращались
к тебе на «вы» (ты к ним тоже). Многие называли по
отчеству.Я никогда тебе этого не говорила, но ты казался
мне очень красивым. Особенно дома, где ты был
соразмерен пространству.А в постели между нами и вовсе не было разницы
в росте.2.
22 января 2013
Я так отчетливо помню, как увидела тебя в первый раз.
Эта сцена навсегда засела у меня в голове — словно
кадр из фильма новой волны, из какого-нибудь «Жюля
и Джима».Я, студентка театрального института, стою со
своими сокурсницами на переходе у набережной
Фонтанки, около сквера на улице Белинского. Напротив
меня, на другой стороне дороги — невысокий блондин в голубом джинсовом костюме. У меня волосы
до плеч. Кажется, у тебя они тоже довольно длинные.
Зеленый свет — мы начинаем движение навстречу
друг другу. Мальчишеская худая фигурка. Пружинистая
походка. Едва ли ты один — вокруг тебя на Моховой
всегда кто-то вился. Я вижу только тебя. По-женски
тонко вырезанное лицо и голубые (как джинсы) глаза.
Твой острый взгляд меня резко полоснул. Я останавливаюсь на проезжей части, оглядываюсь:— Это кто?
— Ты что! Это же Сергей Добротворский!
А, Сергей Добротворский. Тот самый.
Ну да, я много слышала про тебя. Гениальный
критик, самый одаренный аспирант, золотой мальчик,
любимец Нины Александровны Рабинянц, моей
и твоей преподавательницы, которую ты обожал за
ахматовскую красоту и за умение самые путаные мысли
приводить к простой формуле. Тебя с восторженным
придыханием называют гением. Ты дико умный. Ты
написал диплом об опальном Вайде и польском кино.
Ты — режиссер собственной театральной студии,
которая называется «На подоконнике». Там, в этой
студии на Моховой, в двух шагах от Театрального
института (так написано в билете), занимаются
несколько моих друзей — однокурсник Леня Попов,
подруга Ануш Варданян, университетский вундеркинд
Миша Трофименков. Туда заглядывают Тимур Новиков,
Владимир Рекшан, длинноволосый бард Фрэнк, там
играет на гитаре совсем еще юный Максим Пежемский. Там ошивается мой будущий лютый враг и твой
близкий друг, поэт Леша Феоктистов (Вилли).Мои друзья одержимы тобой и твоим «Подоконником». Мне, презирающей подобного рода камлания,
они напоминают сектантов. Андеграундные фильмы
и театральные подвалы меня не привлекают. Я хочу
стать театральным историком, азартно роюсь в пыльных
архивах, близоруко щурюсь, иногда ношу очки
в тонкой оправе (еще не перешла на линзы) и глубоко
запутана в отношениях с безработным философом,
мрачным и бородатым. Он годится мне в отцы, мучает
меня ревностью и проклинает всё, что так или иначе
уводит меня из мира чистого разума (читай —
от него). А театральный институт уводит — каждый
день. (Недаром театр на моем любимом сербском —
«позорище», а актер — «глумец».)Театральный институт был тогда, как сказали бы
сейчас, местом силы. Это были его последние золотые
дни. Здесь еще преподавал Товстоногов, хотя жить ему
оставалось недолго, несколько месяцев. Ты называл его
смерть счастливой — он умер мгновенно (про смерть
говорят «скоропостижно», больше ведь ни про что так
не говорят?), за рулем. Все машины поехали, когда
включился зеленый свет, а его знаменитый «мерседес»
не двинулся с места. Так умирает герой Олега Ефремова
за рулем старой белой «волги» в фильме с невыносимым названием «Продлись, продлись,
очарованье» — под тогдашний истерически-бодрый
хит Валерия Леонтьева «Ну почему, почему, почему
был светофор зеленый? А потому, потому, потому, что
был он в жизнь влюбленный».Мы ходили на репетиции к Кацману. Его предыдущий курс был звездным курсом «Братьев Карамазовых» — Петя Семак, Лика Неволина, Максим
Леонидов, Миша Морозов, Коля Павлов, Сережа
Власов, Ира Селезнева. Кацман любил меня, часто
останавливал на институтских лестницах, задавал
вопросы, интересовался, чем я занимаюсь. Я болезненно стеснялась, что-то лепетала про темы своих
курсовых. Вместе с Кацманом на Моховой преподавал
Додин и именно тогда выпустил «Братьев и сестер»,
на которых мы ходили по десять раз. Лучшие педагоги
были еще живы — студентки-театроведки млели
от лекций Барбоя или Чирвы, в аудиториях витали
эротические флюиды. Студенты-актеры носились
со своими невоплощенными талантами и неясным
будущим (про самых ярких говорили: «Какая прекрасная фактура!»); студентки-художницы носили длинные
юбки и самодельные бусы (ты называл эту манеру
одеваться «магазином Ганг»); студенты-режиссеры вели
беседы о Бруке и Арто в институтской столовой
за стаканом сметаны. Так что и ленинградский театр, и ЛГИТМиК (он сменил столько названий, что
я запуталась) были еще полны жизни и притягивали
одаренных и страстных людей.Тогда, на Фонтанке, когда я остановилась
и обернулась, то увидела, что ты тоже обернулся.
Через несколько лет все запоют: «Я оглянулся
посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть,
не оглянулся ли я». Мне показалось, что ты посмотрел
на меня почти презрительно. При твоем маленьком
росте — сверху вниз.Ты потом говорил мне, что не помнишь этой
встречи — и что вообще увидел меня совсем не там
и не тогда.3.
26 марта 2013
Так обидно, что сегодня тебя не было рядом со мной.
Я ходила на выставку «Дэвид Боуи» в лондонском
музее Виктории и Альберта. Я о ней столько слышала
и читала, что казалось, я там уже побывала. Но, оказавшись внутри, почувствовала, что сейчас потеряю
сознание. Там было столько тебя, что я эту выставку
проскочила почти по касательной, не в силах впустить
в себя. Потом сидела где-то на подоконнике у внутреннего музейного дворика и старалась удержать
слезы (увы, безуспешно).И дело не в том, что ты всегда восхищался Боуи
и сам был похож на Боуи. «Хрупкий мутант с кроличьими глазами» — так ты его однажды назвал. И не
в том, что твои коллажи, рисунки, даже твой полупечатный почерк так напоминали его. И даже не в том,
что для тебя, как и для него, так много значила экспрессионистская эстетика, так важны были Брехт и Берлин,
который ты называл городом-призраком, исполненным
пафоса, пошлости и трагизма. Дело в том, что жизнь
Боуи была бесконечной попыткой превращения себя
в персонаж, а жизни — в театр. Сбежать, спрятаться,
изобрести себя заново, обмануть всех, закрыться
маской.Я нашла твою статью о Боуи двадцатилетней
давности. «Кинематограф по определению был и остается искусством физической реальности, с которой
Боуи долго и успешно боролся, синтезируя собственную плоть в некое художественное вещество».Помню, как ты любовался его разноцветными
глазами. Называл его божественным андрогином.
Как восхищался его персонажем — ледяной белокурой
бестией — в умозрительном и статичном фильме
Осимы «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс»,
который ты любил за нечеловеческую красоту двух
главных героев. Как говорил, что вампирский поцелуй
Боуи с Катрин Денев в «Голоде» — едва ли не самый
прекрасный экранный поцелуй. Тогда меня всё это не
слишком впечатляло, но теперь неожиданно ударило
в самое сердце. И в той же твоей статье я читаю:
«Кинематограф так и не уловил закон, по которому
живет это вечно изменяющееся тело. Но кто знает,
может быть, именно сейчас, когда виртуальная реальность окончательно потеснила физическую, мы все-таки узреем истинный лик того, кто не отбрасывает
тени даже в ослепительном луче кинопроектора».Ну почему, почему у меня текут эти глупые слезы?
Ты умер, он жив. Счастливо женат на роскошной
Иман, остепенился, обрел вполне себе физическую
реальность — и как-то живет со своим виртуальным
мифом.А ты умер.
Юрий Арабов. Столкновение с бабочкой
- Юрий Арабов. Столкновение с бабочкой. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014.
Писатель Юрий Арабов, известный не только своими книгами «Биг-Бит», «Флагелланты», «Орлеан», но и сценарием к фильму Александра Сокурова «Молох», в новом романе «Столкновение с бабочкой» создает альтернативную историю ХХ века. Как повернулась бы судьба страны, если бы главные ее действующие лица могли договориться, пойти на компромисс? Место действия — Цюрих, Петроград, Гельсингфорс; персонажи как будто всем известные, но увиденные с необычной стороны — Ленин, Николай II, императрица Александра Федоровна, наследник Алексей, Матильда Кшесинская и — конечно — русский народ.
Глава вторая
ОТРЕЧЕНИЕ На паровозе номер 1151. Что он означает? Если сложить цифры вместе, то получится восьмерка. Она —
как петля Мёбиуса. Символ дурной бесконечности.
Наша жизнь — дурная бесконечность. Как и жизнь
любого из государей. Царствую двадцать три года.
Люблю маневры. Интересен флот. Особенно подводные лодки. Стоят в Риге. Если забраться в подводную лодку и уплыть в Португалию? Уместится ли
там вся семья? Алеша спросил намедни по-английски:
«Папа, а где расположена Португалия?» — «В географических атласах», — сказал я. Хороший ответ, остроумный. Дочери болеют корью. Невозможно воевать,
когда дома болеют. Победа над немцами — на расстоянии вытянутой руки. Так мне сказал генерал Алексеев. Мне говорят это три года. И всё — вытянутая рука.
Но почему-то до немцев она не достает. Руки коротки.
У инвалида может вообще не быть рук. За время войны погибло три миллиона человек. За один только
прошлый год, кажется, — два миллиона, если я не путаю. Следовательно, потери удвоились по сравнению
с двумя предыдущими годами. Хорошо ли это? Что
играет на руку смуте? Антивоенные листовки или потери в три миллиона? Допустим, они все в Раю. Цели
войны благородны — помочь Франции и Англии. Но
как это получилось, что мы рассорились со своим кузеном Вилли? Мы убиваем солдат Вильгельма, он —
наших. Но мы с ним одной крови. Можем в любой
момент замириться. Я не буду идти на Берлин. Как
только перейдем германскую границу, я предложу
кайзеру благородный мир. А эти убитые… они все спасены. В Раю об нас молятся. Не было бы убитых солдат, Рай бы остался пустым. Голова болит. От французского коньяка голова болит. Надо брать в дорогу
русскую водку. «Матушка! Забери меня домой! Как
же они меня мучают, как бьют…» — откуда это? Я, кажется, напился, как гимназист. Плохо. Начальник
штаба сказал: в Петрограде смута. Мы засмеялись.
Мы ведь сами только что оттуда. И никакой смуты не
видели. Но мы ведь — из Царского Села. Одно ли это
и то же? Пусть смута. Двенадцать лет назад Господь
помог удержаться, поможет и сейчас. Мы ложимся.
Едем обратно в Царское Село и ложимся. Но поезд не
пускают обратно. Задерживают под Псковом. Это
какая станция и перегон? Дно. Странное название.
Ложимся и спим. Матушка Богородица! Спаси нас!..Государь Николай Александрович прилег на узкий
кожаный диван и, не подложив под голову подушку,
а припав к черному валику, свернулся калачиком и закрыл глаза. Десять голубых вагонов с узкими окнами
и двуглавыми орлами между ними выглядели парадно и сухо. Про них нельзя было сказать: молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели, — это было
невозможно. Их блестящий казенный вид больше подходил стуку телеграфа или пишущих машинок. Из них
приказывали, казнили и миловали. Хотя пение иногда прорывало грохот колес, вылетая наружу, когда
в присутствии государя его адъютанты взбадривали
кровь спиртным и начинали горланить русские песни,
чтобы никто не заподозрил этих гладких породистых
людей в отсутствии патриотического чувства. Казалось, какое-то правительственное учреждение встало
вдруг на колеса и поехало зачем-то в Могилев, отдыхая в дороге от бюрократического бремени.Да, поезд был похож на одетого с иголочки военного, к которому прицеплена вся остальная Россия, не
хотевшая ни ехать, ни идти. Тем более в Германию.
Все знали, что Романовы — немцы. И немцы, воюющие за русских, против немцев, воюющих за Германию… в этом была какая-то дичь. И если снаружи вагоны напоминали правительственное учреждение, то
внутри были похожи на уютную квартиру человека
с достатком — например, адвоката или промышленника средней руки. В интерьере не было показной роскоши, но был вкус. Государь обожал голубой цвет, но
еще более он любил цвет зеленый. Зеленым шелком
были обиты стены его купе-кабинета и письменный
стол, за которым подписывались распоряжения. Диван для отдыха располагался параллельно окну, а не
перпендикулярно, как положено в вагонах. Тумбочка
из красного дерева стояла у окна, которое было по
большей части зашторено. Когда не видишь движения за окном, а только слышишь стук колес, то кажется, что и не едешь вовсе. Какой порядочный семьянин путешествует без жены и детей? Тем более по
России, от вида которой хочется или орать песни, или
навсегда замолчать? Семья рядом помогла бы избежать и того и другого. Но она теперь далеко, моя любимая семья. А почему я еду без нее? Потому что дети больны. И куда еду? Ах да, я как-то запамятовал.
Ехал я в Могилев, в ставку, потому что мы — главнокомандующий. Но генерал Алексеев расстроил. Сказал про смуту в Петрограде. Там же узнал, что безоружная толпа взяла Кресты. Как могут безоружные люди
взять вооруженную тюрьму? Тюрьма ведь не женщина. А они — забрали всё. Выпустили политических
и уголовных. Значит, охрана разбежалась. Или нам
неправильно докладывают? Мы — в сетях заговора,
нам врут в глаза. Это даже забавно. Они хотят моего
отречения. А как я могу отречься? Я ведь не виноват
в том, что царь. Это же дела Божьи. Игра судьбы или
случая, и мы здесь не вольны в своем выборе.Он приоткрыл глаза. Поезд был неподвижен, как
вросший в землю дом. На полу лежал зеленый ковер,
напоминавший аккуратно стриженный английский газон. На таком он играл в детстве близ Александровского дворца. В такой же траве играют сегодня его дети в Царском Селе. Когда здоровы. Долг христианина он исполнил — дочери-невесты, утонченные до
прозрачности и будто сошедшие с фотографий, ждали августейших женихов. Через Анастасию были видны чайные розы. Через Марию просвечивало небо. Ольга получилась умнее его, и с ней он делился сокровенным. Татьяна хорошо пела. Однако вторая половина
его специфического долга под названием «Российская империя» обещала сорвать спокойную старость.
Странник Григорий заклинал его от войны с Германией. Далеко видел. За то и пострадал. Говорили, что
перед войной Россия расцвела. Во многом так. Монархия, укрепленная конституцией, стала более современной, чем раньше. Ограничения в избирательных правах для сословий и инородцев? Но это мы
поправим со временем. Самоуверенный Столыпин
предлагал снять черту оседлости с евреев. Мы сказали ему: не сейчас, рано. Мы его не любили. Он был
слишком сильным и перетягивал одеяло на себя. Мы
были фоном для замечательного премьера, кто такое
вытерпит? В конце концов он ушел к Богу, а евреи
ушли в революцию. Да что я? О каких пустяках думаю? При чем здесь евреи и революция? Мне о войне думать надо, о войне!.. А думать ох как не хочется…
Подсохнут дороги, и по ним снова запылят солдатские сапоги. Завертятся колеса подвод, и священники
в калошах, похожие на черных жуков, будут высматривать по обочинам места для новых захоронений.
Говорят, что мужики могут спать на ходу, идя строем.
Возможно. Мне великий князь Николай Николаевич
рассказывал, как обнаружил целую поляну с поваленными на нее телами в полном обмундировании. Думал, что трупы. Оказывается, все спали. Мне бы такой
сон, я даже завидую. Еще один миллион закопаем
в землю. Я не о деньгах, я о людях. Денег нам не жалко… это ведь бумага, за которой ничего не стоит.Государь приоткрыл глаза, прислушиваясь, не пошел ли поезд. На стенах его кабинета-купе висели
многочисленные фотокопии августейшей фамилии.
Под потолком был прикреплен турник, на котором он
мог подтянуться раз тридцать за один подход. В углу
располагался обширный иконостас с почерневшим
от копоти образом Спаса Нерукотворного. Жить бы
в таком кабинете все время и никуда не ехать!.. Только чтоб дети были под рукой и рядом. А Александра
Федоровна — далеко… Чур меня! Вот ведь что нашептывает лукавый! Сгинь, сатана!.. Изыди и расточись!..
Александра Федоровна — здесь, и дети тоже.Ему показалось, что пошел проливной дождь. Что
по крыше бьют крупные капли… Откуда дождь в первых числах марта, да еще такой проливной? Невозможно. Обрушился, отзвенел и затих. Государь заметил, что на окне его купе нет капель. Луч станционного прожектора освещал стекло, и капли на нем были
бы заметны. Что за шум? Странно.В дверь постучали.
— Ваше величество! Приехали депутаты Государственной думы.
— Зачем?
Министр двора граф Фредерикс печально вздохнул и не ответил. Не так давно он был введен в графское достоинство. Но кто из них выше, граф или барон, Фредерикс так и не решил, да и государь, похоже, тоже.
— Пусть подождут в гостиной.
Вот ведь черти! В дороге отыскали, в глубине страны нашли! Я и говорю: заговор кругом. Машина работает против меня и помимо воли. Она меня раздавит!..
Государю сделалось страшно. Он почувствовал, как мужество оставляет его. Вокруг — шпионы. Все гонят, все клянут… Мучителей толпа! Что я должен делать?
Ведь они, пожалуй, придушат меня, как государя Павла Петровича, который заключил с Бонапартом сердечное соглашение и двинул на Индию казачьи войска атамана Платова. Если бы Павла Петровича не придушили, то и Индия была бы русской. Там, говорят, много обезьян и бананов. Охотились бы на слонов. Но тропические дожди на несколько месяцев…
Эти нам совсем ни к чему. Лучше бы Японию присоединить. Но там ураганы. Тоже некстати. Нет. Не сложилось. Не срослось. Европа нам ближе. Там — одни
наши родственники. С ними надобно заключить сердечный мир и договор о ненападении, как я предлагал до войны в Гааге. Удивительно, но все забыли о моем
начинании. Война — крепкая память человечества
и факт истории. Мир не задерживается в памяти и не
попадает на страницы учебников.…Он вошел в гостиную, по-военному подтянутый,
в серо-зеленой черкеске и с таким же серо-зеленым
лицом. Болтающийся на левом боку кинжал делал его
похожим на кавказца. Граф Фредерикс готовился записывать исторический разговор. Хорошо. Пусть пишет. Двое думцев. Фамилии не помню. Ах да, это же
Гучков, с ним я встречался несколько раз, а рядом
кто? Этого совсем забыл, хотя лицо как будто бы знакомо.— Не промокли по дороге, господа?
Гости переглянулись, не понимая.
— Ведь был дождь? Я слышал.
— Это не дождь, ваше императорское величество. Это…
Фредерикс кашлянул, пытаясь предупредить говорящего о нежелательности продолжения темы. Но Гучков все-таки докончил:
— Нам хлопали люди, собравшиеся на путях.
— Вас вызывали на бис?.. — и государь вставил в мундштук папиросу.
— Нет. Скорее, это был аванс.
— А может быть, они вызывали меня? Судя по аффектации, все билеты проданы. Полный аншлаг.
Николай Александрович закурил и сел сбоку у окна
за небольшим столом. При людях он всегда вставлял
папиросу в мундштук, но в одиночестве мог курить
просто, по-солдатски, прикуривая от окурка, одну папиросу за другой.Жестом пригласил гостей садиться рядом. Фредерикс поставил у окна кресла, и все присели тут же, за
маленьким столом, четверо государственных мужей,
бок в бок, будто хотели заняться столоверчением.Василий Витальевич Шульгин, приехавший вместе с Гучковым, как гражданин и человек чувствовал
торжественность минуты. Сеанс политического спиритизма обещал быть впечатляющим. Об этом потом напишут, как он, лысоватый киевский журналист, жалкий провинциал с огнем в сердце и химерами
в башке, принимал отречение государя императора,
чтобы спасти Россию и монархию. Спасти от ныне действующего государя императора. Звучит комично.
Но разве Николаю Александровичу объяснишь то,
что происходит сегодня в Петрограде? Не расскажешь,
как незнакомая никому Россия, вооруженная и грязная, с кумачом над головой и ветром в самой голове,
заполнила залы Таврического дворца… Серо-рыжая
солдатня и черная рабочеобразная масса с грузовиками, похожими на дикобразов от поднятых вверх
штыков… Это была весенняя вода черного подтаявшего снега. Она выдавила депутатов Государственной думы из главного зала на периферию, в кабинет
Родзянко, и начала проводить во дворце непрекращающийся митинг. В кабинете, где раньше заседала бюджетная комиссия, расположилась странная компания
небритых людей, которая называла себя совдепом. Ораторы сменяли друг друга. Говорили сбивчиво, непонятно. Но внутри каждого горела электрическая лампа,
подсвечивающая одно-единственное требование: «Долой!..» Многие депутаты разбежались, а те из них, кто
имел мужество остаться во дворце, сбились в кучу
в кабинете председателя и в тесноте, в смраде, голова
к голове, решали, что делать дальше… Как спасти
Россию? И главный вопрос, который их мучил, —
тождественна ли монархия родине, или это совсем
разные понятия, несоразмерные друг с другом? Сам
Шульгин отвечал на этот вопрос утвердительно: да,
тождественна. Россия и царь — это одно и то же.— И какую пьесу вы мне привезли? — спросил государь император, морщась и выпуская из себя сизое облако дыма. Вопрос явно был лишним.
— Мы вам привезли просьбу об отречении, — выдохнул Александр Иванович Гучков. Вид его был суров и сумрачен. Он чем-то напоминал дорогую, но
закопченную сковороду, которой можно убить наповал… Вытащил из портфеля папку с одним-единственным листком внутри и передал Николаю Александровичу.— Кто автор пьесы? — спросил государь.
— Русский народ, — с пафосом ответил Гучков.
— Но вы ведь от Думы ко мне пришли, а не от народа.
— Это одно и то же.
— Но если вы и народ нераздельны, то кто такой я и чьи интересы представляю?
Вопрос повис в воздухе. Некоторое время все молчали. Как странно он говорит, — подумал Шульгин. — Что за акцент? Когда подчеркиваются согласные звуки, а гласные с их округлостью и певучестью
почти совсем пропускаются? Немецкий это акцент,
что ли? Он же немец, наш царь. Но вдруг из глубины
памяти выплыло — это же гвардейский акцент. Так
его называют. Им разговаривают на плацу военные.
Гвардейский акцент неотделим от его черкески. И почему он всегда одевается в военное? Меняет наряды, мундиры и папахи, а сам не меняется? Потому что
сейчас война. Но он и до войны одевался точно так же. У него же воинское звание. Оттого и мундиры.
Полковник или подполковник… я запамятовал. Скромен. Однако в этой скромности все-таки чувствуется
маскарад. Сегодня он в горской папахе, завтра — в военной фуражке, послезавтра — вообще без головного
убора. И может быть, без самой головы. Бедный потерянный человек! Уходи от нас скорее. Играй в войну со своими детьми. Страна не для тебя. И война
тоже. Убитые на ней не воскресают, как оловянные солдатики.