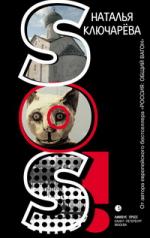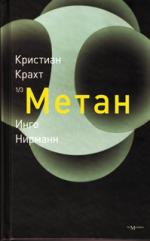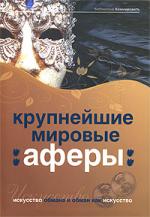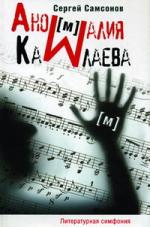Уникальные отношения композитора с меценаткой Надеждой фон Мекк
В издательстве «Вита Нова» (Санкт-Петербург) вышло двухтомное издание «Петр Чайковский. Биография», самая полное и авторитетное, сколько можно судить, жизнеописание великого композитора, (вос)созданное на основе его переписки и архивных документов, многие из которых впервые вводятся в научный оборот. Автор — сотрудник Йельского университета (США) Александр Познанский — предлагает исчерпывающее (насколько вообще может быть исчерпывающей биография гения) описание жизни и творчества П. И. Чайковского, по-научному корректное, тщательное, доказательное и вместе с тем лишенное глянца, ретуши и идеологических искажений. Подробно изображены эпоха, среда и личные отношения композитора. Особое внимание уделено малоизвестным фактам его жизни: годам, проведенным в Училище правоведения, катастрофической истории женитьбы, обстоятельствам безвременной кончины и разумеется, уникальным отношениям с меценаткой Надеждой фон Мекк, добрым гением Чайковского. Фрагмент главы, посвященной этим отношениям, мы и предлагаем вам сегодня.
Майские иллюзии
В истории взаимоотношений с женщинами 1877 год — и в этом заключается знаменательная ирония — стал для Петра Ильича и роковым, и судьбоносным. Принимая во внимание одолевавшую его в то время внутреннюю напряженность по этому поводу, быть может не случайно, что именно в этом году с женщинами завязалась как разрушительная, так и необыкновенно благотворная коллизия. Так, по-видимому, реализовалась дилемма-желание «быть как все», тяжесть и сложность которой он остро переживал в этот период. Разрушительной и едва ли не гибельной оказалась пресловутая женитьба на Антонине Милюковой; благотворной и даже спасительной стала необычайная и даже единственная в своем роде «эпистолярная дружба» с Надеждой Филаретовной фон Мекк, начавшаяся в то же самое время.
За две недели до нового года, который композитор решил встретить в Москве, он получает письмо от фон Мекк, где она благодарит его за «скорое исполнение» ее музыкальных заказов и выражает свое восхищение перед композитором: «Говорить Вам, в какой восторг меня приводят Ваши сочинения, я считаю неуместным, потому что Вы привыкли и не к таким похвалам, и поклонение такого ничтожного существа в музыке, как я, может показаться Вам только смешным, а мне так дорого мое наслаждение, что я не хочу, чтобы над ним смеялись, поэтому скажу только, и прошу верить этому буквально, что с Вашею музыкою живется легче и приятнее».
Чайковский вежливо ответил: «Искренне Вам благодарен за все любезное и лестное, что Вы изволите мне писать. Со своей стороны я скажу, что для музыканта среди неудач и всякого рода препятствий утешительно думать, что есть небольшое меньшинство людей, к которому принадлежите и Вы, так искренне и тепло любящих наше искусство. Искренне Ваш преданный и уважающий П. Чайковский».
Вежливо-формальный тон писем, которыми обменялись фон Мекк и Чайковский в самом начале даже не намекал на серьезную будущность их отношений, неоспоримо важных для них обоих. Модест был одним из первых, кто подчеркнул неповторимость и значительность этих отношений и крайнее своеобразие женщины, вошедшей в жизнь композитора с куда большей основательностью, чем любая другая представительница ее пола (если не считать матери): «Они [эти отношения — А. П.] столь сильно отразились на всей его последующей судьбе, так в корне изменили основы его материального состояния, а вследствие этого так ярко отразились на его артистической карьере, вместе с тем, сами по себе, носили такой высоко-поэтический характер и так были не похожи на все, что происходит в обыденной жизни современного общества, что прежде чем понять их, надо узнать, что за человек был этот новый покровитель, друг, ангел хранитель Петра Ильича».
Ангел-хранитель Чайковского, Надежда Филаретовна фон Мекк, была женщиной в высшей степени незаурядной. Насколько это было возможно в стесненных условиях русского «викторианства», она являла собою цельную личность с богатой внутренней жизнью, несмотря на изрядную долю присущей ей эксцентричности. Дочь помещика-меломана Филарета Фроловского (или, как утверждают архивные данные, — Фраловского), в шестнадцать лет вышедшая замуж за остзейского немца Карла фон Мекка, инженера с очень скромными средствами к существованию, она испытывала в молодости, по собственному признанию, немалую материальную нужду, и это, возможно, сделало ее столь отзывчивой к бедственному положению других. Головокружительный финансовый успех ее мужа, ставшего «железнодорожным королем», принес им многомиллионное состояние. В этом браке родились 18 детей, из которых выжили 11. После смерти в 1876 году Карла Федоровича они стали предметом непрестанной заботы его вдовы, возглавившей, кроме того, по завещанию мужа, финансовую империю фон Мекков.
Казалось бы, достаточно, чтобы заполнить с избытком жизнь даже весьма энергичной женщины. Однако душевные запросы Надежды Филаретовны этим не удовлетворялись. Девятью годами старше композитора, она была очень образованным человеком, и остается лишь удивляться, каким образом и когда у нее оставалось время на приобретение этого образования. Помимо ее фанатической (можно было бы даже сказать, патологической) любви к музыке, которую она изучила весьма основательно, письма к Чайковскому раскрывают ее обширные познания в области литературы и истории, отличное владение иностранными языками (включая польский), умение оценить произведения изобразительного искусства. Она читает Соловьева и Шопенгауэра, часто пускается в очень нетривиальные философские дискуссии, четко и проницательно судит о политических вопросах.
Это не означает, что Надежда Филаретовна неизменно пребывала на уровне высокой интеллектуальности — к таковому она приближалась лишь изредка, и в ее рассуждениях немало наивности и клише, но общее впечатление от ее переписки с Чайковским дает основания говорить о нравственной, душевной и умственной соизмеримости обоих корреспондентов, что особенно лестно для фон Мекк, тем более что Чайковский был гениальным художником, а она лишь восторженной ценительницей его искусства.
Фон Мекк стала силой в музыкальном мире Москвы благодаря как богатству, так и собственному энтузиазму. Она вступила в сложные отношения с Николаем Рубинштейном, фрондируя против него и в то же время отдавая должное его дарованиям и энергии. Мы не знаем, при каких условиях и в какой момент загорелась она страстно-восторженной любовью к музыке Петра Ильича и чем было вызвано это восхищение, далеко выходившее за пределы обыденности. Надежда Филаретовна еще при жизни мужа активно покровительствовала молодым музыкантам, и некоторые из них постоянно состояли в ее штате, доставляя ей наслаждение исполнением ее любимых произведений. Двое из этих молодых людей, время от времени сменявшихся, сыграли решающую роль в развитии ее отношений с Чайковским: бывший ученик композитора скрипач Иосиф Котек, на первых порах служивший посредником между ними (вскорости он расстанется с ней), и Владислав Пахульский, о котором речь позже.
В письмах Чайковского, несмотря на присущую им тонкую артистическую ментальность, нет намека на снисходительность: когда он спорит с «лучшим другом», а спорит он с ней по вопросам искусства часто и со страстью, — он это делает естественно и равноправно, что было бы невозможно, если бы он не считал ее равной себе с полной искренностью: ведь в сфере творческой он не был способен на лицемерие. Со своей стороны, в ее письмах не обнаруживается ни малейшего следа социального снобизма богатой меценатки, болезненного самолюбия возгордившейся дилетантки, привыкшей поворачивать по-своему художнические судьбы и ожидать за это благодарности в качестве награды.
Эти человеческие черты делают честь им обоим, так что, несмотря на их многочисленные личные недостатки (в частности, отразившиеся и в переписке), на свойственную обоим неврастению (называемую ими мизантропией), капризность, слабодушие и двоемыслие композитора, навязчивость, непоследовательность и прямолинейность его благодетельницы, — и то и другое время от времени для читателя чревато раздражением, — несмотря даже на загадочный и неоправданный разрыв — отношения эти составляют самую, быть может, привлекательную главу в биографии композитора и в высших своих проявлениях являются образцом отношений между духовно высокоразвитыми людьми…
Была ли фон Мекк счастлива со своим мужем, умершим лишь за несколько месяцев до ее первого письма Петру Ильичу? Об этом нет ни слова даже в самых откровенно-интимных письмах. Казалось бы, гигантское состояние и одиннадцать детей должны были бы прочно привязать их друг к другу. Одним из первых заказов ее Чайковскому еще в 1876 году была просьба написать для нее реквием, что наводит на мысль о глубоком трауре. После смерти мужа Надежда Филаретовна категорически прекратила какую бы то ни было светскую жизнь, удалившись в полное затворничество, вплоть до отказа встречаться с родственниками тех, на ком она женила или за кого выдала замуж своих детей. По мемуарным отзывам, властная, даже деспотичная, она держала домочадцев в рамках строгой морали, в том числе и в делах любовных, Приятель Чайковского Котек, которого она пригрела одно время, попал к ней в опалу по причине его амурных похождений — и до такой степени, что она не нашла даже слов соболезнования, сообщая Чайковскому в одном из писем о его кончине. По отношению к женщине, оказавшейся способной на столь экзальтированный «эпистолярный роман» любопытна характеристика, данная ею однажды самой себе в одном из писем: «я очень несимпатична при личных сношениях, потому что у меня нет никакой женственности, <…> я не умею быть ласкова, и этот характер перешел ко всему семейству. У меня все как будто боятся быть аффектированными и сентиментальными, и поэтому общий характер отношений в семействе есть товарищеский, мужской, так сказать», — казалось бы, полная противоположность в высшей степени чувствительному складу души самого Петра Ильича.
Не случайно ли именно такая женщина оказалась предрасположенной к роли «невидимой музы» Чайковского? Человеческие характеры, тем более значительные, бывают исполнены бесконечных противоречий и парадоксов. Та же моралистически настроенная фон Мекк в письмах к драгоценному своему Петру Ильичу неоднократно разражается выпадами против брака как общественной институции и признается в своей ненависти к нему. Речь буквально идет о неприятии брака как нравственного принципа: «Вы можете подумать, дорогой мой Петр Ильич, что я большая поклонница браков, но для того, чтобы Вы ни в чем не ошиблись на мой счет, я скажу Вам, что я, наоборот, непримиримый враг браков, но когда я обсуждаю положение другого человека, то считаю должным делать это с его точки зрения». И в другом контексте и в более обобщенном плане, но не менее недвусмысленно: «То распределение прав и обязанностей, которое определяет общественные законы, я нахожу спекулятивным и безнравственным».
Совместить эту ненависть с любовью к семье непросто: можно заподозрить, что собственный супружеский опыт вынуждал ее признавать семейные блага и радоваться им, отрицая в то же время сладость сексуальных отношений между мужчиной и женщиной — недаром она однажды обмолвилась: «я мечтать перестала с семнадцатилетнего возраста, т. е. со времени выхода моего замуж». Брак, таким образом, оказывается лишь печально необходимым условием построения семьи — потому и стремилась она переженить детей своих как можно скорее, чтобы обеспечить им общественную устойчивость на случай ее смерти. Что же до сексуальных отношений мужчины и женщины, то они сводятся к взаимной эксплуатации — точка зрения, не столь уж далекая от разночинно-радикальных рассуждений Чернышевского или Писарева — последнего, между прочим, Надежда Филаретовна весьма и весьма почитала, одобряя позитивизм в принципе.
Этот узко прагматический подход, не лишенный брезгливости, по всей вероятности, ответственен за необыкновенно высокий накал платонических чувств, столь ярко характеризующих ее отношение к Петру Ильичу. Несмотря на значительный, как мы увидим, эротический компонент, она удовлетворилась негласно установленным ими правилом не видеться ни при каких условиях, хотя с ее решительным характером могла бы пересмотреть эту договоренность в любой момент. Здесь, вероятно, играл роль не только комплекс ее некрасивой внешности и прошедшей молодости; гораздо более принципиальным было понимание ею эроса в плане эмоциональном, а не физиологическом — этот последний аспект по тем или иным причинам ею выдворялся усердно, в лучшем случае, в подсознание. Сложившаяся коллизия удовлетворяла ее внутренним, но глубоко запрятанным потребностям, давая простор эмоциям и по определению исключая неприятные, глубоко-постыдные и унизительные стороны половой любви.
Быть может, такая установка даст нам ключ к постижению следующего гипотетического парадокса: для описанного умонастроения неявная мизогиния Чайковского, его отвращение к браку могли казаться даже привлекательными, а слухи о гомосексуальности (вообще часто звучащие абракадаброй для женщины викторианского воспитания) не обязательно стали бы чреваты взрывом возмущения. Психологический расклад оставлял возможность увидеть в страстной любви между мужчинами душевный эксцесс, платонический союз, исключавший недостойное сожитие с женщиной, притом что момент физиологический мог опять же игнорироваться как невозможный или непонятный. Можно предположить, что, даже если Надежда Филаретовна в какой-то определенный момент и была поставлена в известность о любовных предпочтениях обожаемого друга, из этого не следует, что лишенная предрассудков, нерелигиозная и самостоятельно мыслящая женщина должна была тут же и непременно его проклясть. Мы еще вернемся к этой теме, сейчас же заметим, что уже в одном из первых писем она подчеркивает свое полное презрение к общественному мнению: «…но ведь человек, который живет таким аскетом, как я, логично приходит к тому, что все то, что называют общественными отношениями, светскими правилами, приличиями и т. п., становится для него одним звуком без всякого смысла» (фон Мекк — Чайковскому, 3 марта 1877). Или позднее, в 1882 году, она продолжает настаивать: «Об общественном мнении я не забочусь никогда». В таком духе она будет высказываться еще не раз.
В то же время относительно предмета своего внезапно вспыхнувшего музыкального и человеческого интереса ее обуревает крайнее любопытство: «И потому, как только я оправилась от первого впечатления Вашим сочинением, я сейчас хотела узнать, каков человек, творящий такую вещь. Я стала искать возможности узнать об Вас как можно больше, не пропускала никакого случая услышать что-нибудь, прислушивалась к общественному мнению, к отдельным отзывам, ко всякому замечанию, и скажу Вам при этом, что часто то, что другие в Вас порицали, меня приводило в восторг, — у каждого свой вкус» и далее: «Я до такой степени интересуюсь знать о Вас все, что почти в каждое время могу сказать, где Вы находитесь и, до некоторой степени, что делаете. Из всего, что я сама наблюдала в Вас и слышала от других сочувственных и не сочувственных отзывов, я вынесла к Вам самое задушевное, симпатичное, восторженное отношение».
Именно в это время Чайковский был обеспокоен слухами по поводу его неортодоксальных склонностей, и именно они стали одной из важных причин, приведших его к решению жениться. Как она могла реагировать на сплетни и слухи на этом этапе, неизвестно: скорее всего, не придавала им значения и изгоняла из своего сознания, что со временем вполне могло привести ее к такому внутреннему состоянию, когда оказывалось неважно, правду они содержат или ложь…