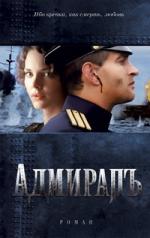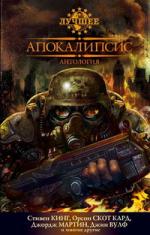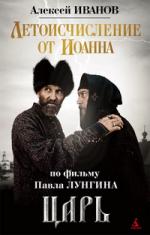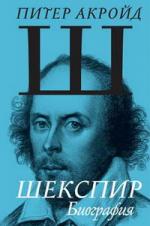ЦИТАТЫ
«Хочешь настоящей жизни — иди работать в пожарную охрану». «Будь человеком, не ешь зеленое». «Лунная лотерея — твой шанс подняться к солнцу»
Социальная реклама ХХII века в романе «Хлорофилия»«Если испытание делают людей людьми — значит, людям нужны в первую очередь испытания, а потом все остальное»
Андрей Рубанов. «Хлорофилия»
«А вручать свою судьбу в руки китайцев — научно? А сто лет вывозить нефть и газ, чтобы ввозить утюги, кофеварки и малолитражные автомобили — это научно? А сосредоточить все богаства страны в одном городе, чтоб люди в нем сходили с усма от обжорства, а остальная страна утопала в говне, — это научно?»
Андрей Рубанов. «Хлорофилия»
ДОСЬЕ
Андрей Рубанов (Электросталь Московской области, 1969). Служил в войсках ПВО, учился на журфаке МГУ (не закончил). Работал корреспондентом многотиражки, рабочим, шофером, телохранителем. Потом занялся бизнесом, в 1996-м обсужден по «мошеннической» статье, через три года оправдан. Год работал пресс-секретарем мэра Грозного Бислана Гантамирова, затем вновь занялся предпринимательской деятельностью. До «Хлорофилии» опубликовал четыре «жестких» романа (по книге в год) — «Сажайте, и вырастет», «Великая мечта», «Жизнь удалась», «Готовься к войне».
О романе Андрея Рубанова «ХЛОРОФИЛИЯ»
ПОЛДЕНЬ, ХХII ВЕК
«Солженицын кутался в лагерный бушлат, грозил пальцем из угла».
Эта фраза пришлась в книге на страницу 100: случайно, конечно, но подобные случайности всегда кажутся символическими.
Солженицын — не настоящий и даже не клонированный, а лишь голографический. Через сто лет портреты кумиров можно не вешать на стенку, а размещать в вольтеровских креслах в объемном виде.
Что еще нового там, в сияющем завтра? Ну, роботы, ясное дело, андроиды на черных работах, государственный чип под кожей (даже несколько — отдельно от налоговой, отдельно от Минобороны). Лондон, Токио, Рио, NY и LA давно проглочены океаном. Утоп и Петербург, туристы-романтики приезжают туда нырять в развалинах Эрмитажа. «Нищая Европа превратилась в огромный обветшалый музей, где под сенью великих монументов бродят толпы выходцев из Африки».
Луна заселяется, чего месту пропадать.
У нас квартирный вопрос решен… об этом, однако, чуть ниже.
Среди людей принято покрывать зубы красным лаком. Для красоты, а не в гигиенических целях. Еще в ходу интрактивный галлюцинаторный макияж. «Сейчас ты обнимаешь блондинку, а через двадцать минут уже шатенку». Фи. С зубами и макияжем Рубанов, мне кажется, переборщил. Хорошо, что внешности людей будущего (и одежде их, кстати) уделено мало внимания: трудно было бы сочувствовать людям с красными зубами. А поводы для сочувствия найдутся.
НЕЗЛАТОГЛАВАЯ НЕБЕЛОКАМЕННАЯ
Любимая Москва, как всякий уважающий себя населенный пункт с какой-никакой историей, норовит закутаться в меха мифа. Она всегда видела себя в трельяжах самой-самой («Самый-самый» — так заодно называется журнал, в котором трудится главный герой «Хлорофилии»), а не так давно — на наших с тобой, читатель, глазах — ей всерьез довелось примерить наряд богатейшего города мира.
«Здешние люди пресытились бесконечными войнами, кризисами… Здесь проводили над своими гражданами такие эксперименты, которые в других местах боялись проводить над чужими… Здесь главной книгой считалась не Библия, а история о том, как студент убил топором старуху…». История про старуху, положим, часть мифа другого города, верст на пятьсот северо-западней. В некоторых, особо пафосных местах романа (их немного) Рубанову отказывает вкус. Но тут интересен психологический момент: будто бы московское желание навсегда уйти в отпуск нужно легитимировать былыми войнами и экспериментами. Сильно, дескать, устали. Заслужили.
Вроде бы не нужна никому такая легитимация. Как вчера мы (москвичи и примкнувшие к ним петербуржцы) отнюдь не стеснялись нефтяного богатства, так и москвичи ХХII века в оправдании своего благоденствия не нуждаются. Источник процветания традиционно обнаружен под ногами: земля примерно от Выхино до Владивостока сдана в аренду китайцам. Ну, не от Выхино: сдана «Сибирь», контуры которой из текста не слишком ясны. Арендаторы обеспечивают каждому россиянину неплохую пожизненную ренту. «Депозит» называется. Россиян осталось сорок миллионов (размножаться недосуг, интереснее развлекаться на «депозит»), и все они живут в Москве. В небе над городом покачивается слоган эпохи — «Никто никому ничего не должен». Фраза из фильма «Москва» Сорокина-Зельдовича — «Говорят, здесь все есть, это неправда, нет, например, дешевого кокаина» — несколько устарела в своей последней части.
Роль универсального наркотика исполняет «трава» (отдельно оговорено, что не надо путать с нынешней марихуаной). Прямо в Москве растут огромные стебли, мякоть которых не только вставляет, но еще — не слишком ли, о, Создатель? — насыщает. Богатеи подвергают мякоть десяти степеням изощренной очистки-возгонки, но и простые граждане могут жрать сырье и не дуть ни в малейший ус.
Райская картина обманчива: гигантские (с телебашню) стебли растут не просто «в Москве». Они запрудили собой весь гиперполис, вымахали на каждом свободном пятачке, искоренению не поддаются, загородили, естествено, Солнце, которое в нормальном режиме доступно лишь живущим выше девяностого этажа, малой толике шоколадных граждан. Остальные довольствуются отдельными лучами, пассажиры нижних этажей (напомню: все же пожизненно обеспеченные жильем и едой) презрительно именуются «бледными», вертикальная организация общества явлена предельно наглядно.
ТРАВЯНАЯ ИГЛА
Сюжет романа при этом напоминает не столько о прочном фаллическом небоскребе или о зеленом стебле, сколько о белой нитке. В журнальных делах (они в центре действия) автор якобы (см. биографию) ничего не смыслит, шеф-редактора путает с главным и утверждает, что журналист с четвертьвековым стажем может не знать, как в его обществе устроена мафия.
Но это не в упрек: откровенно условный сюжет подходит книжке, высыпаюшей на голову читателя изрядный кузов мировых коллизий и глобальных образов. Вопросы фабульной увлекательности решаются придумками на уровне абзаца («Самый-самый» фотографирует героев в гигантском кресле, где человек выглядит карликом: одновременно и унижение, и честь), ритм чтения обеспечивается стилем: четко, упруго, образы не вычурные, но смачные — «Голубое небо, застегнутое на желтую пуговицу». Редактор Михаил Евграфович Пушков-Рыльцев, проспект Константина Эрнста или перекресток Петросяна и Дубовицкой не выглядят в этой плотной прозе зубоскальной пародией. Тон предельно серьезный, минимумом средств рисуются убедительные пейзажи и интерьеры. «В высохшей чаше фонтана валялись окурки, два или три еще дымились. Пахло кислым. Полицейские объективы были залеплены жвачкой. Видеопанель, закрытая прозрачным антивандальным кожухом, мерцала бездарно сделанной социальной рекламой». Очень просто и очень зримо.
И фантастические проблемы, обрушившиеся на краснозубых людей, воспринимаешь всерьез. С первых страниц переживаешь: а ну как китайцы откажуться платить «депозит», пошлют нас на три буквы, их же милииарды, китайцев… И впрямь: на буквы китайцы не посылают, но просто уходят из Сибири, недра которой вывернули и вылизали до последних швов, и сорок миллионов московских рантье остаются на бобах. Бобы же — в виде травы — быстрехонько являют свою дьвольскую суть. Только-только окончательно доказали ученые, что московское растение безвредно. Можно торговать эксклюзивом по всему миру с выгодой больше, чем от земли и нефти. Сидели вы у нас на газовой игре, теперь посидите на травяной. Но грянул кошмар: да, в чистом виде, если мякоть есть, оно безвредно, но у тех, кто жрал дорого переработанное, дети выходят зелеными, да и сами потребители высокотехнологичного продукта начинают превращаться в растения.
Чем дело успокоилось, выдавать не стану, замечу лишь, что основой для полноценного романа могла стать любая из двух несущих конструкций «Хлорофилии». Кормились от китайцев да обломались — самостоятельный сюжет. История с травой — сюжет тоже не только самостоятельный, но и мощный… оперный, я бы сказал. Зеленый ребенок-растение у еще человеческой пары, его отнимут ученые, но грешные родители полны решимости малыша любой ценой отстоять — это, в общем, Вагнер. Прозаик Рубанов, впервые сочиняющей нечто, выходящее за пределы его собственного опыта, на размашистых фантазиях не экономит.
КОНДИТЕРСКИЙ ШПРИЦ
Идеями этот совсем не толстый роман богат, именно что как романы Солженицына: тот живописал фантасмагоричность советской обыденности, Рубанов — сказку, которая может стать былью при слишком последовательном служении молоху Ренты. Рента понимается широко: и как нефтяная-газовая игла, с которой все начиналось, и как китайский депозит, и как, например, существование за счет виртуальных финансовых пузырей, которые в Москве- ХХII запрещены: «Выдача любых ссуд и займов преследовалась по закону. Ссуды, кредиты и прочие фокусы времен дикого капитализма были запрещены Конституцией еще в начале ХХI века, после окончания великого кризиса десятых годов». Спекулятивная экономика была бы явной тавлотологией в государстве, и без того существующем за чужой счет. Рубанов сам отсидел по экономической статье, и наверняка знает, что борьба с «фокусами дикого капитализма» — один из сценариев преодоления кризиса, не слишком пока (возможно, к большому сожалению) овладевший западными умами. А вот законы шариата спекуляцию запрещают, исламские банки кредитуют только реальную экономику, и как бы нам не обнаружить в одно прекрасное утро, что реальность сработала и за окнами все зеленым-зелено…
Тема борьбы с виртуальностью, даруемой травой, выдержана так последовательно, что роман могут поднять на щит сотрудники наркоконтроля. Любишь закинуться зелененьким, получить чистое удовольствие, не связанное ни с какими поступками и желаниями? Валяй, но имей в виду, что когда реальность вернется, ты можешь не узнать ее в лицо. Не смущает? Что же: вот у тебя на теле проступают, как библейские тексты, зеленые пятна (это вступает в свои права хлорофил), ты пьешь воду ведрами, орешь на всякого, кто загораживает солнце в окне, а скоро тебе будет просто нечем орать.
Тут, впрочем, важна тема поэтажной сегрегации: проблемы нижних, жрущих мякоть, ограничиваются потерей интереса к внешней жизни. Что же, возможно они живут богатой внутренней. Рубанов дважды дает «крупным планом» первые мгновения действия препарата, в обоих случаях речь о максимальной сосредоточенности на свой сути. «Ощущаешь вибрации каждой клетки. Бег крови: по артериям — горячими резкими толчками, по венам — медленно и сладко; так густой крем ползет через кондитерский шприц». Познать себя — не величайшая ли цель индивида? Но русский человек, как известно, меры не знает: на верхних этажах взыскуют концентрированного, преувеличенного, избыточного удовольствия.
Любитель вычленять из книг социальные смыслы найдет здесь легкую поживу: вот на Тверской кабак, рюмка водки в котором стоит 50 долларов (очищена через слой золота, слой черной икры, слой пепла кремированного единорога), а мимо витрины променирует таджикский гастарбайтер или житель Пензенского края, единожды в жизни выбравшийся к дальним родственникам в столицу. В Таджикии или Запензенске 50 долларов кое для кого месячный доход, и не надо иметь диплом экономиста, чтобы понять, как гулко бабахнет рано или поздно сия разность потенциалов.
«Если бледный травоед с двадцатого этажа выберется из тени и побудет на ярком солнце хотя бы несколько часов — потом, вернувшись на свой уровень, он страдает мучительными депрессиями». Мировая история последних десятилетий — про это. Загорающий в пентхаусе склонен забывать, что жители нижних этажей существуют не только в статистической таблице, но и в реальности номер один. Девяносто травоедов из ста до поры до времени мирятся с отсутствием солнца, девять сдохнут с тоски, но сотый-то вернется с топориком.
РЕПОРТАЖ ИЗ БИДЕ
История про топорик, как верно заметил Рубанов, в среднем притягательней Библии. Одна из лучших придумок «Зоофилии»: телевизионный проект «Соседи», логичное продолжение поэтики реалити-шоу и «живых» сетевых дневничков. Проект — закрытый, смотреть трансляции может не каждый, но записаться легко. Достаточно установить у себя дома (на кухне, в кладовке, в туалете, в гостиной, везде) сто пятьдесят две камеры. То есть, их тебе установят, достаточно согласиться. Ты будешь видеть всех и все будут видеть тебя. Убьешь жену топориком — попадание в топ-100 гарантировано… тут еще как убить! особо изысканно тюкнешь — можешь рассчитывать и на топ-10. Какое раздолье для эксгибиционистов, вуайеристов и прочих носителей сложносказуемых причуд. Анастасия вот наша Валяева первой — ай, молодца! — разместила камеру в биде. Внедрять, между прочим, можно начинать прямо сейчас, осенью 2009, технологии позволяют. И — еще одно «между прочим» — такое шоу тоже тема для романа, небрежно оброненная щедрым сочинителем.
Или вот хитро препарированная привычная мысль, что всякий человек хоть в чем-то да таланлив. Всякий, да не всякий, уточняет один из персонажей Рубанова, а лишь зачатый в любви. Хотя бы случайной, пятиминутной, но искренней. Зачатые же без любви существа бесталанны… вот представим себе врача, посвятившего жизнь работе с этими обделенными… Еще одна самостоятельная история.
Автору не до крохоборства, он занят апокалипсисом. «Этот мир доживает считанные часы. Этот вот желто-серебристо-лиловый, пестрый, расцвеченный улыбками, до блеска отполированный, готовый обеспечить бесконечное количество психологического комфорта. Этому благодушному, упорядоченному, невыносимо безопасному, всеядному, устроенному ловко и просто — скоро придет конец».
Походя отметим парадокс, порождаемый, в общем, всяким качественным искусством. Герой Рубанова рассуждает о мире, данном ему в ощущениях через сто лет, но читатель понимает: автор описывает эмоцию, пронизывающую его ровно здесь и сейчас. Да, текущий мир вроде как зыбок, как никогда, но, приговаривая его, Рубанов своей замечательной книжкой рассвечивает бытие. Теми самыми будто бы обреченными желто-серебристо-лиловыми оттенками.
Даже не знаю, на чем больше сосредочиться: на буйной фантазии Андрея Рубанова или на холодном реализме его пессимистических прогнозов.
Закончу-ка лучше эту главку еще одним парадоксом: а роман-то, если вчитаться, все про те же две легендарные отечественные напасти. «Дураки и дороги». «Дураки» — население, жрущее траву, не заглядывая дальше, чем на полтора хода. «Дороги» — бесконечные пространства: дали, поманившие возможностью сдать их в аренду и обернувшиеся в результате сакраментальными оврагами. Так бессмысленно и беспощадно выворачивает русский космос к своим истоком через любые футурологические тернии.
ТРАВА НИКУДА НЕ ДЕНЕТСЯ
В первом номере «Однако» я писал о романе Павла Крусанова «Мертвый язык». Совсем иная стилистика, другой образ автора, другие эпоха и география, но ключевые идеи оказываются схожими. Невыносимость виртуальных миров (Крусанов грешит на «общество зрелища», у Рубанова на сей счет есть отличная фраза — «Была культура великая, но ушла через телевизор, как через унитаз» ) и грядущее перевоплощение человека. В «Хлорофилии» мутируют в траву, в «Мертвом языке» в животных. Интонации противоположны: крусановские персонажи сбежали в природный Рай, главный герой Рубанова напрягает душевные силы, чтобы не превратиться в растение. Остаться человеком, подчеркнуто трактованном как животное (и запах жареного мяса, который вдруг привлекает потенциальное растение, — символ здоровья, аналог музыки сфер). Мораль разная, тем забавнее, что настолько похожи схемы.
Причина, возможно, в том, что грядущую геополитическую катастрофу хочется осознать как природную. Не как специфически российскую, не как общехристианскую и даже не как антропологическую. Культуре предается статус естества: хорошо известная защитная реакция растерянного социального организма.
Оно, может, объяснение и верное; эсхатология ныне кажется более адекватной реакцией на температуру во дворе чем бравые заявления о скором преодолении кризиса, исходи они хоть от туземных чиновников, хоть от зажопивших себя за собственные хвосты хозяев мировой финансовой системы. И хотя конец света, случись он в 2012 году либо на тысячелетие позже, явится в формах заранее непредставимых, представлять все равно приходится на языке понятных осин. «Трава никуда не денется. Это не растение. Это наша бестолковость. Русская. В материальном виде», — в этих словах одного из рубановских любимчиков слышится отсылка к разрухе из «Собачьего сердца», которая не в клозетах, а в головах (в другом месте эта ассоциация подкерплена шуткой «Господа в Москве»). Отсылка, между тем, оптимистичная: обошлось ведь как-то с большевиками, обойдется и нынче… Цена, конечно, снова окажется непомерной, но уже то благая весть, что являются герои и авторы, готовые к битве.
ПОСТСКРИПТУМ
В сторону от идейного космоса двух упомянутых романов: конец человечеству придет, будь оно хоть стократ волевым, травоустойчивым и разумным, ведь так? «Носитель» наш, сама планета, штука временная. Придется думать об уходе в микромир, в трасперсональные матрицы, в энергетическую волну. Превращение в зверей и траву — не об этом, но предположу, что чуткие писатели слышат эхо и совсем отдаленных времен…