В новом материале проекта «Книга в дорогу» мы расскажем о российских направлениях для путешествий. Студенты едут домой, командированные – работать, есть и те, кто отправляются в отпуска. Что почитать по дороге в Москву, Санкт-Петербург и Казань, узнаете из нашей подборки.
Санкт-Петербург — Москва
Москва — Санкт-Петербург

АВИА — 1 час 15 минут
- Марина Степнова. Где-то под Гроссето. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016. — 298 с.
 Марина Степнова — автор романов «Хирург», «Женщины Лазаря» и «Безбожный переулок», входивших в премиальные списки, прекрасно справляется и с малой прозой. Рассказы сборника «Где-то под Гроссето» — о людях, которых не принято замечать, каждый из них, по меткому определению автора, — «рядовой толпообразующий элемент». Они, как все, похожи на нас, и, наверное, поэтому их боль, тоска и горькая печаль так сильно пронимают читателя. В рассказе «Покорми, пожалуйста, Гитлера» (как и в некоторых других в книге) автор мастерски обманывает читательское ожидание хэппи-энда. Степнова — филолог и дочь врача, и это вместе сложилось в умение оперировать словами так, что точно будет больно, причем почти физически. Но только боль может привести к желанному катарсису и подтолкнуть к самопознанию.
Марина Степнова — автор романов «Хирург», «Женщины Лазаря» и «Безбожный переулок», входивших в премиальные списки, прекрасно справляется и с малой прозой. Рассказы сборника «Где-то под Гроссето» — о людях, которых не принято замечать, каждый из них, по меткому определению автора, — «рядовой толпообразующий элемент». Они, как все, похожи на нас, и, наверное, поэтому их боль, тоска и горькая печаль так сильно пронимают читателя. В рассказе «Покорми, пожалуйста, Гитлера» (как и в некоторых других в книге) автор мастерски обманывает читательское ожидание хэппи-энда. Степнова — филолог и дочь врача, и это вместе сложилось в умение оперировать словами так, что точно будет больно, причем почти физически. Но только боль может привести к желанному катарсису и подтолкнуть к самопознанию.
- В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. – 524 с.
 Сборник «В Питере жить» является продолжением серии, в которой уже вышла книга о столице — «Москва: место встречи». Принцип тот же: эссе и рассказы современных авторов (не только писателей, но и «знаковых лиц», как обозначено в аннотации), объединенные общей темой. Разношерстные тексты практически невозможно выстроить в цельное повествование, но — тем интереснее взгляд на город. Авторы прошлись не только «от Дворцовой до Садовой», но до самых до окраин: Купчино, проспект Стачек, Петергоф — немногие книги могут дать представление об этих местах. Эссе Никиты Елисеева «Разорванный портрет» — прогулка не только в пространстве (из центра города до Финского залива), но и во времени (от задумки Петра до сегодняшних дней).
Сборник «В Питере жить» является продолжением серии, в которой уже вышла книга о столице — «Москва: место встречи». Принцип тот же: эссе и рассказы современных авторов (не только писателей, но и «знаковых лиц», как обозначено в аннотации), объединенные общей темой. Разношерстные тексты практически невозможно выстроить в цельное повествование, но — тем интереснее взгляд на город. Авторы прошлись не только «от Дворцовой до Садовой», но до самых до окраин: Купчино, проспект Стачек, Петергоф — немногие книги могут дать представление об этих местах. Эссе Никиты Елисеева «Разорванный портрет» — прогулка не только в пространстве (из центра города до Финского залива), но и во времени (от задумки Петра до сегодняшних дней).
Ж/Д — 4 часа («Сапсан»)
- Красная стрела. 85 лет легенде (сборник). — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016. — 544 с.
 Журнал «Сноб» еще в 2009 году начал задавать писателям темы для своих литературных номеров, а чуть позже совместно с редакцией Елены Шубиной запустил серию книг. К настоящему моменту вышло более десяти сборников (о доме, саде, ностальгии и даже о Майе Плисецкой). К 85-летию поезда «Красная стрела», который был первым шагом к «Сапсану», редакторы собрали эссе и рассказы современных писателей, в которых поездки становятся сюжетообразующим фактором. Средство передвижения авторы могли выбрать сами, но все-таки для многих самым романтичным и наполненным смыслами остается поезд. Сергей Николаевич, главный редактор «Сноба», пишет в предисловии: «…ни одно удачное путешествие не обходилось без хорошей книги. И даже если за время пути вы ни разу ее не раскроете, она должна быть с вами как личный талисман, тайный оберег, страховой полис от скуки одинаковых пейзажей, пролетающих за окном». Эта тяжелая книга в красивой суперобложке, с вклейками фотографий на такую роль точно подойдет. Примерно за четыре поездки в Сапсане (неважно, в каком направлении вы движетесь) можно успеть прочесть ее целиком.
Журнал «Сноб» еще в 2009 году начал задавать писателям темы для своих литературных номеров, а чуть позже совместно с редакцией Елены Шубиной запустил серию книг. К настоящему моменту вышло более десяти сборников (о доме, саде, ностальгии и даже о Майе Плисецкой). К 85-летию поезда «Красная стрела», который был первым шагом к «Сапсану», редакторы собрали эссе и рассказы современных писателей, в которых поездки становятся сюжетообразующим фактором. Средство передвижения авторы могли выбрать сами, но все-таки для многих самым романтичным и наполненным смыслами остается поезд. Сергей Николаевич, главный редактор «Сноба», пишет в предисловии: «…ни одно удачное путешествие не обходилось без хорошей книги. И даже если за время пути вы ни разу ее не раскроете, она должна быть с вами как личный талисман, тайный оберег, страховой полис от скуки одинаковых пейзажей, пролетающих за окном». Эта тяжелая книга в красивой суперобложке, с вклейками фотографий на такую роль точно подойдет. Примерно за четыре поездки в Сапсане (неважно, в каком направлении вы движетесь) можно успеть прочесть ее целиком.
- Сэм Филлипс. Измы. Как понимать современное искусство. — М.: Ад Маргинем, 2016. — 160 с.
 Отправляясь в одну из столиц в качестве туриста, вы, безусловно, собираетесь посетить хотя бы один музей. Не проходите мимо залов с современным искусством: оно тоже может быть интересным, главное — попробовать его понять. В этом поможет английский искусствовед и автор журнала Frieze Сэм Филлипс, написавший структурированный и доступный справочник по направлениям, стилям и художественным школам XX–XXI веков. Не стоит ожидать от этой книги глубокого анализа, но для первых шагов в мир contemporary art она послужит удобным путеводителем. Список художников, ключевых работ и музеев всего мира прилагается.
Отправляясь в одну из столиц в качестве туриста, вы, безусловно, собираетесь посетить хотя бы один музей. Не проходите мимо залов с современным искусством: оно тоже может быть интересным, главное — попробовать его понять. В этом поможет английский искусствовед и автор журнала Frieze Сэм Филлипс, написавший структурированный и доступный справочник по направлениям, стилям и художественным школам XX–XXI веков. Не стоит ожидать от этой книги глубокого анализа, но для первых шагов в мир contemporary art она послужит удобным путеводителем. Список художников, ключевых работ и музеев всего мира прилагается.
Ж/Д — 8 часов 30 минут
- Сергей Носов. Фигурные скобки. — СПб.: Лимбус-Пресс, 2015. — 270 с.
 Этот роман принес петербургскому писателю Сергею Носову премию «Национальный бестселлер», причем впервые выбор Большого и Малого жюри был настолько единодушен. Главный герой Капитонов приезжает из Москвы в Петербург на конгресс… микромагов. Хотя сам он себя и не относит к фокусникам, его пригласили из-за способности угадывать задуманные двузначные числа. Именно этот трюк, проделанный им уже сотню раз, в один момент вдруг становится убийственным. Загадочные тетради, содержание которых заключено в таинственные скобки, секреты и, конечно же, Петербург, поездку по которому герой, правда, проспит. «Фигурные скобки» — это смесь театра абсурда и обычной, нелепой и суетной, реальности. Но разве в жизни все на самом деле не так?
Этот роман принес петербургскому писателю Сергею Носову премию «Национальный бестселлер», причем впервые выбор Большого и Малого жюри был настолько единодушен. Главный герой Капитонов приезжает из Москвы в Петербург на конгресс… микромагов. Хотя сам он себя и не относит к фокусникам, его пригласили из-за способности угадывать задуманные двузначные числа. Именно этот трюк, проделанный им уже сотню раз, в один момент вдруг становится убийственным. Загадочные тетради, содержание которых заключено в таинственные скобки, секреты и, конечно же, Петербург, поездку по которому герой, правда, проспит. «Фигурные скобки» — это смесь театра абсурда и обычной, нелепой и суетной, реальности. Но разве в жизни все на самом деле не так?
- Пол Клейнман. Философия. Краткий курс. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 272 с.
 Если слова «эмпиризм», «экзистенциализм» и «релятивизм» вводят вас в ступор — эта книга для вас. Известный писатель, сценарист и автор популярных книг по философии и психологии Пол Клейман проведет читателя по истории человеческой мысли от досократиков до Сартра и Ницше безболезненно и интересно. Иллюстрации, любопытные факты и предложенные автором мысленные эксперименты помогут в восприятии и закреплении материала. Если же вам ближе психология, знайте: так же структурированно и кратко Клейман написал и о ней. В книге «Психология. Люди, концепции, эксперименты» (2017) — простой и наглядный обзор ключевых теорий и идей науки о душе: от когнитивного диссонанса до гештальт-терапии.
Если слова «эмпиризм», «экзистенциализм» и «релятивизм» вводят вас в ступор — эта книга для вас. Известный писатель, сценарист и автор популярных книг по философии и психологии Пол Клейман проведет читателя по истории человеческой мысли от досократиков до Сартра и Ницше безболезненно и интересно. Иллюстрации, любопытные факты и предложенные автором мысленные эксперименты помогут в восприятии и закреплении материала. Если же вам ближе психология, знайте: так же структурированно и кратко Клейман написал и о ней. В книге «Психология. Люди, концепции, эксперименты» (2017) — простой и наглядный обзор ключевых теорий и идей науки о душе: от когнитивного диссонанса до гештальт-терапии.
Казань

Москва — Казань
АВИА — 1 час 30 минут
- Линор Горалик. Валерий. — М.: Новое литературное обозрение, 2011. — 72 с.

Небольшая повесть от Линор Горалик — поэтессы, прозаика, журналиста, мастера малого жанра. Здесь обыденность городской жизни сталкивается с принципиально необычным на нее взглядом. Главная интрига в том, от чьего лица ведется повествование. Поначалу кажется, что о своем пропавшем коте рассказывает ребенок (кто еще может придумать систему наказания за свои провинности с помощью красных карточек), на деле же перед читателем является взрослый мужчина с печальным диагнозом (по причине которого кота ему придется спасать из настоящего ада). Все это напоминает первую главу «Шума и ярости» Фолкнера или «Школу для дураков» Саши Соколова: автор дает возможность взглянуть на мир глазами того, кто видит его по-другому, а заодно научиться ответственности и любви к людям.
- Йохан Идема. Как ходить в музей. Советы о том, как сделать посещение по-настоящему запоминающимся. — М.: Ад Маргинем, 2016. — 128 с.
 Йохан Идема — арт-консультант и страстный популяризатор всего нового и прикладного в искусстве, за что даже получил премию «Радикальный инноватор в мире искусства». Он поделился с читателями тридцатью двумя советами, которые научат получать удовольствие от походов в музеи. Вы узнаете, почему очень здорово ходить туда с ребенком, зачем посещать экскурсии для незрячих, насколько важна нестандартная, так называемая «умная» фотосъемка произведений искусства, а также при чем тут музыка. Автору ближе современное искусство, поэтому, если после путешествия из Москвы в Петербург (или наоборот) с Сэмом Филлипсом вы все еще не можете смириться с абстракционизмом и кубизмом, Идема поможет вам приблизиться к их пониманию.
Йохан Идема — арт-консультант и страстный популяризатор всего нового и прикладного в искусстве, за что даже получил премию «Радикальный инноватор в мире искусства». Он поделился с читателями тридцатью двумя советами, которые научат получать удовольствие от походов в музеи. Вы узнаете, почему очень здорово ходить туда с ребенком, зачем посещать экскурсии для незрячих, насколько важна нестандартная, так называемая «умная» фотосъемка произведений искусства, а также при чем тут музыка. Автору ближе современное искусство, поэтому, если после путешествия из Москвы в Петербург (или наоборот) с Сэмом Филлипсом вы все еще не можете смириться с абстракционизмом и кубизмом, Идема поможет вам приблизиться к их пониманию.
Ж/Д — 12 часов 32 минуты
- Ольга Брейнингер. В Советском союзе не было аддерола. — М.: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. — 349 с.
 Ольга Брейнингер написала свой первый роман и сразу же оказалась с ним в длинном списке «Нацбеста». В дебютную книгу молодой писательницы, родившейся в Казахстане, живущей в Америке и преподающей в Гарварде, вошел одноименный роман, а также цикл рассказов «Жизнь на взлет». Главная героиня истории участвует в эксперименте по программированию личности в надежде обрести утраченную где-то между США, Германией и Чечней самоидентичность. Сути эксперимента читатели так и не узнают, хотя постепенное превращение в «сверхчеловека» очень напоминает сюжет фильма «Люси» Люка Бессона. Но эта фантастичность — лишь одна сторона медали, с другой же — героиня позиционирует себя своего рода олицетворением современного поколения (автобиографические детали использованы для пущей достоверности). Судить о том, удалось ли автору изобразить очередного героя, точнее — героиню нашего времени, будет уже каждый самостоятельно.
Ольга Брейнингер написала свой первый роман и сразу же оказалась с ним в длинном списке «Нацбеста». В дебютную книгу молодой писательницы, родившейся в Казахстане, живущей в Америке и преподающей в Гарварде, вошел одноименный роман, а также цикл рассказов «Жизнь на взлет». Главная героиня истории участвует в эксперименте по программированию личности в надежде обрести утраченную где-то между США, Германией и Чечней самоидентичность. Сути эксперимента читатели так и не узнают, хотя постепенное превращение в «сверхчеловека» очень напоминает сюжет фильма «Люси» Люка Бессона. Но эта фантастичность — лишь одна сторона медали, с другой же — героиня позиционирует себя своего рода олицетворением современного поколения (автобиографические детали использованы для пущей достоверности). Судить о том, удалось ли автору изобразить очередного героя, точнее — героиню нашего времени, будет уже каждый самостоятельно.
- Ася Казанцева. В интернете кто-то неправ! — М.: Издательство АСТ: CORPUS, 2016. — 376 c.
 Научный журналист Ася Казанцева не нуждается в представлении. Ее очередная книжка, которую она любовно называет «розовой», посвящена самым распространенным заблуждениям, встречающимся в повседневной жизни. Связаны они с прививками, ГМО, гомеопатией и другими вещами, от которых на практике зависят наше здоровье и даже жизнь. Написанная легким, подчас игриво-разговорным языком и снабженная забавными и наглядными иллюстрациями, эта книга — одна из настольных для тех, кто хочет научиться критически воспринимать окружающий мир. В подтверждение написанного в ней вы можете найти сорокастраничный список научной литературы, на который ссылается автор. Забавно: прежде всех нас стремится обмануть собственный мозг, который, сталкиваясь с тем, что уже видел, воспринимает информацию как «правильную». Именно поэтому мы так легко подвержены влиянию рекламы и пропаганды. Как писал Владимир Набоков, «однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда». Так что учитесь мыслить критически и бесстрашно запасайтесь в поездre генно-модифицированными помидорами.
Научный журналист Ася Казанцева не нуждается в представлении. Ее очередная книжка, которую она любовно называет «розовой», посвящена самым распространенным заблуждениям, встречающимся в повседневной жизни. Связаны они с прививками, ГМО, гомеопатией и другими вещами, от которых на практике зависят наше здоровье и даже жизнь. Написанная легким, подчас игриво-разговорным языком и снабженная забавными и наглядными иллюстрациями, эта книга — одна из настольных для тех, кто хочет научиться критически воспринимать окружающий мир. В подтверждение написанного в ней вы можете найти сорокастраничный список научной литературы, на который ссылается автор. Забавно: прежде всех нас стремится обмануть собственный мозг, который, сталкиваясь с тем, что уже видел, воспринимает информацию как «правильную». Именно поэтому мы так легко подвержены влиянию рекламы и пропаганды. Как писал Владимир Набоков, «однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда». Так что учитесь мыслить критически и бесстрашно запасайтесь в поездre генно-модифицированными помидорами.
Санкт-Петербург — Казань
АВИА — 2 часа 5 минут
- Дэниел Клоуз. Пейшенс / Пер. с англ. Анастасии Зольниковой. — СПб.: Бумкнига, 2016. — 180 с.
 Графические романы наконец перестали быть диковинкой в отечественном книжном пространстве. Искания критиков сместились от вопрошания: «Можно ли вообще называть комикс литературным произведением?» — к составлению бесчисленных списков «лучших» и «главных» — и «Пейшенс» Дэниела Клоуза уверенно занял в них свое законное место. Сюжетная канва проста: Джек возвращается с работы домой и находит свою любимую девушку Пейшенс убитой. Смириться с этим он, конечно, не может и желает докопаться до истины: благо в недалеком будущем создадут способ отмотать прожитые годы назад. Сначала может показаться, что это одна из ста тысяч обыкновенных историй о путешествиях во времени, которые человечество придумывает ежедневно. Но Дэниелу Клоузу удивительным образом удается совместить популярное с вечным: в итоге на первый план вместо фантастики выдвигаются темы смерти, мести, семьи и любви.
Графические романы наконец перестали быть диковинкой в отечественном книжном пространстве. Искания критиков сместились от вопрошания: «Можно ли вообще называть комикс литературным произведением?» — к составлению бесчисленных списков «лучших» и «главных» — и «Пейшенс» Дэниела Клоуза уверенно занял в них свое законное место. Сюжетная канва проста: Джек возвращается с работы домой и находит свою любимую девушку Пейшенс убитой. Смириться с этим он, конечно, не может и желает докопаться до истины: благо в недалеком будущем создадут способ отмотать прожитые годы назад. Сначала может показаться, что это одна из ста тысяч обыкновенных историй о путешествиях во времени, которые человечество придумывает ежедневно. Но Дэниелу Клоузу удивительным образом удается совместить популярное с вечным: в итоге на первый план вместо фантастики выдвигаются темы смерти, мести, семьи и любви.
- Марсель Пруст. Памяти убитых церквей / Пер. с фр. Ирины Кузнецовой, Татьяны Чугуновой. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. — 128 с.
 Если знакомство с Прустом — обязательный пункт ваших жизненных планов, но с семикнижием «В поисках утраченного времени» вам пока не справиться, сборник эссе «Памяти убитых церквей» станет идеальным компромиссом. Небольшие тексты были созданы незадолго до начала работы над главным трудом всей жизни, поэтому в них с легкостью обнаруживаются творческие установки писателя, ставшие его визитной карточкой. Заголовок сборника, как объясняется во вступительной статье, связан с двумя историческими событиями: с Первой мировой войной, во время которой были разрушены многие культурные памятники, в том числе соборы, и с законом об отделении церкви от государства. Последняя причина выглядит куда более мирной и незначительной, но одним из последствий этой реформы стало постепенное запустение, а вскоре и закрытие храмов. Главный парадокс прустовского взгляда на проблему «убийства» церквей заключается в том, что любой собор для него — прежде всего вечный носитель идеи культуры, а не религии.
Если знакомство с Прустом — обязательный пункт ваших жизненных планов, но с семикнижием «В поисках утраченного времени» вам пока не справиться, сборник эссе «Памяти убитых церквей» станет идеальным компромиссом. Небольшие тексты были созданы незадолго до начала работы над главным трудом всей жизни, поэтому в них с легкостью обнаруживаются творческие установки писателя, ставшие его визитной карточкой. Заголовок сборника, как объясняется во вступительной статье, связан с двумя историческими событиями: с Первой мировой войной, во время которой были разрушены многие культурные памятники, в том числе соборы, и с законом об отделении церкви от государства. Последняя причина выглядит куда более мирной и незначительной, но одним из последствий этой реформы стало постепенное запустение, а вскоре и закрытие храмов. Главный парадокс прустовского взгляда на проблему «убийства» церквей заключается в том, что любой собор для него — прежде всего вечный носитель идеи культуры, а не религии.
Ж/Д — 22 часа 28 минут
- Томас Макгуэйн. Шандарахнутое пианино. — М.: Додо Пресс: Фантом Пресс, 2017. — 320 с.

Проект «Скрытое золото XX века» продолжает радовать читателей важными англоязычными произведениями, которые ранее не издавались на русском. Новой книгой серии стал роман «Шандарахнутое пианино» практически неизвестного в нашей стране американского прозаика Томаса Макгуэйна. Его не зря постоянно сравнивают с У. Фолкнером и Т. Пинчоном: от первого ему достался грубый южный язык, а от второго — постмодернистская игра слов и текстов чуть не на каждой странице (часть реалий и отсылок объясняет в меру подробный комментарий). Жанрово книга пародирует novela picaresca, плутовской роман. В этом главная привлекательность чтения ее в поезде — главный герой, разъезжающий на зеленом мотоцикле, буквально живет дорогой и вне ее только и пытается вернуться в путешествие. При этом книга не старается загрузить читателя усложненной композицией или философскими конструктами, плохо скрываемыми в подобных романах. Повествование в хорошем смысле увлекательно, наполнено юмором (местами грязным) и вполне способно скрасить день в дороге.
- Дмитрий Новокшонов. Речь против языка. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. — 304 с.
 Академический троллинг — далеко не самый распространенный жанр в науке. Обычно его представители выглядят как перегруженные терминами пародии, юмор которых доступен единицам (тем, против кого троллинг направлен). Книга Дмитрия Новокшонова «Речь против языка» совсем иная: это троллинг «толстый», написанный прекрасным русским языком, доступным каждому. Филолог-классик, журналист, бывший электрик и гроза «Живого Журнала» создал удивительный трактат, единственное артикулируемое ощущение от которого — оторопь. Автор атакует тот язык, в котором существует современная гуманитарная наука. Главный объект его критики — бесконечные нарративные дискурсопорождающие метааналитические методики и прочие конструкты, затуманивающие главное назначение науки (и речи вообще) — быть ясной. Страсть автора к истории и этимологии дарит ему блестящую базу для нанесения атак в самые болезненные точки, а внушительный научный аппарат (примерно пятая часть книги) выстраивает линию обороны. «Речь против языка» — из тех книг, которые вызывают самые активные размышления после прочтения, и главная ее ценность именно в проверке ваших жизненных и языковых представлений на прочность.
Академический троллинг — далеко не самый распространенный жанр в науке. Обычно его представители выглядят как перегруженные терминами пародии, юмор которых доступен единицам (тем, против кого троллинг направлен). Книга Дмитрия Новокшонова «Речь против языка» совсем иная: это троллинг «толстый», написанный прекрасным русским языком, доступным каждому. Филолог-классик, журналист, бывший электрик и гроза «Живого Журнала» создал удивительный трактат, единственное артикулируемое ощущение от которого — оторопь. Автор атакует тот язык, в котором существует современная гуманитарная наука. Главный объект его критики — бесконечные нарративные дискурсопорождающие метааналитические методики и прочие конструкты, затуманивающие главное назначение науки (и речи вообще) — быть ясной. Страсть автора к истории и этимологии дарит ему блестящую базу для нанесения атак в самые болезненные точки, а внушительный научный аппарат (примерно пятая часть книги) выстраивает линию обороны. «Речь против языка» — из тех книг, которые вызывают самые активные размышления после прочтения, и главная ее ценность именно в проверке ваших жизненных и языковых представлений на прочность.


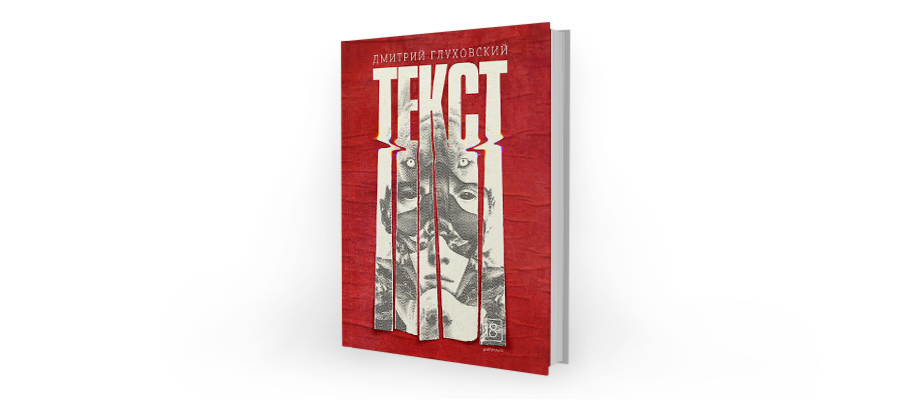







 Каждый рассказ — это несколько десятков страниц очень концентрированной прозы, порой включающей в себя больше героев и сюжетных ходов, чем иной толстый роман. Элис Манро иногда сравнивают с Чеховым — авторской вненаходимостью и ненавязчивостью она действительно напоминает русского классика. Рассказ «Тайна, не скрытая никем» наследует скорее традиции лучших психологических детективов: здесь пропажа девушки тоже служит лишь фоном для вскрытия давних конфликтов и обид. Но и это действие происходит подспудно, теряясь в диалогах, описаниях, отступлениях. И развязка, и сами герои, и даже стиль Манро кажутся предельно простыми и будто ни на что не претендующими — быть может, именно это и помогло автору получить Нобелевскую премию по литературе.
Каждый рассказ — это несколько десятков страниц очень концентрированной прозы, порой включающей в себя больше героев и сюжетных ходов, чем иной толстый роман. Элис Манро иногда сравнивают с Чеховым — авторской вненаходимостью и ненавязчивостью она действительно напоминает русского классика. Рассказ «Тайна, не скрытая никем» наследует скорее традиции лучших психологических детективов: здесь пропажа девушки тоже служит лишь фоном для вскрытия давних конфликтов и обид. Но и это действие происходит подспудно, теряясь в диалогах, описаниях, отступлениях. И развязка, и сами герои, и даже стиль Манро кажутся предельно простыми и будто ни на что не претендующими — быть может, именно это и помогло автору получить Нобелевскую премию по литературе. В европейских городах сегодня без велосипеда не обойтись — но почему-то его история не кажется чем-то очень интересным: рама плюс два колеса, что такого там может быть? Художник Оливье Мелано не только доказывает, что все не так просто, но и подключает сюжет (причем не без интриги), используя прием «рассказа в рассказе». Движутся не только колеса с педалями, но и история семьи (глава которой как раз и расскажет о том, как «изобретали велосипед») — а за ней фоном идет мировая история. И если этот красивый стимпанк-рассказ вам покажется неубедительным, то специально для вас в конце книги приложены карточки с фотографиями настоящих велосипедов и историческими справками.
В европейских городах сегодня без велосипеда не обойтись — но почему-то его история не кажется чем-то очень интересным: рама плюс два колеса, что такого там может быть? Художник Оливье Мелано не только доказывает, что все не так просто, но и подключает сюжет (причем не без интриги), используя прием «рассказа в рассказе». Движутся не только колеса с педалями, но и история семьи (глава которой как раз и расскажет о том, как «изобретали велосипед») — а за ней фоном идет мировая история. И если этот красивый стимпанк-рассказ вам покажется неубедительным, то специально для вас в конце книги приложены карточки с фотографиями настоящих велосипедов и историческими справками. Написав несколько коротких историй, американская писательница Селеста Инг в 2014 году выпустила свой дебютный роман «Все, чего я не сказала». Книга переведена на десятки языков мира и имеет неплохие шансы в скором времени стать бестселлером. В центре повествования — история покончившей с собой Лидии Ли. Читателю предстоит самому решить, что подтолкнуло к этому героиню. Возможно, дело в том, что в 1958-м в Америке еще не утихли шовинистические настроения, а Лидия — дитя американки Мэрилин и китайца Джеймса Ли. К тому же героиня пытается разобраться, действительно ли она воплощает в жизнь свои мечты или всего лишь является заложницей амбиций тщеславной матери. Как бы там ни было, в книге Селесты Инг — любовь, а лирическое звучание текста заставляет сопереживать каждому персонажу.
Написав несколько коротких историй, американская писательница Селеста Инг в 2014 году выпустила свой дебютный роман «Все, чего я не сказала». Книга переведена на десятки языков мира и имеет неплохие шансы в скором времени стать бестселлером. В центре повествования — история покончившей с собой Лидии Ли. Читателю предстоит самому решить, что подтолкнуло к этому героиню. Возможно, дело в том, что в 1958-м в Америке еще не утихли шовинистические настроения, а Лидия — дитя американки Мэрилин и китайца Джеймса Ли. К тому же героиня пытается разобраться, действительно ли она воплощает в жизнь свои мечты или всего лишь является заложницей амбиций тщеславной матери. Как бы там ни было, в книге Селесты Инг — любовь, а лирическое звучание текста заставляет сопереживать каждому персонажу. Эдуард Френкель еще в юношестве увлекался высшей математикой и квантовой физикой. После того, как его не зачислили на мехмат Московского университета из-за еврейского происхождения, он поступил на факультет прикладной математики в менее престижный вуз, однако сразу после получения диплома его пригласили в Гарвард, а затем в Калифорнийский университет Беркли, где он преподает и в настоящее время. Многие годы Эдуард Френкель не теряет интереса к своему предмету. Книга «Любовь и математика» рассказывает не о той математике, которую многие терпеть не могли в школе, а о той, которую мы, вероятно, не разглядели. Математика предстает перед нами как настоящее искусство, удивительное и многогранное. Легкость повествования и доступность примеров и аналогий делают книгу понятной и интересной для широкого читателя.
Эдуард Френкель еще в юношестве увлекался высшей математикой и квантовой физикой. После того, как его не зачислили на мехмат Московского университета из-за еврейского происхождения, он поступил на факультет прикладной математики в менее престижный вуз, однако сразу после получения диплома его пригласили в Гарвард, а затем в Калифорнийский университет Беркли, где он преподает и в настоящее время. Многие годы Эдуард Френкель не теряет интереса к своему предмету. Книга «Любовь и математика» рассказывает не о той математике, которую многие терпеть не могли в школе, а о той, которую мы, вероятно, не разглядели. Математика предстает перед нами как настоящее искусство, удивительное и многогранное. Легкость повествования и доступность примеров и аналогий делают книгу понятной и интересной для широкого читателя.
 Странно видеть в разделе «художественная литература» книгу под названием «Это футбол». Тем не менее сборник рассказов и повестей содержит пятнадцать текстов, которые придутся по вкусу как любителям футбола, так и ценителям художественной литературы. Все дело в том, что за лучшей в мире игрой с необыкновенным азартом наблюдают и признанные классики, вроде Ильфа и Петрова, и современные писатели, вроде Сергея Носова и Германа Садулаева. В книге речь пойдет не только о захватывающих поединках, ревущих трибунах и забитых голах, но и о жизни спортивного комментатора, о четырехлетнем мальчике, пинающем мяч, и даже о герое, пишущем роман о футболе. Как справедливо отметил составитель сборника Вадим Левенталь, «главное — то, что футбол в каждом из них оказывается не просто антуражем, декорацией, на фоне которой герои выделывают коленца, а ключевой метафорой, так или иначе объясняющей мир».
Странно видеть в разделе «художественная литература» книгу под названием «Это футбол». Тем не менее сборник рассказов и повестей содержит пятнадцать текстов, которые придутся по вкусу как любителям футбола, так и ценителям художественной литературы. Все дело в том, что за лучшей в мире игрой с необыкновенным азартом наблюдают и признанные классики, вроде Ильфа и Петрова, и современные писатели, вроде Сергея Носова и Германа Садулаева. В книге речь пойдет не только о захватывающих поединках, ревущих трибунах и забитых голах, но и о жизни спортивного комментатора, о четырехлетнем мальчике, пинающем мяч, и даже о герое, пишущем роман о футболе. Как справедливо отметил составитель сборника Вадим Левенталь, «главное — то, что футбол в каждом из них оказывается не просто антуражем, декорацией, на фоне которой герои выделывают коленца, а ключевой метафорой, так или иначе объясняющей мир». Дмитрий Гавриш родился в Киеве в 1982 году. Спустя одиннадцать лет его семья переехала в Швейцарию, а с 2010 года живет в Германии. Он автор многочисленных пьес, которые были поставлены в Вене, Берлине, Мюнхене и Цюрихе. Его произведения переведены на разные языки, в том числе на русский и украинский. Книга «Дождя не ждите» включает три репортажа из поездок по России и Украине и выглядит как произведение из рубрики «Советский Союз глазами западной интеллигенции». Однако перед нами предстает не просто иностранец-интеллектуал, а человек, вернувшийся на родину спустя много лет. Как и положено эмигранту, он временами ужасается увиденному, но одновременно интересуется, а порой даже скучает и любуется. Более всего проникнут ностальгическими настроениями репортаж «Крым» (кстати сказать, не затрагивающий тему политики).
Дмитрий Гавриш родился в Киеве в 1982 году. Спустя одиннадцать лет его семья переехала в Швейцарию, а с 2010 года живет в Германии. Он автор многочисленных пьес, которые были поставлены в Вене, Берлине, Мюнхене и Цюрихе. Его произведения переведены на разные языки, в том числе на русский и украинский. Книга «Дождя не ждите» включает три репортажа из поездок по России и Украине и выглядит как произведение из рубрики «Советский Союз глазами западной интеллигенции». Однако перед нами предстает не просто иностранец-интеллектуал, а человек, вернувшийся на родину спустя много лет. Как и положено эмигранту, он временами ужасается увиденному, но одновременно интересуется, а порой даже скучает и любуется. Более всего проникнут ностальгическими настроениями репортаж «Крым» (кстати сказать, не затрагивающий тему политики). Впервые на русском языке вышел роман знаменитого французского писателя и сценариста Пьера Леметра «Три дня и вся жизнь». Жанр книги тяготеет к психологическому триллеру. В основе сюжета — непреднамеренное убийство, которое совершает в порыве гнева и обиды двенадцатилетний мальчик Антуан. Это событие переворачивает жизнь самого обыкновенного ребенка, который еще недавно боялся, что мать не разрешит ему играть в приставку или друзья посмеются над построенным им шалашом. В минуту его жизнь оборачивается парализующим страхом разоблачения и постоянной паникой. Пьер Леметр как хороший психолог логично и очень четко описывает, что происходит в сознании мальчика, однако оставляет открытыми вопросы: кто виноват в том, что случилось? Действительно ли животная сущность, скрывающаяся в душе ребенка, вырвалась наружу? Или он всего лишь орудие возмездия тем взрослым, которые совершают страшные поступки на его глазах?
Впервые на русском языке вышел роман знаменитого французского писателя и сценариста Пьера Леметра «Три дня и вся жизнь». Жанр книги тяготеет к психологическому триллеру. В основе сюжета — непреднамеренное убийство, которое совершает в порыве гнева и обиды двенадцатилетний мальчик Антуан. Это событие переворачивает жизнь самого обыкновенного ребенка, который еще недавно боялся, что мать не разрешит ему играть в приставку или друзья посмеются над построенным им шалашом. В минуту его жизнь оборачивается парализующим страхом разоблачения и постоянной паникой. Пьер Леметр как хороший психолог логично и очень четко описывает, что происходит в сознании мальчика, однако оставляет открытыми вопросы: кто виноват в том, что случилось? Действительно ли животная сущность, скрывающаяся в душе ребенка, вырвалась наружу? Или он всего лишь орудие возмездия тем взрослым, которые совершают страшные поступки на его глазах? Это удивительное издание охватывает один из самых интересных периодов русской истории — со времен царствования Анны Иоанновны до конца правления Павла I — и содержит полторы сотни гравюр, большая часть которых находится в коллекции Государственного Эрмитажа. Впервые воедино собраны ранние английские карикатуры с русской тематикой, которые отражают характер внешней политики России XVIII века. Авторы рассматривают каждую, даже самую смелую карикатуру не только с художественной стороны, но и с исторической и литературной точек зрения. Тексты ориентированы на широкого читателя: они не перегружены историческими фактами, а, наоборот, изобилуют малоизвестными и увлекательными рассказами. Иронический тон повествования и изящный слог дополняют образ настоящего и единственного в своем роде арт-объекта.
Это удивительное издание охватывает один из самых интересных периодов русской истории — со времен царствования Анны Иоанновны до конца правления Павла I — и содержит полторы сотни гравюр, большая часть которых находится в коллекции Государственного Эрмитажа. Впервые воедино собраны ранние английские карикатуры с русской тематикой, которые отражают характер внешней политики России XVIII века. Авторы рассматривают каждую, даже самую смелую карикатуру не только с художественной стороны, но и с исторической и литературной точек зрения. Тексты ориентированы на широкого читателя: они не перегружены историческими фактами, а, наоборот, изобилуют малоизвестными и увлекательными рассказами. Иронический тон повествования и изящный слог дополняют образ настоящего и единственного в своем роде арт-объекта.
 Если есть необходимость представлять этого автора, то в вашем списке для детского чтения зияет ощутимый пробел. Туве Янссон — самая известная писательница Финляндии, а созданные ею в 1940-х муми-тролли до сих пор радуют детей всех возрастов. Этот magnum opus заслоняет произведения для взрослых читателей, хотя ее перу принадлежат несколько сборников отличной прозы, хранящей в себе тепло, — специально для морозов Северной Европы. В книге «Лодка и я» — избранные поздние новеллы писательницы. Для короткого перелета особенно подойдет рассказ «Мои любимые дядюшки», в котором представлена целая галерея очаровательных шведов. В бестолковых перемещениях и легкой инфантильности персонажей видны не только повзрослевшие муми-тролли, но и мечты о крепкой семье. Если Туве Янссон научит вас видеть северян именно такими, то удовольствие от пребывания в Хельсинки увеличится стократ.
Если есть необходимость представлять этого автора, то в вашем списке для детского чтения зияет ощутимый пробел. Туве Янссон — самая известная писательница Финляндии, а созданные ею в 1940-х муми-тролли до сих пор радуют детей всех возрастов. Этот magnum opus заслоняет произведения для взрослых читателей, хотя ее перу принадлежат несколько сборников отличной прозы, хранящей в себе тепло, — специально для морозов Северной Европы. В книге «Лодка и я» — избранные поздние новеллы писательницы. Для короткого перелета особенно подойдет рассказ «Мои любимые дядюшки», в котором представлена целая галерея очаровательных шведов. В бестолковых перемещениях и легкой инфантильности персонажей видны не только повзрослевшие муми-тролли, но и мечты о крепкой семье. Если Туве Янссон научит вас видеть северян именно такими, то удовольствие от пребывания в Хельсинки увеличится стократ. Серия книг «Влюбленный Сократ» московского издательства «Ad Marginem» призвана в доступной форме объяснить детям устройство основных философских систем. Их герои — великие философы от античности до ХХ века. Обаяние этих произведений — в мастерских иллюстрациях, сопровождающих истории о мыслителях всех времен. Новинка серии посвящена античному философу Диогену — тому, который если и выбирался из родного пифоса, то только чтобы побродить с фонарем по Афинам или сорвать лекцию именитому современнику — Анаксимену. Сложно найти более подходящего героя для иллюстрированного рассказа, и биография этого человека, завидующего свободе собак, увлечет не только ребенка. Его философия была воплощена не в бесконечных трактатах, а в самой жизни. Лаконично собранные под одной обложкой основные факты (или легенды?) о пути афинского мудреца выполнены в форме изящных иллюстраций, которые можно рассматривать все время перелета.
Серия книг «Влюбленный Сократ» московского издательства «Ad Marginem» призвана в доступной форме объяснить детям устройство основных философских систем. Их герои — великие философы от античности до ХХ века. Обаяние этих произведений — в мастерских иллюстрациях, сопровождающих истории о мыслителях всех времен. Новинка серии посвящена античному философу Диогену — тому, который если и выбирался из родного пифоса, то только чтобы побродить с фонарем по Афинам или сорвать лекцию именитому современнику — Анаксимену. Сложно найти более подходящего героя для иллюстрированного рассказа, и биография этого человека, завидующего свободе собак, увлечет не только ребенка. Его философия была воплощена не в бесконечных трактатах, а в самой жизни. Лаконично собранные под одной обложкой основные факты (или легенды?) о пути афинского мудреца выполнены в форме изящных иллюстраций, которые можно рассматривать все время перелета. Эта книга не станет для вас настольной и не займет важного места в сердце. Но найти что-то более атмосферное для путешествия в Хельсинки на поезде сложно: «В путь!» — сборник железнодорожных баек современных финских литераторов. Весь текст поделен на разделы, названные по местам в вагоне: вот места для едущих с питомцами, вот бизнес-купе, вот сидячее место, поэтому вы можете выбрать подходящего попутчика. Мне выпало ехать в тамбуре с Катей Кетту и Яри Терво. Неторопливые сюжеты этих рассказов пропитаны приятным юмором и любовью к своей земле. Трагизма великой электрички из Москвы в Петушки вы здесь не найдете, но тексты послужат приятным дополнением к стуку колес фирменного «Аллегро».
Эта книга не станет для вас настольной и не займет важного места в сердце. Но найти что-то более атмосферное для путешествия в Хельсинки на поезде сложно: «В путь!» — сборник железнодорожных баек современных финских литераторов. Весь текст поделен на разделы, названные по местам в вагоне: вот места для едущих с питомцами, вот бизнес-купе, вот сидячее место, поэтому вы можете выбрать подходящего попутчика. Мне выпало ехать в тамбуре с Катей Кетту и Яри Терво. Неторопливые сюжеты этих рассказов пропитаны приятным юмором и любовью к своей земле. Трагизма великой электрички из Москвы в Петушки вы здесь не найдете, но тексты послужат приятным дополнением к стуку колес фирменного «Аллегро». К нон-фикшену эту книгу можно отнести только потому, что в ее основе — вполне реальное путешествие рассказчика по Москве, Петербургу и Парижу. Сборник дорожных заметок учит особому «всматриванию» в окружающее пространство. Автор будто ощупывает мир взглядом и фиксирует это на бумаге. Подобные книги просто необходимы в дороге — как своего рода учебники по вИдению нового места. Знакомство с любым городом — да и с любым пространством вообще — начинается именно со взгляда вокруг. А чтобы туристский восторг не заслонил самое главное и интересное, нужно тренировать свой глаз. В том числе и так, как это делает Гиршович. Эти зрительные опыты дополняются остроумными замечаниями о жизни современной русской эмиграции, с ее нелюбовью к российским властям и страхом перед исламским миром.
К нон-фикшену эту книгу можно отнести только потому, что в ее основе — вполне реальное путешествие рассказчика по Москве, Петербургу и Парижу. Сборник дорожных заметок учит особому «всматриванию» в окружающее пространство. Автор будто ощупывает мир взглядом и фиксирует это на бумаге. Подобные книги просто необходимы в дороге — как своего рода учебники по вИдению нового места. Знакомство с любым городом — да и с любым пространством вообще — начинается именно со взгляда вокруг. А чтобы туристский восторг не заслонил самое главное и интересное, нужно тренировать свой глаз. В том числе и так, как это делает Гиршович. Эти зрительные опыты дополняются остроумными замечаниями о жизни современной русской эмиграции, с ее нелюбовью к российским властям и страхом перед исламским миром. Урхо Кекконен не слишком известен в России, однако для Финляндии он — знаковая политическая фигура. Трижды президент Финляндии, кавалер шведского ордена Серафима, чемпион страны по прыжкам в высоту. Необычная судьба и эксцентричный образ привлекли художника Матти Хагельберга — в результате появился комикс «Кекконен». Это совершенно недостоверная, пропитанная черным юмором и насквозь абсурдная биография президента (здесь — и супергероя). Персонажами зарисовок Хагельберга становится не только Кекконен, но и целая вереница политиков, музыкантов, лиц поп-культуры. Непростой, напоминающий о северном дизайне рисунок позволяет подолгу рассматривать каждую страницу, находя все новые и новые детали.
Урхо Кекконен не слишком известен в России, однако для Финляндии он — знаковая политическая фигура. Трижды президент Финляндии, кавалер шведского ордена Серафима, чемпион страны по прыжкам в высоту. Необычная судьба и эксцентричный образ привлекли художника Матти Хагельберга — в результате появился комикс «Кекконен». Это совершенно недостоверная, пропитанная черным юмором и насквозь абсурдная биография президента (здесь — и супергероя). Персонажами зарисовок Хагельберга становится не только Кекконен, но и целая вереница политиков, музыкантов, лиц поп-культуры. Непростой, напоминающий о северном дизайне рисунок позволяет подолгу рассматривать каждую страницу, находя все новые и новые детали. Финляндия относится к числу самых экологичных европейских держав. Поехать туда стоит как минимум чтобы побродить среди деревьев. Новинка от ВШЭ наверняка изменит ваше отношение к зеленым друзьям человечества: вместо неподвижных колонн леса, очистителей воздуха и поставщиков сырья для новых книг они предстанут как сложноорганизованное сообщество, соединенное корнями не хуже интернет-серверов. Автор — беззаветно влюбленный в свое дело лесник, и его восторг перед зелеными гигантами порой мешает бесстрастному и педантичному изложению фактов. Но отступления от академизма восполняются примечаниями научной редакции, объясняющей читателю неточности Вольлебена. Книга превращается в своего рода диалог между фанатом своего дела, верящим в лесной коммунизм, и строгим ученым, одергивающим слишком утопичного автора. В итоге увлекательное изложение соединяется с научной достоверностью, создавая весьма занимательную книгу.
Финляндия относится к числу самых экологичных европейских держав. Поехать туда стоит как минимум чтобы побродить среди деревьев. Новинка от ВШЭ наверняка изменит ваше отношение к зеленым друзьям человечества: вместо неподвижных колонн леса, очистителей воздуха и поставщиков сырья для новых книг они предстанут как сложноорганизованное сообщество, соединенное корнями не хуже интернет-серверов. Автор — беззаветно влюбленный в свое дело лесник, и его восторг перед зелеными гигантами порой мешает бесстрастному и педантичному изложению фактов. Но отступления от академизма восполняются примечаниями научной редакции, объясняющей читателю неточности Вольлебена. Книга превращается в своего рода диалог между фанатом своего дела, верящим в лесной коммунизм, и строгим ученым, одергивающим слишком утопичного автора. В итоге увлекательное изложение соединяется с научной достоверностью, создавая весьма занимательную книгу.