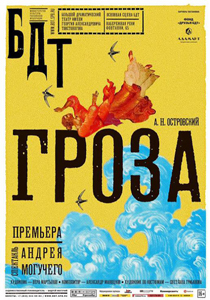Эти литературные герои — не защитники отечества; более того, мало кого из них можно назвать рыцарем без страха и упрека. Их главные достоинства — острый ум и бездна обаяния. Их путь усыпан осколками разбитых сердец, но кто же осудит наших героев за это? «Прочтение» составило список самых харизматичных персонажей мировой литературы, за которыми любая женщина будет готова пойти «хоть на край земли, хоть за край».
- Фигаро («Севильский цирюльник», Пьер Огюстен Карон де Бомарше)
Тип плута, представителем которого и стал находчивый камердинер из пьес Бомарше, — один из самых популярных в мировой литературе. Слуга-пройдоха встречается чуть ли не в каждой классической пьесе восемнадцатого века, однако лучше всех читатель помнит Фигаро (иногда в памяти всплывает еще и имя слуги двух господ — Труффальдино). С Фигаро не соскучишься, ведь свои бесчисленные проказы он устраивает исключительно из любви к искусству, пусть и такому изощренному. Легкость — второе имя находчивого испанца, а третьим стала бы, пожалуй, хитрость. Он доказывает, что такая смесь оказывается выигрышной и в стычках с простыми завистниками, и в схватке с влиятельным графом. Фигаро очень трогателен в любви к своей Сюзанне и столь же отчаян во внезапно возникших ревности и гневе. А еще мы любим его знаменитый испанский костюм (подаривший, кстати, название укороченным курткам «фигаро»).
- Ретт Батлер («Унесенные ветром», Маргарет Митчелл)
Скарлетт О’Хара оценила Ретта слишком поздно — и этим подарила миру первый настоящий фанфикшн авторства Александры Рипли. Читателя же чарльстонский скандалист покоряет с первых колких фраз и разбитой ценной вазы. Образ мистера Батлера вырисовывается глава за главой, и в итоге казавшееся поначалу невозможным слияние в его характере жестокости и благородства, цинизма и проявлений трогательной заботы, внешней крепкости и внутренней ранимости выстраивается в удивительно цельное и объемное представление о герое. Идеальные манеры и южная страстность натуры уже почти век разбивают сердца читательниц — но даже стань Ретт современным американским миллионером, он по-прежнему бы, по собственному признанию, «don’t give a damn» об этом.
- Том Сойер («Приключения Тома Сойера», Марк Твен)
В обаятельном мальчишке из американского городка Санкт-Петербург было очень много разных талантов: бизнесмена (вспомним виртуозный обмен разной мелочи на главный школьный приз), психолога (чего стоило убедить соседских ребят, что покраска забора — настоящий курорт, за который еще и стоит заплатить этой самой мелочью — детскими сокровищами) и сердцееда (ведь все это было ради покорения одной девочки). А еще он первый революционер-освободитель и пример того, как нужно вести себя, попадая в самые разные переделки. Сомневаться не приходится: Том вырос настоящим джентльменом и примерным мужем Бекки Тэтчер, сцена первого поцелуя с которой — одна из самых трогательных в мировой литературе.
- Эрик («Призрак оперы», Гастон Леру)
Самый темный и загадочный герой подборки, настоящее знамя романтизма. Эрик — одинокий гений музыки, и его обаяние — это демонические чары человека без лица. Несмотря на то, что он предстает бесплотным неуловимым призраком, его страсть — вполне земная и понятная. Отношение к Эрику не может быть однозначным: он обрушивает в зал люстры, лишает голоса певиц, вымогает средства у владельцев театра и наконец почти убивает Рауля в своей камере пыток. Но доброе начало все же берет верх, а за его сочетание с гениальностью мы и прощаем Эрика — к тому же его вечная преданность предмету любви не может не покорять.
- Остап Бендер («12 стульев», Илья Ильф и Евгений Петров)
Снова плут и плутовство — только уже с более приземленными целями и на кардинально другом фоне. Интереса к женщинам плут эпохи раннего социализма тоже лишен — мадам Грицацуева не в счет. Зато никто другой не смог бы подарить нам столько крылатых фраз и мечту о Рио впридачу. Морская фуражка, шарф, вечный задор и авантюризм — вот канонический образ любимца читателей. Эта легкость и жизнерадостность чуть было не погубила Остапа в столкновении с настоящей подлостью, но Ильф и Петров вовремя передумали, подарив читателю вторую встречу с героем. Несметные богатства уплыли из рук Остапа вместе с мечтой о южном побережье — зато лед женских сердец определенно тронулся.
- Ромка («Вам и не снилось» (название в первой редакции — «Роман и Юлька»), Галина Щербакова)
Образ Ромео был почти забыт литературой соцреализма: писатели переключились на изображение честных работяг и упорных изобретателей. Тем труднее забыть школьника Рому Лавочкина, чья преданная любовь к девочке Юле (в знаменитой экранизации режиссера Ильи Фрэза — Кате) преодолела все преграды. Рома не лишен лучших черт советских героев: обостренного чувства справедливости, патологической честности и небывалой для столь юного возраста ответственности (впрочем, все это почти погубило его). Ромка наговаривает таблицу умножения на кассету для Юльки, Ромка пристраивает бездомных котят и ухаживает за больной бабушкой, Ромка прячет Юльку от дождя, угощает мороженым и щекочет травинкой по щеке — безупречность иногда бывает удивительно милой и притягательной.
- Леон Этингер («Русская канарейка», Дина Рубина)
Один из самых обаятельных (и полюбившихся широким читательским массам) героев последнего времени — Леон Этингер из трилогии Дины Рубиной «Русская канарейка». Талант, обладатель уникального контр-тенора, оперная звезда — Леон стал нашим ответом Джеймсу Бонду: он еще более успешный тайный агент, боец невидимого фронта, неуловимый мститель. Ну и при этом, само собой, изящен, неотразим, умен. Последний из рода Этингеров разбивает женские сердца и оставляет с носом мировые разведки. Жаль, что такой бриллиант все-таки гражданин Израиля, но мощные русские корни позволяют нам его присвоить. Все-таки он «русская канарейка», а не чей-то там суперагент.
- Андреас Вольф («Безгрешность», Джонатан Франзен)
Если писатель называет свою книгу «Безгрешность», можно не сомневаться, что в ней будет поднята и тема греха. Рука об руку с грехом идут и пороки. Андреас Вольф несет на себе бремя исключительности и избранности, которое он иногда путает со вседозволенностью. У героя множество секретов, которые так и хочется разгадать — это и делает его безумно притягательным. Вольф — глава организации, специализирующейся на информационных утечках, его работа — разоблачать других, оставаясь максимально незамеченным. В книге этот персонаж не на первых ролях, но, безусловно, он первый в том, чтобы помогать другим осознавать бесконечную глубину черной дыры в их душах.
Кадр на обложке статьи: «Унесенные ветром», 1939