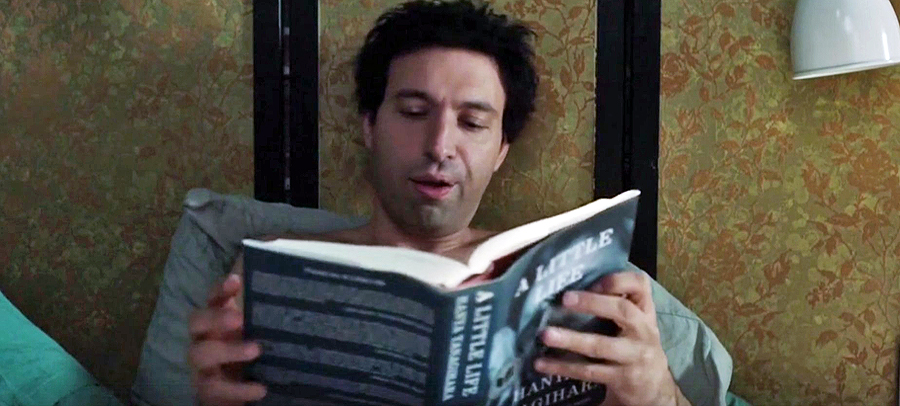Дискуссии о взаимоотношении кино и текста ведутся давно и ожесточенно, возникают все новые и новые вопросы. Организованный в СПбГУ круглый стол «Кино/текст» с участием современных писателей, кинематографистов, филологов и киноведов поможет немного разобраться в вопросе. «Прочтение» публикует несколько высказываний гостей о проблеме соотношения кинематографа и литературы.
Модератор:
 Валерий Вьюгин
Валерий Вьюгин
филолог, киновед
Участники:
 Елена Чижова
Елена Чижова
писатель
 Сергей Носов
Сергей Носов
писатель
 Александр Буров
Александр Буров
кинооператор
 Владимир Непевный
Владимир Непевный
режиссер, сценарист
 Михаил Железников
Михаил Железников
сценарист, режиссер
Валерий Вьюгин: Проблема соотношения кино и текста кажется абсолютно надуманной. Все-таки кино и текст в нашем сознании и дружат, и расходятся. Самая житейская ситуация: читать книжки или смотреть кино? Такая этическая ситуация, которая в советской культурной среде, наверное, решалась бы в пользу литературы, потому что эпоха была литературоцентричной, а сейчас что-то поменялось. Но эту проблему можно рассмотреть с разных углов зрения, например теоретико-эстетической позиции, связанной с тем, что такое кино. Мы вспоминаем непременно имя Андре Базена, который задавался этим вопросом, и его огромные труды. Что такое кино — до конца непонятно, но это что-то специфическое, отличное от драматургии и литературы, хотя вроде бы и нарративное кино имеет место. Можно вспомнить Кристиана Метца, который поставил вопрос еще кардинальнее: если есть текст, значит, должен быть язык. А у кино есть язык? Какой он? У кино, получается, свой особый язык, который порождает свою семиотику, который не имеет отношения к тому, на котором говорит литература, или имеет очень опосредованное отношение. А титры в кино — это кино или литература?
Елена Чижова: Я думаю, что никак не разрешу вопрос, что первично: кино или текст, яйцо или курица. Хотя бы потому, что этот вопрос, поскольку я не филолог и не литературный критик, меня абсолютно не интересует. Скажу ровно то, что действительно существует по этому поводу в моем сознании. Когда мне позвонили и попросили рассказать, чем отличается кино от текста, я сразу отмела для себя ту постановку вопроса, с которой вы начали: что следует делать — читать книги, или смотреть фильмы. Может, уже годы сказываются или в своем развитии я дошла до таких высот, что уже давным-давно поняла: одно не исключает другое, одно не заменяет другое, это два абсолютно разных языка, и пытаться сравнивать фильм «Война и мир» с книгой — довольно странное занятие, независимо от того, близко это сделано к книге или нет. Можно посмотреть фильм, если он нравится — замечательно, можно потом прочитать книгу, если она нравится — тоже замечательно. Поэтому коротко скажу о том, что меня в этом отношении действительно волнует, и волнует скорее в области литературы, хотя размышления свои я начала именно с кино.
Для меня есть такой универсальный образ творчества, это начало к «Завещанию Орфея» Кокто, когда появляется рука, и из руки начинает медленно вырастать цветок, вырастают лепестки. Каждый раз, когда я пересматриваю эти кадры, они вызывают дрожь именно потому что я понимаю, что это рождение некоего образа. И когда речь идет о кино, и когда речь идет о — я условно скажу — романе (потому что слово «текст» мне не нравится, там очень много неприятных, лжепостмодернистских, коннотаций), когда я думаю о фильме и романе, то всегда размышляю о том, что же здесь, в каждой из этих областей, первично. Из чего, собственно, вырастает образ. Из чего состоят в кино эти лепестки и из чего состоят эти лепестки в романе. Для меня совершенно очевидно, что, когда я пишу роман, эти лепестки вырастают из слов — смыслы, которые не из мыслей, не из каких-то картинок, которые возникают у меня перед глазами, а именно из слов. Из руки, если продолжить это сравнение, начинают вырастать слова. Как мне представляется (и это совершенно дилетантское мнение), когда человек снимает кино, у него из руки вырастает все-таки какой-то визуальный ряд, какая-то картинка, какие-то сменяющие друг друга картинки. Теперь остается понять, какое отношение имеет текст вот к этим первично вырастающим картинкам, потому что, как мне кажется, для кинематографа текст — важнейшая вещь, и не в том смысле, текст или не текст титры, потому что титры — это, вообще говоря, текст. Когда я говорю о роли текста для кинематографа — это некая тень, которая должна знать свое место, и в то же время некая тень, которая создает трехмерное изображение. Она углубляет некоторый контекст. Чтобы были понятны мои рассуждения, приведу очевидный пример.
Когда-то давно, когда вышел фильм Тарковского «Зеркало» и когда я его смотрела, я прослушала кусочек текста (увлеклась визуальным рядом) в той сцене, где героиня Тереховой приходит к жене ее мужа. История, когда она продает серьги. Я так увлеклась визуальным рядом, что прослушала этот момент, где сказано, какое отношение эта женщина имеет к мужу Тереховой. Визуально это никак невозможно было понять: в конце концов, это могла быть какая-то соседка, деревенская женщина, еще кто-то. Потом я уже смотрела много раз, и это было построено на тексте — эти картины стояли у меня перед глазами, но изображение было довольно плоским в сознании, условно плоским. И когда я в следующий раз увидела эту же сцену и услышала, что это такое, этот смысловой ряд очень сильно углубился. Во-первых, появилось объяснение, почему серьги — потому что «всем сестрам по серьгам»; во-вторых, оказывается, что они здесь, как принято сейчас говорить, позиционируются как сестры, и тогда совершенно понятно, почему героине Тереховой становится дурно после того, как она видит этого ангелоподобного младенца с какими-то инфернальными чертами, который в этой ситуации оказывается родным человеком для ее сына и в каком-то смысле его возможной реинкарнацией. И вот этот ужас, который углубляется только посредством текста, меня тогда глубоко поразил.
Что касается текста как такового, в тексте романа, почти любого, существует (и для меня это очень важное направление) проблема взаимоотношений картинок и самого текста, потому что это только кажется, что в тексте романа не существует картинок. Когда мы читаем Толстого и не пропускаем то, что девушки пропускают (я имею ввиду военные сцены): если мы это перечитываем, прекрасно понимаем, что это изумительный кинематограф — во всяком случае, я так это воспринимаю. Мне не нужно больше камеры, потому что Толстой написал это таким образом, но когда мы обращаемся к современному роману, опять возникает проблема взаимоотношения картинки и текста внутри романа. Мой тезис, который я доказываю уже много лет, работая, заключается в том, что в современном романе картина как таковая, то есть описание чего-либо, даже замечательное описание, должно играть роль тени. Роль ровно такую же, что должен играть текст в кинематографе. Огромные и даже замечательно написанные картины внутри романа становятся какими-то чудовищными гирями, которые тянут роман на дно. Не потому, что это длинноты, а потому что они занимают неподобающее им место, потому что они должны вырастать из потока слов, они должны мелькать, они должны подхватывать словесные смыслы, а не занимать самостоятельное место под солнцем. Для того, чтобы привести пример, я приведу неудачное, на мой взгляд, такого рода использование картин в литературе — это роман Петра Алешковского «Крепость», на который обратил наше внимание букеровский комитет в прошлом году. Все эти прекрасно, казалось бы, написанные сцены, картины жизни древнего протагониста главного героя, они и делают роман каким-то довольно примитивным, архаичным и неработающим.
Александр Буров: Я абсолютно солидарен, и никакого конфликта здесь не возникает. Но нужно определиться с терминологией: что мы называем кино? Потому что есть кино и есть кино. Я считаю, что с приходом звука кино как таковое шарахнулось куда-то абсолютно в сторону, ушло после парада аттракциона монтажного в аттракцион звуковой; мы это видим и с приходом стерео в кинотеатре, как в этом купается современное кино, которое, как мне кажется, не заслуживает того, чтобы называться кинематографом и как таковым кино, это все-таки аттракцион — то, что показывают в торговых центрах, как раньше показывали на ярмарках. А кино как таковым может называться только авторское кино. Безусловно, изобразительность в кино первостатейна, я согласен, что слово живет в совершенно иной плоскости и является тенью. Это очень хороший образ, он придает визуальную глубину. Конечно, преступление — превращать изображение в служанку диалогов, преступление со стороны тех людей, которые работают с этим инструментом и называют себя кинематографистами и делают так называемые драмы, сериалы. Я прежде всего против того, чтобы, еще раз повторюсь, превращать его величество изображение в служанку диалогов.
Владимир Непевный: Конечно, я не буду спорить. Я, кстати, вспомнил пример отдельный, вполне показательный, из истории кино: в фильме «Июльский дождь» был эпизод, когда типографский станок печатает репродукции, по-моему, «Моны Лизы», и это один из очень сильных, выразительных эпизодов фильма, когда мы видим уникальное произведение, и оно на наших глазах тиражируется в каком-то бесконечном количестве. Все эти «Моны Лизы» на нас смотрят и продолжают прибывать, пачка все увеличивается. В сценарии изначально это было печатание книги, по-моему, Лермонтова, я не уверен, но там был какой-то литературный текст в сценарии. Смысл эпизода сохранился, но уже в процессе создания фильма было найдено совершенно блестящее кинематографическое решение, и именно поэтому оно сработало, и поэтому эпизод стал таким выразительным.
Понятие текста вполне применимо к фильму, естественно, но оно несет другой смысл. Кинематограф оперирует своими составляющими текста. Я могу в большей степени из своего опыта исходить, отчасти он у меня документальный: это в том числе фильмы о писателях, даже о поэтах — мне кажется, в этих случаях важно избегать максимально пересказа биографии и содержания произведений, потому что в этих случаях как раз кинематограф становится каким-то средством информации, очень примитивной. Поэтому каждый раз приходится искать какое-то уникальное, индивидуальное решение, и это, собственно, интересно. Это некое препятствие, некая проблема, когда кинематограф сталкивается непосредственно с литературой: с биографией писателя, с творчеством писателя, с литературными текстами. В этом смысле проще, наверное, когда пишется оригинальный сценарий. Как любые творческие трудности, они плодотворны, потому что есть шанс, что что-то интересное придумается — хотя и не стопроцентная уверенность, но такая надежда есть. Если говорить о документальном опыте, мое собственное ноу-хау — это каждый раз из автора пытаться сделать персонажа, то есть расширить текст его произведения до какого-то универсального текста и спроецировать так, чтобы обстоятельства биографии тоже превратились в некий текст. Иногда это получается, но все зависит еще от автора: бывают случаи в этом смысле гораздо менее благоприятные, когда по отдельности существуют биография, жизнь писателя, и его произведения.
Что касается игрового кино, то у меня небольшой опыт: есть короткометражный фильм по пьесе Петрушевской — оказалось, что это первый фильм в принципе по Петрушевской, есть только мультфильмы, что тоже любопытно. Проза Петрушевской вроде бы кинематографична, потому что сюжетна, но, так или иначе, фильма не было ни по ее рассказам, ни по ее повестям. И я думаю, что за этим тоже стоит определенная проблема, определенное свойство ее прозы — в ней на самом деле главным героем является рассказчик, некое лицо, которое рассказывает читателю историю, это какой-то даже устный сказ, сопоставимый с Лесковым, и поэтому вынуть сюжетную составляющую, отделить от рассказчика вряд ли вообще возможно. Или возможно, но тогда от Петрушевской ничего не останется — будет какая-то мелодраматическая история, вполне сериальная, с нагромождением немыслимых житейских обстоятельств.
Сергей Носов: В отношении изобразительных возможностей у литературы и кино много общего. Вот камера выбирает ракурс: если так — вижу одно, но надо мне как-то отстраниться и показать по-другому. В литературе — то же самое. В общем-то, любой эпизод автором, литератором демонстрируется с какого-то ракурса — читателю не обязательно замечать, как автор играет планами, сосредотачивается на деталях, но если с ракурса автор собьется, пропадет вся выразительность. В прозе важна роль рассказчика — того, кто и определяет ракурс изображения материала. Лично я люблю как раз картинками писать. Не всегда они нужны, естественно, но раз в каком-нибудь эпизоде что-то происходит конкретное, хочется, чтобы читатель это действительно увидел. Совсем не обязательно живописать, предъявлять непосредственные изображения, это может быть и просто диалог, но, значит, диалог должен быть таким, чтобы за словами персонажей читатель зримо представлял картинку, вплоть до деталей, даже не предлагаемых автором в явном виде. В литературе — в отличие от кино — изображение часто дается опосредованно, непрямо. Вот только что перед началом нашей встречи проверяли проектор, и на экране мелькал человек из какого-то черно-белого фильма: стоял на поляне с голыми ногами в длинном свитере, куда-то глядел в пространство. Все понятно. Что понятно? Что это что-то драматичное, странное, ощущается какая-то тревога, когда смотрим на это, как бы метафизическое беспокойство. Изображение говорит само за себя. А как подобное изобразить в прозе? Сказать «стоял без штанов»? Уже смешно. Хотя мы же видим на экране — он действительно без брюк, и ничего нет в этом смешного. «Стоял в одном свитере»? Тоже не то. Изображение, самодостаточное на экране, сопротивляется прямому описанию. Но можно дать изображение опосредованно — допустим, через ощущения персонажа или, может быть, их отсутствие: сказать, например, что «он не замечал множества комаров, облепивших его голые ноги». Вот здесь и начинается литература. Обратный пример — прямого изображения в тексте, причем даже не прозаическом, а поэтическом. Первая строка раннего, времен гражданской войны, стихотворения Константина Вагинова: «Вновь я на родине. Ем чечевичную кашу». Казалось бы, всего три слова, почти ремарка — «ем чечевичную кашу», — но это предельно точные, верно отобранные и верно поставленные слова, не только обозначающие конкретную бытовую ситуацию, но работающие на образ, способный к расширению. Тут и вечный мотив возвращения, и библейский мотив первородства, и много еще чего. Тут не просто завтрак, не просто удовлетворение аппетита. Можно это показать на экране? Да еще с таким стилистическим аскетизмом? Можно, наверное, но каким-то надбытовым образом. Я не знаю, как. Но это будет кино.
Елена Чижова: Еще общее между кинематографом и работой над романом — то, что я для себя называю «ритмический монтаж». Это приходится делать в конце любому автору, который сдает книгу: все равно какое-то время — последние месяц или два — он занимается этим ритмическим монтажом для того, чтобы отдельные куски ритмически и по смыслу переходили одно в другое — это довольно близко, как мне кажется, с процессом монтажа.
Михаил Железников: Тема очень интересная, и я не вижу в ней никакого конфликта. Согласен, что излишняя иллюстративность противопоказана литературе, излишняя литературность противопоказана кино как искусству визуальному. И Шкловский, и Бергсон, и все умные люди в 20-х годах были правы, что звук в чем-то повредит новому виду искусства, но жаловаться поздно — звук есть и никуда мы от него не денемся. И все-таки сложно отрицать, что приход звука в кино дал массу новых возможностей, потому что далеко не все нюансы, не все чувства и мысли можно с легкостью перевести на язык изображения, так же как не все изображения можно перевести в символы или знаки. Но мы не будем лишать права многих больших художников, использующих слово в кинематографе, называться большими художниками: никто не спорит, что фильмы Вуди Аллена или Бертрана Блие — классические, хоть они заходят на литературное поле больше, чем какие-то более визуальные фильмы. Я бы не был так категоричен: мне кажется, что проблема сериалов, где картинки используются как иллюстрации диалогов, не в том, что они злоупотребляют текстом или недостаточно внимательно относятся к изображению, а в том, что и текст, и изображение там сделаны бездарно — вот основная проблема поточного производства. Я бы подходил тут к каждому фильму, к каждому случаю экранизации или иллюстрации чего бы то ни было индивидуально. В литературе ведь тоже — если хороший художник берется иллюстрировать книгу, что, в общем случае, может быть противопоказано, поскольку он задает определенные образы, уводит в сторону визуальной конкретики, но если эти иллюстрации удачные, они остаются с тобой навсегда — и это уже шаг к успешной экранизации. Попытки сравнения и книг, и их экранизаций не очень конструктивны, поэтому моя основная мысль: кино должно быть разным, и хорошо, что оно очень разное — кто-то больше опирается на текст, кто-то меньше, и что мы увидим на экранах в будущем — пока неясно, очень интересно посмотреть, к чему это придет.
Владимир Непевный: Мне кажется очень важным разговор о множественности точек зрения, которые дает литература, которые есть в литературном произведении — читатель, так или иначе, должен сам предпринять какие-то усилия, чтобы выбрать точку зрения и быть готовым ее менять. В этом смысле кинематограф — массовый — облегчает эту работу, как бы делает ее за читателя,технические приемы фиксируют видение и восприятие зрителя. Есть байка про кинорежиссеров — что они не ходят в театр, потому что не знают, куда там смотреть во время спектакля; примерно то же самое происходит в кинематографе по сравнению с литературой. Здесь каждый раз за зрителя делается эта работа, выбор, ему каждый раз взгляд ставится, и в этом смысле, мне кажется, как раз развитие техническое в каком-то смысле противоположно искусству именно потому, что происходит постоянное стремление еще больше облегчить эту работу зрителя. Поэтому литература все равно будет доставлять большее удовольствие, оказывать большее воздействие и вообще предоставлять большую возможность для развития человека, чем даже самый прекрасный кинематограф.
Иллюстрация на обложке статьи: Owen Gent


 Александр Жикаренцев
Александр Жикаренцев  Ольга Тублина
Ольга Тублина Леонид Янковский
Леонид Янковский 
 Иоанна Кула, Ph. D., доцент Вроцлавского университета
Иоанна Кула, Ph. D., доцент Вроцлавского университета  Юлия Владимировна Меладшина, аспирант Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета
Юлия Владимировна Меладшина, аспирант Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета  Дмитрий Кириллович Баранов, аспирант Санкт-Петербургского государственного университета
Дмитрий Кириллович Баранов, аспирант Санкт-Петербургского государственного университета 





 Аполлинария Аврутина, тюрколог, литературный обозреватель, переводчик книг Орхана Памука:
Аполлинария Аврутина, тюрколог, литературный обозреватель, переводчик книг Орхана Памука:  Татьяна Алферова, поэт, прозаик («Поводыри богов»):
Татьяна Алферова, поэт, прозаик («Поводыри богов»): 

 Вероника Капустина, поэт, прозаик («Намотало»), переводчик книг Хорхе Луиса Борхеса, Филипа Рота:
Вероника Капустина, поэт, прозаик («Намотало»), переводчик книг Хорхе Луиса Борхеса, Филипа Рота: 

 Валерий Былинский:
Валерий Былинский: 
 Сергей Авилов:
Сергей Авилов: