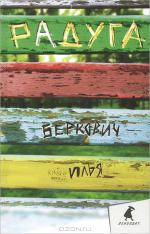- Елена Чижова. Планета грибов. — М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2014.
Новый роман лауреата премии «Русский Букер» 2009 года Елены Чижовой передает историю мужчины и женщины: переводчика, погрязшего в рутинной работе, и удачливой бизнес-леди. Он интеллигент, для которого сломанный замок — чудовищная проблема. Она с пятнадцати лет привыкла все решать сама. Существа с разных планет, они объединены общим прошлым: прошлым страны, города, семьи.
СВЕТ И ТЬМА
(понедельник)Чердачную комнату он называл кабинетом. Топчан,
покрытый линялой попоной, пара разнокалиберных
стульев, по стене — полки, набитые выцветшими папками: не любил ничего выбрасывать — ни старых рукописей, ни черновиков. Втайне надеялся на будущих
ученых, которые явятся после его смерти: изучать наследие, сверять варианты.Рабочий стол стоял у окна, обращенного к лесу. Половину столешницы занимала пишущая машинка. Другая — портативная, с латинским шрифтом, — томилась
на тумбочке в углу. Лет десять назад, когда издательство окончательно перестало принимать машинопись,
он отвез их на дачу и обзавелся стареньким компьютером — не задорого, по случаю. Переводы, сделанные
летом, осенью приходилось перегонять. Конечно, на
это уходит уйма времени, но не возить же сюда компьютер: нанимать машину. Весной — туда, осенью —
обратно. Тысяч пять как минимум…В этот раз, учитывая срочность заказа, главный
редактор обещал выделить наборщика. Просил привозить порциями: по три-четыре главы. Он было заартачился: мало ли, понадобится внести уточнения. Но получил обещание: предоставят распечатку. Пока оригинал-макет не подписан, он свободен вносить любую
правку.Машинка обиженно хохлилась. Он покрутил боковое колесо, будто потрепал по плечу старую, но
верную спутницу жизни, и заправил чистый лист.
«Ну-ну, виноват. Замок. Непредвиденное обстоятельство», — жалкие оправдания. В глубине души он
соглашался с нею: ритуал есть ритуал. Каждый божий день, не обращая внимания на выходные и праздники, просыпался без пятнадцати восемь, наскоро
ополоснув лицо и почистив зубы, завтракал и шел
к письменному столу. Сломанный замок внес свои коррективы.Сел и потер ладонями щеки. Верная спутница еще
не догадывалась, но он, мужчина, знал: завтра тоже
придется нарушить. Уйти ни свет ни заря.Лист, заправленный в каретку, белел соблазнительно. Обычно этого соблазна было достаточно, чтобы,
отрешившись от посторонних мыслей, погрузиться
в иное пространство, в котором звуки чужого языка
превращаются в русские буквы — складываются в слова. Первые годы, пока не приобрел устойчивого навыка, ощущение было острым, сродни тому, которое испытал в четыре года, научившись читать. Теперь, конечно, притупилось: работа есть работа. Над этой
книгой он корпел третью неделю, все это время чувствуя, что ступает по шатким мосткам. Текст, выползавший из-под каретки, оставался сомнительным —
даже на его взгляд, что уж говорить о специалистах.«Хоть отказывайся… — чтобы как-то войти в колею,
попытался найти подходящее оправдание: — Фантастика — не мой жанр», — осознавая, что дело не в жанре — достаточно вспомнить замечательные книги, чтимые интеллигенцией: Брэдбери, братья Стругацкие.Действие происходит в космическом пространстве,
точнее, на инопланетном корабле. По отдельным замечаниям, разбросанным по тексту, можно догадаться,
что он приближается к Земле. Днем астронавты занимаются текущими делами, но по вечерам собираются
в общем отсеке, где — по воле автора, увлеченного дарвиниста, — обсуждают теорию эволюции в разных ее
аспектах: естественный отбор, наследственность, выживание наиболее приспособленных, противоречия
между поколениями, борьба полов и все прочее. Для
него, далекого от этой проблематики, все это объединялось словом генетика.Пугала не столько терминология — на это существуют словари. Трудности перевода начинались там, где
герои вступали в споры: Что первичнее: благополучие
вида или спасение индивидуума? От каких факторов
зависит вероятность выживания той или иной популяции? Какой отбор важнее: индивидуальный или групповой? Он боялся содержательных ошибок: в его дилетантской интерпретации реплики персонажей — попадись они на глаза профессиональному биологу — могли
звучать бредом.Едва приступив к работе, он отправился к главному
редактору, чтобы поделиться своими сомнениями и выговорить себе пару дополнительных недель: подобрать
специальную литературу, спокойно посидеть в библиотеке, короче говоря, войти в курс.
— Поймите, у меня школьные знания. Дальше Менделя с его горохом и мушек-дрозофил я не продвинулся.Главный свел белесоватые брови и постучал ладонью
по горлу красноречивым жестом, намекающим на то,
что уважаемый переводчик, обращаясь к руководству
с просьбой об отсрочке, режет его без ножа.— Вы же понимаете: серия есть серия… Ох!.. Ох!..
А-апчхи!! — чихнул оглушительно и помотал голо-
вой. — Извините. Кондиционер проклятый… А без него вообще смерть! — заключил мрачно. — О чем, бишь,
мы? Ах, да… — сморщился, прислушиваясь к себе, видимо, чувствовал приближение нового чиха.— Ну хотя бы неделю… — он предложил неуверенно.
Рука главного редактора пошарила в столе. Не обнаружив ничего похожего на платок, редактор нажал на
кнопку. В дверях появилась секретарша.— Наташа, у нас есть салфетки?
— Не знаю, Виктор Петрович. Сейчас проверю.
Оглядев стол, заваленный рукописями, редактор
вернулся к теме разговора:— И что это даст?
— Как — что? — он старался говорить настойчиво.
— Тем самым мы избежим ошибок, не введем в заблуждение читателей.
Секретарша явилась снова:
— Салфеток нету. Только это, — протянула рулон
туалетной бумаги. — Хотите, схожу в магазин.— Не надо. Идите работайте, — главный редактор
отмотал и с удовольствием высморкался. — Я так и не
понял: что это даст?Он попытался объяснить:
— Нельзя идти поперек смысла. В конце концов, мы
живем в двадцать первом веке. У любого мало-мальски
образованного читателя возникнут претензии. Мы
обязаны хоть как-то соответствовать…Собеседник, мучимый насморком, слушал невнимательно.
— При чем тут образованные? Серия изначально
рассчитана на… — видимо, затруднившись с точным
определением, редактор понизил голос. — О, господи!
А-апчхи!— Будьте здоровы, — он откликнулся вежливо и обежал глазами стены. На задней, под портретами правящего тандема — они, в свою очередь, располагались под
иконой Богородицы, — висели фирменные календари.
Их выпускали ежегодно в представительских целях.
Правую стену — еще недавно, кажется, года три назад,
она пустовала — украшали старые плакаты с логотипом
прежнего издательства, на фундаменте которого выросло нынешнее. После ремонта кабинет главного редактора оформили в ностальгическом ключе. — Вы
должны понять и меня. Переводчик не имеет права нести отсебятину. Его задача — довести до читателя
именно то, что автор имел в виду. Иначе… — он придал
голосу оттенок серьезности, — может возникнуть скандал. Международный.— Лишь бы не внутренний, — его собеседник оттопырил большой палец, но ткнул не в икону и даже не
в портреты, а куда-то в угол, где висел выцветший плакат. Напрягая глаза, он разобрал цифры: 1975. — С заграницей мы как-нибудь справимся. Нехай клевещут.
Нам, как говорится, не привыкать.— Но ведь… Есть же права автора, — он покосился
на телефон, будто ожидая, что автор или его агент,
узнав о существе спора, каким-то чудом объявятся —
позвонят.Судя по тому, что главный редактор сморщился,
мысль о защите прав иностранного автора не показалась ему конструктивной:— Кто он нам, этот ваш автор? Может, он вообще
умер.— Но я-то?.. Дело и во мне, — он хотел объяснить,
что переводчик является полномочным представителем автора в той культуре, на языке которой он делает
свою работу.Но главный редактор его не слушал:
— Этот ваш… как его… — он щелкнул пальцами,
вспоминая имя. — Не Стейнбек. Не Йэн Макьюэн…
И даже, господи прости, не Бэнкс. Мне казалось, уж
вы-то, с вашей квалификацией, как никто понимаете. Мы выпускаем чтиво. Вто-ро-сорт-ное… — выговорил четко. — Так что поверьте мне: не надо мудрить.Слово, произнесенное по слогам, впилось жалом
в сердце:— Я работаю добросовестно. Свою работу я подписываю собственным именем, так что если я, как переводчик, полагаю…
— Не хотите — не подписывайте, — редактор нехорошо усмехнулся. — Желающих тьма. На ваше место.
Стоит только свистнуть.Он растерялся, неловко встал и направился к двери,
обостренно чувствуя за спиной шуршание туалетной
бумаги. Потом шуршание оборвалось.На другой день редактор, конечно, позвонил. Смущенно сопел в трубку, ссылался на головную боль: вы
же видели, в каком я был состоянии. Когда человек просит прощения, несправедливо не простить.— Я хотел… — все-таки он решил воспользоваться
моментом. — Есть одна книга, я думал предложить издательству…— Предлóжите, конечно, предлóжите. Но позже,
когда закончите эту работу. Тогда и поговорим, — редактор попрощался и положил трубку.Этот разговор он начинал не в первый раз. Раньше
редактор внимательно выслушивал его предложения,
просил подождать: «Поймите, редакция переживает
трудные времена. Еще несколько убойных книг, и у нас
появится возможность выбора. В смысле, у вас. Выберете сами. Обещаю: издам. Даю слово. Надеюсь, вы
мне верите?»Конечно, он верил. А что оставалось? Тем более начальство можно понять: первые четыре книги серии
вышли в свет через равные промежутки: раз в квартал. Если затянуть с пятой, внимание читателей может переключиться на другие серии, с которыми работают конкуренты. Такие истории случались и раньше. В этих обстоятельствах главный редактор всегда
обращался к нему, говорил: на вас вся надежда, счет
идет на дни, кроме вас в такие сроки никто не уложится, и разные другие слова, которые даже профессионалу его уровня редко приходится слышать. Отказать не хватало духу. Однако разговор, в котором редактор упомянул про второсортное чтиво, что-то
изменил.Пишущая машинка блеснула клавишами.
Отвечая на ее улыбку, он погладил каретку: «Ладно,
мир…»Команда космического корабля собиралась к ужину. Эти ежевечерние трапезы он назвал летучками.
Импонировала игра слов: в помещение, отведенное
для этой цели, участники действительно влетали.
Главное блюдо — его подавали в красивом расписном
сосуде, чем-то похожем на канистру, во всяком случае, верхняя крышечка откручивалась, — было приготовлено из овощей.Пожав плечами: овощи на космическом корабле?
Интересно, как их там выращивают? — двинулся дальше. Обвив подлокотники зеленоватыми щупальцами,
астронавты расселись и приступили к трапезе. Больше
не отвлекаясь на посторонние мысли, он закончил вторую главу.Под стропилами собирался душный воздух. Он
поднял глаза, представляя себе невидимое солнце.
Раскаленные лучи били по крыше прямой наводкой.Встал, распахнул оконные створки. Высокие корабельные сосны стояли в двух шагах. Солнечный свет
заливал вершины, оставляя в тени подлесок. Только теперь заметил: березы начали желтеть. «Конец июля…
Рановато. Обычно желтеют в августе».Сел, подперев ладонью щеку: «Второсортное…
второсортное, — проклятое слово впечаталось в память. Как след в мокрый песок. — Можно ли оставаться хорошим переводчиком, если переводишь всякую ерунду?..»Ты стал прекрасным переводчиком.
«Во всяком случае, если сравнивать с молодыми…»
Время от времени наведывался в книжные магазины.
Не покупал — пролистывал. Чтобы отловить очевидные глупости, хватало пары минут. Конечно, встретимся, — без убеждения повторил Джон. Или вот: Задумчивые глаза Ифигении грезили среди травы. Так и
видишь глазные яблоки, самочинно выпавшие из подобающих им впадин, чтобы покататься в траве. Вот, тоже симпатично: негнущийся маятник. Любопытно
взглянуть на маятник, который гнется, будто помахивает хвостом. Рядом с этим какое-нибудь Исчез по направлению к лесу смотрелось образчиком стиля.«А все потому, что ни вкуса, ни школы», — он выпрямился в кресле и покачал головой.
Обычно лингвистическая терапия действовала.
Сегодня — нет.
Метка: Русская литература
Алексей Варламов. Мысленный волк
- Алексей Варламов. Мысленный волк. — М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2014. — 512 с.
Действие нового романа лауреата нескольких литературных премий, постоянного автора серии «ЖЗЛ» Алексея Варламова происходит с лета 1914-го по зиму 1918-го. В героях «Мысленного волка» угадываются известные личности (Григорий Распутин, Василий Розанов, Михаил Пришвин и другие), происходят события реальные и вымышленные. Персонажи романа философствуют и спорят о природе русского человека, вседозволенности, Ницше и будущем страны. По словам писателя, «не было бы Варламова-прозаика, не было бы и биографа». Надо сказать, работать на славу ему удается в обоих литературных направлениях.
Часть I
ОХОТНИК1 Больше всего на свете Уля любила ночное небо и сильный в нем ветер. В ветреном черном пространстве она во сне бежала, легко отталкиваясь ногами от травы, без устали и не сбивая дыхания, но не потому, что в те минуты росла — она невысокая была и телосложением хрупкая, — а потому что умела бежать, — что-то происходило с тонким девичьим телом, отчего оно отрывалось от земли, и Уля физически этот полубег-полулет ощущала и переход к нему кожей запоминала, когда из яви в сон не проваливалась, но разгонялась, взмывала, и воздух несколько мгновений держал ее, как вода. А бежала она до тех пор, пока сон не истончался и ее не охватывал ужас, что она споткнется, упадет и никогда больше бежать не сможет. Тайный страх обезножеть истязал девочку, врываясь в ее ночные сны, и оставлял лишь летом, когда Уля уезжала в деревню Высокие Горбунки на реке Шеломи и ходила по тамошним лесным и полевым дорогам, сгорая до черноты и сжигая в жарком воздухе томившие ее дары и кошмары. А больше ничего не боялась — ни темноты, ни молний, ни таинственных ночных всполохов, ни больших жуков, ни бесшумных птиц, ни ос, ни змей, ни мышей, ни резких лесных звуков, похожих на взрыв лопнувшей тетивы. Горожанка, она была равнодушна к укусам комаров и мошки, никогда не простужалась, в какой бы холодной речной воде ни купалась и сколько б ни мокла под августовскими дождями. Холмистая местность с островами лесов среди болот — гривами, как их тут называли, — с лесными озерами, ручьями и заливными лугами одновременно успокаивала и будоражила ее, и, если б от Ули зависело, она бы здесь жила и жила, никогда не возвращаясь в сырой, рассеченный короткой широкой рекой и изрезанный узкими кривыми каналами Петербург с его грязными домами, извозчиками, конками, лавками и испарениями человеческих тел. Но отец ее, Василий Христофорович Комиссаров, выезжал в Высокие Горбунки только летом, ибо остальное время работал механиком на Обуховском заводе и в деревне так скучал по машинам, что почти все время занимался починкой нехитрых крестьянских механизмов. Денег с хозяев за работу он не брал, зато на завтрак всегда кушал свежие яйца, молоко, масло, сметану и овощи, отчего болезненное, землистое лицо его молодело, лоснилось, становилось румяным и еще более толстым, крепкие зубы очищались от желтого налета, а азиатские глазки сужались и довольно смотрели из-под набрякших век. На горбунковских мужиков этот хитрый опухший взгляд действовал столь загадочным образом, что они по одному приходили к механику советоваться насчет земли и хуторов, но об этом Василий Христофорович сказать не умел, однако мужикам все равно казалось, что петербургский барин что-то знает, но утаивает, и гадали, чем бы его к себе расположить и неизвестное им выведать.
Иногда, к неудовольствию молодой жены, Комиссаров ходил на охоту вместе с Павлом Матвеевичем Легкобытовым, надменным нервозным господином, похожим чернявой всклокоченностью не то на цыгана, не то на еврея. Легкобытов по первой профессии был агрономом, но на этой ниве ничего не взрастил, если не считать небольшой книги про разведение чеснока, и заделался сначала журналистом, а потом маленьким писателем, жил в деревне круглый год, арендуя охотничьи угодья у местного помещика князя Люпы — загадочного старика, которого никогда не видел, потому что у Люпы была аллергия на дневной свет и на людские лица, за исключением одного — своего управляющего. Про них двоих говорили дурное, но Легкобытов в эти слухи не вникал, он был человек душевно и телесно здоровый, с удовольствием охотился в прозрачных сосновых и темных еловых лесах, натаскивал собак, писал рассказы и в город ездил только за тем, чтобы пристраивать по редакциям рукописи да получать гонорары по двадцать копеек за строчку. Журналы его сочинения охотно брали, критика их то лениво бранила, то снисходительно хвалила, а механик Комиссаров любил своего товарища слушать и был у Павла Матвеевича первым читателем и почитателем. Однажды он даже привез сочинителю из Германии в подарок велосипед, на котором Легкобытов лихо разъезжал по местным дорогам, вызывая зависть мальчишек и ярость деревенских собак. На первых он не обращал внимания, а от вторых отбивался отработанным приемом: когда пес намеревался схватить его за штанину, велосипедист резко тормозил, и животное получало удар каблуком в нижнюю челюсть. Но столь жестоко Павел Матвеевич относился только к чужим псам, в своих же охотничьих собаках души не чаял, ценил их за ум, выносливость и вязкость и дивные давал имена — Ярик, Карай, Флейта, Соловей, Пальма, Нерль, а у иных было и по два имени: одно для охоты, другое для дома. Однажды купил гончую по имени Гончар и переименовал в Анчара. Он был вообще человек поэтический, хоть и казался грубым и резким.
После стычек с невоспитанными сельскими псинами штаны у Легкобытова оказывались порванными и их зашивала красивая, дородная и строгая крестьянка Пелагея, которая всюду за Павлом Матвеевичем следовала. Помимо охотничьих собак у них было трое детей: младшие — общие, такие же цыганистые и плотные, как их отец, а старший — белесый, худощавый, синеглазый, с длинными девичьими ресницами и пухлыми губами, — Алеша, был Пелагеиным сыном от другого человека. Павел Матвеевич пасынка не слишком жаловал, и не потому, что Алеша был ему по крови чужой, а потому, что относился к детям равнодушно и занимался в жизни только тем, что ему нравилось. А что не нравилось — отметал и в голове не держал.
Уля же с Алешей часто играла и очень его жалела. Оттого что сама она росла с мачехой, ей все время казалось, будто бы Алешу обижают в семье и даже занятая хозяйством мать относится хуже, чем к младшим сыновьям. Уля с детства таскала для своего товарища из дома лакомства и, перенимая крестьянскую печаль, во все глаза смотрела, как Алеша уплетает гостинцы, хотя впрок печенья и конфеты ему не шли и кости все равно выпирали из загорелого мальчишеского тела, а нежное лицо оставалось всегда трагически готовым к обиде. Однажды Уля накопила денег и купила ему нарядную рубашку, но Алеша смутился, потому что надеть обновку ему было некуда, а как объяснить матери, откуда рубашка взялась, он не знал.
— Не нравится? — истолковала по-своему его смущение Уля.
— Велика, — не соврал он, потому что с размером Уля и в самом деле ошиблась, и спрятал рубашку в овине подальше от чужих глаз, но зоркая Пелагея ее нашла.
Она выслушала Алешины спутанные объяснения, однако ругать сына не стала, а как-то странно хмыкнула, и обыкновенно сухие, прищуренные глаза ее помутнели и сузились, не давая выходу той судорожной материнской любви, которую Пелагея в себе носила, но о которой ни Павел Матвеевич, ни Уля не догадывались. Павел Матвеевич по самонадеянности, а Уля если во что уверовала, то переубедить ее не было никакой возможности. И Алеша с нею не спорил, а делал все, как она велела, — качался до головокружения на гигантских шагах, устроенных механиком, плавал на лодке-плоскодонке, учил свою подружку ловить рыбу и раков, которых они варили на костре, и, тараща глаза — ему спать хотелось, потому что утром вставать ни свет ни заря, — слушал Улины сказки про трехглазых людей, которым третий глаз дан для того, чтобы не видеть обыденного и прозревать сокровенное, и Уля верила, что у нее этот глаз есть, но еще пока не открылся.
— А чтобы глаз открылся, — говорила Уля Алеше чужим голосом, — надо делать особенные упражнения. Хочешь, научу?
— Хочу, — отвечал Алеша, и Уля чувствовала, как по ее позвоночнику от шеи до пояса пробегает легкий озноб.
Она невзначай касалась Алеши и тотчас отдергивала руку:
— А ты отчего в школу не ходишь?
— Зачем мне? Я и так все, что мне надо, умею и знаю. Читать умею, писать, знаю счет. Для чего мне лишнее?
— Это не лишнее, — возражала Уля, наблюдая за тем, как лихо Алеша делает рачницу, обвязывая сеткой ивовый прут и прикрепляя к центру камень с тухлой рыбой, а сама думала: «А правда, что толку, что он знал бы кучу ненужных вещей, которые знаю я?» Она вспоминала воспитанных петербургских мальчиков, с которыми бывала вместе на детских утренниках и елках: «Окажись они здесь, то пропали бы, не знали бы, как меня укрыть, а с Алешей ничего не страшно».
Страшно было только однажды, когда под вечер вытаскивали из реки перемет и после лещей, язей, налимов увидели на предпоследнем крючке человеческий нос, от которого шел резкий запах. Уля закричала, затряслась, Алеша побледнел, поднял голову и, ни слова не говоря, показал пальцем на реку. На самой ее середине, медленно вращаясь, плыл на спине человек в шубе, брюках и валенках. Лицо у утопленника было белое, обезображенное, волосы тоже белые, спутанные.
— Это мы его… переметом зацепили.
— Надо взрослым сказать.
— Не надо, пусть плывет куда плывет. А мы ничего не видали. Зимой управляющий князя Люпы пропал. Поехал с утра на станцию, а вечером лошадь пришла с пустыми санями. Мужики его, говорят, убили.
— За что?
— Немец был. Нитщ. А князь запил и от тоски вслед за ним помер. А перед тем наказал выставить на похоронах три ведра самогону, напоить всех, и чтобы на поминках до упаду плясали и плакать не смели.
Уля втянула голову в плечи и посмотрела по сторонам. Но ничего особенного не происходило: виднелись вдали темные деревенские избы с растрескавшимися бревнами и нарядными окнами, цвели луга, пели птицы и шли по полю загорелые, уверенные в себе женщины в узорчатых платках. Ничто не могло эту мирную картину порушить, и только отец, когда читал газеты, говорил странное, тревожное, иногда ему присылали телеграммы, от которых он смурнел, но Уля в эту сторону его жизни не вникала. Когда мачехи не было рядом, ей хотелось прижаться к нему, почувствовать родной запах и сладко заплакать, но отец в те минуты, когда она к нему ластилась, становился беспомощным, деревенел, пугался, и это останавливало ее и будило мысли мутные, тяжкие: «А может, и он мне неродной? Может быть, я вовсе подкидыш, сирота? И у меня были другие родители?»
Дни стояли долгие, не по-северному сухие, безветренные, жаркие. Жирное, студенистое солнце поднималось над горизонтом и лениво плыло по белесому небу, обжигая и суша кожу земли. Уля ждала вечера, тех часов, когда деревья начнут отбрасывать долгие тени, которые постепенно размывались, смешивались с сумерками, и все холмистое пространство слабо озарялось прохладной луной. Чем ближе было полнолуние, тем сильнее волновалась в ней кровь. Она знала, что такою ночью будет бежать, была возбуждена и тормошила худого большеголового Алешу, но взять его с собой не могла, а он смотрел на нее двумя грустными прищуренными глазами и, как умная собака, чуял ее недолгую судьбу.
Под вечер возвращались охотники. Измученный, мокрый от пота, грузный механик едва волочил стертые ноги и надсадно дышал, а жилистый, неутомимый Павел Матвеевич был бодр, будто не по лесам и болотам вдоль Шеломи шарашил, а сидел весь день в тени в парусиновых креслах и читал модного иностранного писателя Гамсуна вперемежку с иллюстрированным журналом «Нива», как это делала Вера Константиновна Комиссарова, жена механика, высокая, крупная женщина с тяжелыми медными волосами, относившаяся к Легкобытову с такой насмешливостью и подчеркнутым презрением, что даже Уле становилось неловко. Однако охотник невежливости не замечал или придавал женским уколам значение не большее, чем лаю деревенского беспородного пса. Веру Константиновну его снисходительность и пренебрежительность еще пуще злили и красили. За что именно мачеха своего деревенского соседа презирала, наблюдательная Уля уразуметь не могла — то ли за простонародную хозяйку с ее курами и козами, то ли за то, что Павел Матвеевич ничем своей бабе не помогал, а лишь пользовался ее трудами и услугами: она даже портянки ему наматывала, он так и не научился, зато был высокомерен сверх меры, воображал себя знаменитостью и, когда приезжал в Петербург, вечерами ходил на религиозные собрания в философский клуб для интеллигентов, а ночами водил дружбу с темными и страшными людьми — сектантами-чевреками. Об этих сектантах он вполголоса рассказывал, что есть у них главный человек — Исидор Щетинкин, бывший ученый иеромонах, бывший черносотенец, оратор и миссионер, которому чевреки поклоняются как богу, а он заставляет женщин делать с ним половые мерзости.
— Они все там бывшие.
— Это как? — недоумевал механик Комиссаров.
— Родители, когда их дети становятся совершеннолетними, от них отрекаются и говорят: мой бывший сын или моя бывшая дочь. А дети — моя бывшая мать или бывший отец.
Все это было и страшно, и непонятно, но странным образом сильный, кряжистый Легкобытов с его черной с проседью бородой и крючковатым носом Улю то пугал, а то завораживал, и она старалась почаще попадаться ему на глаза, хоть и боялась красивой Пелагеи.
Павел же Матвеевич был с девочкой ласково-равнодушен, но при этом не слишком внимателен. Однажды только поинтересовался на ходу высоким, мальчишеским голосом, совсем не подходившим к его диковатому лесному облику:
— Что это вы читаете, милая барышня?
— «Антоновские яблоки», сочинение господина академика Бунина, — сказала она примерно и сделала глубокий книксен.
— А-а, соседушка… — Мягкие губы презрительно дернулись и приоткрыли коричневые зубы. — Однокашничек.
— Вы с ним учились? — спросила Уля благоговейно.
— Вот уж, слава богу, не довелось. Его прежде меня из гимназии выставили.
— За что?
— За неспособность к наукам, надо полагать. А чего с малокровного дворянского сынка взять?
— Вы-то кто тогда? — побелела от обиды Уля.
— Я — сын лавочника и радостный пан.
Пелагея Ивановна разделывала подстреленную птицу, бросая потроха собакам, и казалось, что-то насмешливое было в движении ее бесстрастных, больших, никогда не замиравших в работе рук. Тихо стрекотали кузнечики, мужчины пили водку, но немного — Улин папа пить не любил, а мнительный Павел Матвеевич любил очень, но еще больше боялся спиться подобно своему отцу-алкоголику, и, сидя в глубине террасы, Уля слушала, как Легкобытов рассказывает историю своей первой любви.
В пустыне чахлой и скупой
- Евгений Чижов. Перевод с подстрочника. — М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2013. — 508 с.
Артюр Рембо, когда-то страстно желавший стать поэтом-пророком, писал: «Я вернусь с железными мускулами, с темною кожей и яростными глазами: глядя на эту маску, меня сочтут за представителя сильной расы. У меня будет золото: я стану праздным и грубым. <…> Я буду замешан в политические аферы. Буду спасен». С тех пор прошло много времени. Но неожиданно его обещание приобрело несколько иной смысл и сбылось: он вернулся. Правда, он изменил имя и внешность, но внутренне остался верен себе. Помог ему в этом наш современник, писатель Евгений Чижов.
«Перевод с подстрочника», по признанию самого автора, — это попытка осуществить идеи французского символиста: наделить поэзию безграничной властью и силой. Евгений Чижов создает экзотическую восточную страну Коштырбастан, правителем которой является Народный Вожатый, гениальный поэт Гулимов. Многие уверены, в Коштырбастане «совершается духовная революция планетарного масштаба», потому что «власть силы и денег уступила место власти духа и вдохновения». Говорят даже, что на заседаниях министров стихи президента-поэта «превращаются в указы и распоряжения, по которым живет вся страна». Мечта Сократа о том, чтобы государством правили философы, сбылась.
Если бы читатель смотрел на выдуманную страну глазами среднестатистического коштыра, то он увидел бы совершенно другой Коштырбастан. Наверное, многое здесь показалось бы ему привычным и совсем не удивительным, вопросы, столь остро стоящие в романе, отпали бы сами собой. А как иначе, если Коштырбастан — это мир людей, завороженных, одурманенных поэзией? В своем романе Евгений Чижов возвращается к ее истокам. Изначально поэзия служила своеобразным заклятием, заговором, способным повлиять на окружающее. Неслучайно у Народного Вожатого, «главного шамана», вместо лица видна одна лишь маска (уж не та ли, о которой писал Рембо?), живущая «отдельной жуткой жизнью». Коштыры необыкновенно близки к тем древним людям, которые верили в магическую силу поэзии, объединяющей всех со всеми: «Коштыры вставали целыми рядами, клали руки друг другу на плечи и раскачивались в такт <….>. Сознание все равно затопляла радость, сама собой возникавшая в едином теле публики, как пот при движении, и захлестывавшая граница между людьми».
Однако этот роман — нечто большее, чем просто рассказ о гипнозе и введении в транс целой страны. Автор «Перевода с подстрочника» — мастер увлекательнейшего сюжета, незаметно поглощающего читателя, который будто попадает в воронку на поверхности воды, не замечая ее. Как и предыдущие книги Евгения Чижова, «Перевод с подстрочника» — это неразгаданная тайна, почти детектив. Коштырбастан — еще один миф, созданный писателем. И в него Евгений Чижов помещает «непосвященного» героя, для которого страна Народного Вожатого — неизвестная, полная загадок земля.
Поэт и переводчик Олег Печигин по приглашению своего друга детства отправляется в Коштырбастан для того, чтобы перевести на русский язык стихи Гулимова. Именно точка зрения Печигина организует повествование, заставляя читателя одновременно восхищаться окружающей действительностью и ужасаться ей. Понять жизнь коштыров и их любовь к своему правителю — задача главного героя. Но сделать это не так просто. Ведь уже в поезде, следующем из Москвы, Печигин сталкивается с другим, «неофициальным» мнением о президенте-поэте. Оказывается, сказка хранит в себе много секретов. Гулимов, по словам оппозиционеров, деспот и диктатор, захвативший власть силой. Его стихи мог написать совершенно другой человек. Не исключено даже, что в президента вселился злой дух — джин. Чтобы понять, на чьей стороне правда, Печигину приходится совершить собственное путешествие по Коштырбастану.
Весь путь героя — это стремление приблизиться к неуловимому образу Народного Вожатого. Автор держит читателя в постоянном напряжении: кто же этот Гулимов на самом деле? Однозначного ответа нет, ведь «для каждого он становится тем, что тот хочет в нем увидеть». В результате желание понять гениального поэта оборачивается для Печигина попыткой самопознания. «Каждый человек хочет вырваться из доставшегося ему времени и места. И из себя, к ним привязанного. Стать другим. Для каждого есть свой Коштырбастан». «Перевод с подстрочника» — это роман о Коштырбастане героя, который находится в постоянном поиске.
Попадая в сказочную страну, Печигин вынужден пройти множество испытаний. Ему удается выполнить одно из главных заданий — завершить перевод стихов Гулимова. По всем законам сказочного жанра герой должен спастись, обрести «недостачу» (в данном случае — найти себя, ведь любовь он уже нашел) и вернуться домой. Однако здесь сказка оборачивается самой страшной реальностью, потому что выбраться из нее невозможно.
«Перевод с подстрочника», вопреки всем ожиданиям, — это рассказ об узнаваемом мире и чуждом ему герое. Стоит проделать вместе с ним путь от начала до конца хотя бы для того, чтобы научиться видеть за окружающими нас миражами настоящую реальность.
Поворот не туда
- Евгений Гришковец. Боль. — М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2014. — 304 с.
Каждый житель бескрайней России, имеющий доступ к средствам массовой информации, знает, кто такой Евгений Гришковец. Служивый, вынужденный отведать собачатину, трогательно переминающийся на сцене с ноги на ногу актер и режиссер моноспектаклей, а также автор довольно незамысловатой прозы, впрочем, имеющей свою аудиторию. Гришковец — это еще и практически полмиллиона запросов в «Гугле», угадывающем фамилию писателя с четырех букв.
Однако в последнее время армия «гришкофилов» заметно приуныла. Выходящая том за томом «Жжизнь» (особенно после заявления Гришковца в первой книге, составленной на основе заметок из «Живого Журнала», о том, что продолжения не последует) заставляла подозревать автора в простом желании заработать. Аннотация к «Боли» на этом фоне выглядела обнадеживающе:
…Я ощущаю сборник «Боль» как цельное произведение, как художественный цикл, в котором боль, как состояние душевное, так и физическое, становится некой призмой, через которую человек смотрит на мир, на жизнь особым образом… Книга «Боль» —<…> шаг в том художественном направлении, в которое я еще не шагал.
Повесть «Непойманный» не содержит размышлений о метафизической боли, но захватывает почти детективным сюжетом. Конфликт, сплетенный из недомолвок и непонимания между героями, требует разрешения и не позволяет отложить книгу надолго. История крутится вокруг денег: они нужны Вадиму, для того чтобы его бизнес остался на плаву. Кстати, финансовые проблемы и карьерная гонка — фон не только трех произведений сборника, но и недавно вышедшей пьесы «Уик энд (Конец недели)», которую Гришковец написал в соавторстве с Анной Матисон.
Это не первая совместная работа Гришковца с молодым сценаристом и режиссером, предыдущие (например фильм «Сатисфакция») имели хоть и противоречивый, но успех. На этот раз Гришковец и Матисон решили издать пьесу как можно раньше, поскольку надежды на ее скорейшую постановку в Москве и Санкт-Петербурге у них не было, хотя она, по словам писателя, «сегодняшняя и остро сегодняшняя». Пьеса не вошла в новый сборник сочинений (тематика и проблематика идентичны) лишь по жанровым и коммерческим соображениям.
Надежд на глубокие размышления вслед за первой повестью (несмотря на ее трагическую развязку) не оправдали и рассказы. Однако читая «Ангину» и «Палец» можно, наконец, облегченно выдохнуть: вот она, старая добрая «бытопись» Гришковца времен «Рубашки» и «Асфальта» с зарисовками о неудобствах, причиненных долгими полетами в самолете, о пледе и камине как синонимах уюта, о «живом и податливом сопротивлении» пойманной рыбы…
Стремление прочесть книгу как можно быстрее зависело не только от желания раскрыть все интриги сюжета. Стиль «школьного пересказа», приправленный каламбурами и повторами, что, по идее автора, должно придавать еще большей реалистичности тексту, вызывает даже не боль, а зуд, от которого хочется скорее избавиться. Листаешь быстрее, чтобы не видеть на одном развороте двенадцатикратных повторов имени главного героя (кажется, Гришковец не признает существования местоимений). Чтобы не читать на трех страницах подряд:
«… И ради чего все-таки выпил коньяку, хотя категорически этого делать не хотел…»
«Вадим ехал к Боре на такси и заклинал себя ни в коем случае не пить…»
«Из-за всего этого Вадим взял да и выпил коньяку. Хотя делать этого, когда ехал к Боре, не собирался».
То ли имеющий слабую память, то ли неуверенный в умственных способностях читателей, Гришковец использует многочисленные повторы, которые уже и на художественный прием списывать нет желания. Другими словами, хоть и шагнул, судя по аннотации, автор в некоем художественном направлении, но, кажется, оступился или повернул не в ту сторону.
Алексей Слаповский. Хроника № 13
- Алексей Слаповский. Хроника № 13. — М.: Время, 2011. — 640 с.
От автора
Меня всегда смущало, что тексты, написанные в одно время, разбросаны по разным журналам, книгам, сценам и экранам. Получается, как в притче про слона: кто-то щупает хобот, кто-то ухо, кто-то и вовсе хвост, а слон-то один.
На самом деле, что бы я ни писал — романы, рассказы, сценарии и даже стихи (прозаические), это все хроника моей и общей жизни. В ней интересна цельность — хотя бы в пределах года или двух-трех.
И вот родилась идея этой книги, прожитой недавно, только что — надеюсь, не так, как прожиты были книги предыдущие. Здесь все, вернее — самое важное из всего. По крайней мере, мне оно кажется важным.СЦЕНАРИЙ 1
Молодая, красивая, дорогая женщина Нина едет на молодом, красивом, дорогом автомобиле. Район панельных пятиэтажек. Во дворе играют таджикские дети, гоняя мяч на чахлой траве. Трое бомжей в песочнице пьют пиво из большой пластиковой бутыли, чистоплотно обтирая горлышко ладонью перед тем, как передать другому.Нина выходит из машины, идет к подъезду.
— Не заблудилась, красавица? — кричит один из бомжей.
Кричит не охально, не грубо, даже с некоторой куртуазностью. Тяжкая жизнь научила его, что с людьми лучше общаться вежливо — это безопасней и выгодней.
Нина, оглянувшись и улыбнувшись, набирает номер квартиры.
Слышится женский голос:
— Да?
— Это я, — отвечает Нина.
Зуммер.
Нина открывает дверь, входит в подъезд.
2
В лифте лежит мужчина. Лицом вниз. Куртка-ветровка защитного цвета, мятые штаны, всклокоченные волосы. Двери лифта закрываются, натыкаются на ноги мужчины, открываются, опять закрываются, опять открываются, опять закрываются, опять открываются. Посмотрев на это, Нина решает подняться пешком. Но, сделав несколько шагов, останавливается. Оборачивается, смотрит. Двери закрываются и открываются. Мужчина недвижим. Только ноги при сдавливании их створками безжизненно шевелятся, как у большой тряпичной куклы. Нина подходит к лифту.— Эй, вы живой? — спрашивает она. — Эй!
Она наклоняется, протягивает руку. Но брезгливо морщится, не решаясь коснуться лежащего. Трогает его ногу носком туфли.
— Вы живой там?
Мужчина мычит.
— Вам плохо? Может, «скорую» вызвать? Слышите меня?
Мужчина шевелится. Поднимает голову. Медленно, очень медленно садится. Ноги остаются в двери, их по-преж нему сдавливает створками. Он смотрит на это и пытается понять, что происходит.
— Вы уж или туда, или сюда, — говорит Нина.
— Помогите, — слабым голосом говорит мужчина. — Мне на пятый.
Он подтягивает одну ногу, потом вторую. Нина входит в лифт.
3
На пятом этаже мужчина выходит из лифта, держась за стенки. Кренится и, чтобы не упасть, цепляется за плечо Нины.— Э, э, без рук! — противится она, но мужчина держится крепко.
Ей приходится довести его до квартиры. Он шарит по карманам куртки.
— Где-то был… Будьте так любезны… — бормочет он.
— Что?
— Где-то был… Ключ… Давайте поищем…
Нина, отвернув лицо, лезет рукой в его карман, как в банку с пауками. Достает кучу всякой дряни: конфеты, бумажки, денежная мелочь. Находит в этом мусоре ключ, отпирает дверь. Мужчина валится в прихожую, тащит при этом за собой Нину. Еле удержавшись от падения, она отрывает от себя его руку.
— Все, приехали! Есть кто дома, встречайте!
Но никто не встречает, кроме маленького кудлатого песика. Тот радостно виляет хвостом, лижет лицо упавшего хозяина. Мужчина собирается с силами, садится на пол, опираясь спиной о стену. Шарит в карманах куртки, достает плоскую бутылку, отвинчивает пробку, прикладывается к ней. Делает несколько глотков. Ему становится лучше.
— Ай-м сори, — говорит он. — Простите, что затруднил вас. Вы ангел. Но добро не бывает безнаказанным, вы это знаете?
— И чем хотите меня наказать?
— Выгуляйте моего Мотю. Хотя бы минут пять-десять. Он не может ничего делать дома. Так воспитан. У него мочевой пузырь лопнет, но он будет терпеть. Пожалейте собаку.
В это время звонит телефон Нины, она берет трубку.
— Да, я здесь. Скоро буду. Ничего такого, потом расскажу.
А мужчина уже снял со стены поводок с ошейником. Песик Мотя аж закрутился от восторга, подставил шею, мужчина надел ошейник, протянул поводок Нине.
— Плиз! Будьте ангелом до конца!
4
Нина гуляет во дворе с Мотей. Держит поводок на отлете. Мотя остановился у заборчика, поднял ногу.5
А в окно смотрит подруга Нины — Катя. Женщина около тридцати лет с невзрачным лицом, горло закутано, она покашливает. Очень удивлена, видя Нину. Говорит с ней по телефону.— Это ты с кем?
— С Мотей, — отвечает Нина.
6
Нина у Кати. Достает из сумочки лекарства.— Вот. Лечись.
— Спасибо. Я бы и сама… Ты ангел.
— Второй раз сегодня слышу. Никакой я не ангел, просто все равно собиралась к тебе приехать. У тебя Моэм был на английском. «Луна и грош». Захотелось перечитать. В интернете есть, но хочу бумажную книжку.
— Понимаю. Ты про собачку объяснишь? У моего соседа сверху такая.
— Она и есть. Попросил выгулять.
— С какой стати?
— Упал в лифте, обессилел. Алкоголик, наверно.
— Нет, он из приличных. Инженер или даже какой-то ученый. Интеллигент, короче. Жена с ним развелась, отобрала все имущество и квартиру, а эта — его мамы покойной. Как вселился, так и пьет с горя. Допьется — сдохнет. Будет труп лежать и вонять. А потом еще протечет на меня, бррр! — Катя передергивает плечами.
— А ты бы спасла человека по-соседски.
— Ага. Кто меня бы спас!
— Кать, ты все равно одна, вдруг он хороший человек?
— Хороших жены не бросают! Я по-твоему такая конченная, что, кроме алкоголика, никого уже не найду? Да мне по интернету такие красавцы пишут! Просто я очень разборчивая, у меня завышенные требования, а эти козлы сами не знают, чего хотят! Отсюда и проблемы.
И Катя вздыхает, жалея себя и тех козлов, которые не знают, чего хотят.
7
Нина садится в машину, кладет на сиденье том Моэма.Машина отъезжает.
8
Загородный красивый дом. Летний вечер.В стильной столовой ужинают Нина, ее муж Иннокентий, мужчина лет сорока пяти, их сын Платон шести лет и горничная, она же воспитательница Платона, Ирина Павловна, женщина лет сорока со строгим учительским лицом.
На стол подает добродушная и пожилая тетя Таня. Иннокентий ест и работает: тычет в планшет, что-то просматривает.
Рассеянно спрашивает Нину:
— Куда-то ездила сегодня?
— Да так…
Пауза. Молча едят.
— А у тебя как день? — спрашивает Нина.
— Нормально.
9
Поздний вечер, спальня. Иннокентий в постели продолжает работать.Нина в ванной. Процедуры, очистка лица, кремы, мази.
Выходит. Иннокентий спит, уронив планшет на живот.
Нина берет планшет, кладет на столик. Гасит свет.
10
Утро.Семья завтракает.
Завтрак похож на ужин — так же сидят, едят, молчат.
Иннокентий готов к отъезду на работу.
Нина целует его в щеку.
— Когда вернешься?
— Как обычно.
Нина смотрит в окно, как отъезжает муж. Звонок телефона. Она берет трубку. Слушает. Говорит:
— При чем тут я? Ну и что? Бред какой-то! Ладно, приеду.
11
Нина приехала к мужчине с собачкой. (Его зовут Юлий. Юлий Петрович. Около сорока лет.)Нину встречает Катя. Жалуется.
— Послушала тебя, зашла проведать, а он чудит! Узнал, что я твоя подруга, кричит: зови этого ангела, иначе я буду пить до смерти! Вчера ему плохо было, я «скорую» вызвала, так он врачей прогнал!
Увидев Нину, Юлий, лежавший на диване, вскакивает, кричит радостно лающему Моте:
— Молчать!
И торжественно обращается к Нине.
— Нина! Вы мне нужны. Не пугайтесь, я ничего от вас не потребую. С собачкой Катя сходила, спасибо. Нина! Мне надо бросить пить. Я устал. Но мне нужна причина. Для чего бросить? Для себя? Я для себя ничего не хочу. А вот для вас — хочу. И могу. Скажите: Юлий! Меня так зовут. Юлий Петрович, если угодно. Скажите: Юлий, брось пить! И я брошу.
Катя пожимает плечами: ну и просьба!
А Нина, усмехнувшись, говорит:
— Юлий, брось пить!
— Все. Бросил! — говорит Юлий.
Нина видит начатую бутылку возле дивана.
Юлий, проследив направление взгляда, неверными шагами идет к бутылке, поднимает ее двумя пальцами, как нашкодившую кошку, отправляется на кухню и там выливает в раковину. Но после этого хватается за сердце и прислоняется к стене.
12
Через некоторое время Нина и Катя сидят в кухне и пьют чай. На столе разномастная посуда. Все вообще старое, из чьей-то прожитой жизни.Входит врач «скорой помощи».
— Теперь он будет спать. Потом дадите ему вот это.
Он кладет на стол таблетки и листок бумаги.
— Тут все расписано.
И уходит.
— А кто давать будет? — спрашивает Катя.
— Ты, кто же еще.
— Нет уж! Мне себя в порядок надо привести, я в салон записалась на три часа, а вечером у меня свидание!
— Очередной миллионер в пересчете на белорусские деньги?
— Не миллионер, но очень приличный мужчина. В общем, ради тебя он бросил пить, вот и отвечай теперь за него!
13
Медленно тянется день. Юлий спит на диване. Нина включает без звука телевизор. Потом осматривает содержимое старого книжного шкафа. Достает книгу, садится в кресло, читает. Какие-то звуки. Юлия тошнит.Нина одной рукой прижимает к лицу бумажный носовой платок, другой возит тряпкой у дивана. Макает тряпку в тазик с водой. И опять трет. Потом долго моет в ванной руки.
Вечер. Юлий просыпается.
Нина подает ему таблетки и стакан воды. Юлий глотает таблетки и жадно пьет воду.
И опять засыпает.
Нина сидит, читает. Смотрит на часы. Прислушивается к дыханию Юлия.
Берет ручку, листок бумаги, пишет номер телефона. Подумав, добавляет: «Нина». Оставляет листок на стуле возле дивана вместе с таблетками и стаканом воды.
Уходит.
14
Она возвращается домой, когда Иннокентий, Платон и Ирина Павловна заканчивают ужин. Платон вскакивает, бежит к матери.— Мама! Ты где была?
— В самом деле? — интересуется Иннокентий без особого интереса.
— Да так. У подруги.
— У Веры?
— У Кати.
— Как она?
— Нормально. Умерла.
— Бывает.
Нина поднимается по лестнице на второй этаж. До Иннокентия доходит.
— Ты серьезно?
— Да нет. Шутки у меня такие.
Нина в ванной обнюхивает себя, стаскивает одежду, бросает в ящик для стирки.
Стоит под душем.
Камера показывает ее лицо, потом шею, плечи, потом…
15
Пачка листков звучно падает на стол.Бросивший их генеральный продюсер компании по производству сериалов «Радуга-продакшн» Альберт Григорьевич Савчук, мужчина пятидесяти пяти лет, повадками демократ, на деле диктатор, выносит приговор:
— Гениально, Саша, как всегда. Но не то.
В кабинете Савчука за длинным переговорным столом, стоящим отдельно от начальственного, — тридцатилетний сценарист Саша Огольцов с печальным лицом, креативный продюсер Виктор Мелецкий, тридцать пять лет, энергичен, пылок, горяч, и редактор Лика Влажнова, высокая девушка с высокой грудью и высоким мнением о себе, лет двадцати семи.
Обсуждаются первые эпизоды сценария, который пишет Огольцов.
— Что не то, Альберт Григорьевич? — терпеливо спрашивает Саша.
— Во-первых, героиня. Молодая, красивая, замужем за богатым мужем. Это понятно. Остальное непонятно. Какие отношения с мужем?
— Плохие.
— Где это видно? Покажи! — Савчук ворошит листки, вглядываясь и ища следы плохих отношений героини с мужем.
— Ну, они молчат, не разговаривают.
— И что?
— Вот именно! — подхватывает Мелецкий. — Молчать и думать, Саша, они могут в литературе, а в кино должно быть все видно! И причины, Саша, мотивация! Почему плохие отношения? Кто он? Кто она? Что случилось? К примеру, — не дожидаясь ответа, начинает вдохновенно креативничать Мелецкий, — он приезжает всегда поздно, весь в работе, занят, делает деньги, секса нет, внимания к жене нет! Это зритель сразу поймет, причем любой!
— Мне кажется, если отчуждение, это и молчанием можно показать.
— Саша! — соболезнующее, будто у постели тяжело недужного и при этом не желающего выздоравливать, восклицает Мелецкий. — То, что я предлагаю, еще раз скажу, поймет каждый, а если они будут просто молчать, догадаются далеко не все! Нам нужна крепкая защита от дурака — в каждом кадре, в каждом слове!
— Значит ли это, — чуть напрягшимся голосом спрашивает Саша, — что я должен писать для дураков?
— Уел, Александр! — иронично хвалит Огольцова Савчук. — Убил насмерть, сразил наповал! Не для дураков, а для нормальных простых зрителей! Которые хотят отдохнуть, получить удовольствие, увидеть жизненную, драматическую и поучительную историю! Виктор прав — изобразительность во всем! Плохие отношения — показывать. Почему плохие — показывать.
— Вот именно! — вторит Мелецкий. — С лифтом у тебя великолепно ведь получилось! Жаль — не пойдет.
— Почему?
— Саша, восемьдесят процентов нашей аудитории — женщины. Если герой алкоголик, валяющийся в лифте, — всё, они смотреть не будут, переключатся.
— Может, просто больной? — не перечит Саша, предлагая сразу другой вариант.
— Тоже плохо, — возражает Савчук. — На больных смотреть — какое удовольствие? Ты же все придумал, зачем ты идешь против своего замысла? Что у нас в заявке? — обращается Савчук к Лике.
Лика открывает в своем ноутбуке файл, читает:
— Герой — честный, порядочный человек, которому изменила жена. Он оставил ей все, живет в квартире покойной матери, тоскует. Героиня помогает ему обрести себя. Полюбив ее, он возрождается, становится активным. Он в каком-то смысле творение ее рук. Но предательница-подруга, придя на готовенькое, делает так, чтобы он остался у нее на ночь. Героиня страшно разочарована. Но потом недоразумение разъясняется, он раскаивается в своей ошибке, возвращает любовь Нины…
— Вот! Все ведь ясно! — разводит руками Савчук. —
А в реализации — туман. Кто он такой? Инженер не годится, кому сейчас нужны инженеры? Научный деятель — тоже не то. Какой-нибудь бизнес. Но благородный.
— Пусть книжки издает, — предлагает Мелецкий. — Директор небольшого, но крепкого издательства. И интеллигентно, и все-таки бизнес.
— Можно, — кивает Савчук. — А главное — чтобы было видно, за что она его полюбила! Ты сам-то понимаешь, что у тебя вышло? В лифте валяется, пьет, собачку нет сил выгулять — красавец!
— И она должна быть резче, — вставляет Мелецкий. — Гламурная высокомерная стерва, презирающая бедных. Чтобы к финалу было яснее, что она преобразилась. А то сразу ангел, преображаться нечему! Она, видите ли, бомжам улыбается! Не верю, Саша!
— Она человеческая женщина, — Саша пытается защитить героиню, к тому же, ему нравится эта деталь — добрая улыбка незнакомым людям. Сразу виден характер, они же сами всегда твердят, что характер должен быть предъявлен в первых кадрах!
— Неправдоподобно! — категоричен Савчук. — И зачем таджикские дети? Зачем лишняя социалка?
— И бомжи с пивом ни к чему, — добавляет Мелецкий. — Сплошной негатив.
— Точно. Наши зрители, может, сами живут в хрущевках, но видеть хотят благоустроенные дворы и нормальных людей в нормальных квартирах. Подруга Катя, кстати, должна быть тоже симпатичная, зрители некрасивых не любят, просто одинокая, — разъясняет Савчук.
— Разговоров про труп не надо! — добавляет Мелецкий.
С пушкинской легкостью
- Татьяна Толстая. Легкие миры. — М: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 474 с.
Для тех, кто знает Татьяну Толстую в основном как одну из ведущих недавно закрытой программы «Школа злословия», выход ее новой книги станет просто приятным событием. Те же, кто догадывается, что Татьяна Никитична — лучший из живущих сейчас писателей, должны приготовиться к моральному удару с последующим катарсисом.
Предыдущая книга Толстой, роман «Кысь», вышла в 2000 году. Были, конечно, сборники и переиздания, но «Легкие миры», по сути, первая новая книга Толстой за четырнадцать лет (роман, кстати, писался столько же). Сборник, центром которого стала повесть «Легкие миры», в остальном состоит из нескольких циклов эссе, дневниковых, мемуарных и кулинарных этюдов. То, что многие из них подаются как новые произведения, но таковыми не всегда оказываются, вызывает сначала удивление, переходящее в обиду, а затем и вовсе повергает в уныние. (Представляю, как веселилась бы Татьяна Никитична, прочитай она вдруг эту рецензию.) Она сама, анонсируя книжку на своей странице в ФБ, честно предупредила: «Кому-то из вас какие-то тексты будут знакомы, так как я публиковала их в журналах — включая ЖЖ — и тут, в Фейсбучике».
В свой единственный компактный роман «Кысь» Толстая уместила все главное и лучшее из новой русской литературы начиная с Пушкина и заканчивая собой. Теперь главный герой этого романа Бенедикт начинает возвращать заложенную в него энергию и оживает буквально — в читателях Толстой. Листая «Легкие миры», оказываешься именно Бенедиктом в кульминационной части романа, когда герой с ужасом понимает, что прочитал все из библиотеки-спецхрана Кудеяр Кудеярыча: «Боясь догадаться, дрожащими руками перебирал Бенедикт сокровища. <…> А теперь что читать? А завтра? А через год? Во рту пересохло, ноги ослабли». И именно в тот момент, когда понимаешь, что читал по отдельности почти все тексты из «Легких миров», они складываются в единое, строго составленное целое: сборник перестает быть суммой частей и приобретает новое качество.
В одном из последних выпусков «Школы злословия» с поэтом Михаилом Кукиным Татьяна Никитична вскользь, как она часто говорит самые важные вещи, сформулировала, что у нее есть три «агрегатных» состояния: фикшн — барочные рассказы, которыми она прославилась; нон-фикшн — убийственно остроумная публицистика и эссе; и третье «состояние», в котором она написала роман. Кажется, что «Легкие миры» — переход в новое, четвертое состояние.
Заглавный цикл посвящен семейным и детским воспоминаниям. В цикле «С народом» и «Может быть, свет» — точные и глубокие диагнозы русскому национальному характеру, времени и пространству. Они очень смешны, потому что поводом для них становятся милые мелочи: миниатюрный керамический моржовый орган или цитата из монгольско-русского словаря:
Нашли выражение: „тэнгэр хуйсрах“ — „погода испортилась“. И сразу же всей семьей <…> полюбили монгольский народ, может быть, понятия не имевший, кого он там прискакал завоевывать, но зато нашедший правильные, сильные, печальные слова о серой нашей, неизбывной питерской погодке; нет — о погодке российской, от моря до моря, когда в окне — пьяный мужичок идет и падает, и снова, шатаясь, идет, и в магазинах один маргарин, и все евреи уехали и разлюбили нас, и Леонид Ильич все бормочет и живет, живет и бормочет, а мы никогда, никогда, никогда не увидим Неаполя, чтобы спокойно умереть, и Кобзон поет, и дождь идет, и рано темнеет. Тэнгэр хуйсрах. <…>
Погода портится. Портится погода.Эта гиньольная сторона дара писательницы прекрасно уравновешивается Толстой более привычной: лирической, строгой, возвышенной, какой она показывает себя в повести «Легкие миры», соединяя там сюжетную напряженность романа и летучую легкость ранних рассказов. Цитировать ее нет ни места, ни смысла; можно лишь сказать, что это повесть о купленном в Штатах доме, где Толстая жила в 1990-е, о стране, которая так и не стала для нее родной. Почему — объясняет расположенная выше цитата.
Тревога и жадность, которая охватывает читателя Татьяны Толстой, когда он думает о том, что она не написала десять полновесных романов, конечно же — чисто бенедиктовская черта.«Если нашелся бы сумасшедший читатель, который ходил бы за мной и читал все, что я написала, то он опознал бы все тексты», — говорит Толстая в программе Александра Гениса «Американский час» на радио «Свобода», представляя свою новую книгу. Автор этой рецензии вообще подозрительно часто ощущает себя Бенедиктом из «Кыси»: «Читать страсть люблю. Вообще искусство. Музыку обожаю», — точнее ведь не расскажешь. Что читать завтра, через год, если не раскроются литературные мистификации, на возможное участие в которых Толстая намекала в «Школе злословия» с Григорием Чхартишвили? Если останется неизвестной судьба романа «Архангел», начало которого публиковалось летом 2010 года в «Снобе»?!
Татьяна Толстая не проведет нас в библиотеку-спецхран, набитую собственными пухлыми томами. Вместо этого она написала одну, «главную книгу, где сказано, как жить». «Легкие миры» — это сборник пустячков, проза классика, который сам свой высший суд.
Марат Басыров. Печатная машина
- Марат Басыров. Печатная машина. — СПб.: Издательская группа «Лениздат», «Команда А», 2014. — 224 с.
0. КОСМОС
Мне было семь, и я сидел в пустом контейнере. Сидел, скорчившись в позе эмбриона на дне большого мусорного бака, и не знал, что мне делать дальше. За пределами моего убежища стояла ночь, наполненная запахами травы и земли, а моя голова кружилась от запаха гнили. Казалось, прошла вечность после того, как я оказался здесь, и эта вечность была пуста, как огромный помойный бак.
Зачем я залез сюда? Сейчас у меня не было ответа. Мне очень нужно было провести эту ночь в этом месте, и, забираясь в контейнер, я знал, что поступаю правильно. Теперь же меня одолевали сомнения.
Чтобы прогнать их прочь, я начал петь. Тихо-тихо напевать под нос песни, которые я слышал по радио и которые мы разучивали в школе. Песни о войне, о первопроходцах, о целинных землях, о героических подвигах и о тех, кого ждут дома матери и жены. Мне было немного зябко, я слегка продрог в этом вонючем баке. Хотелось домой, но я не решался открыть крышку и вылезти наружу.
Должно быть, мои родители уже несколько раз прочесали наш большой двор, заглянули во все потаенные его уголки. Обзвонили всех моих друзей, спрашивая, не у них ли я остался, не знают ли они, куда я пошел или куда собирался пойти, не говорил ли что-нибудь на этот счет. Я знал, что меня ждет утром, если я вернусь домой, и старался не думать об этом, но передо мной все время стояло заплаканное материнское лицо и растерянное лицо отца. Его кадык.
Вид кадыка был особенно неприятен. Острый, на красной шее, выпирающий из-под кожи каким-то злым несоответствием с окружающим. Упрямым уродством, которое нельзя полюбить. Вдруг я подумал, что мне совсем не обязательно возвращаться домой, что я могу пойти куда угодно, куда глаза глядят, если, конечно, не улечу…
Внезапно послышался какой-то шум. За бортом по ту сторону кто-то был.
Я прислушался к звукам. Они могли принадлежать Матросу — дворовому псу. Скорее всего, это он крутился возле контейнера, задевая его хвостом. Затем в металлический бок ударила струя. Как будто заправили ракету, готовя ее к запуску.
Этот бак мы с Арончиком присмотрели пару дней назад. Бак стоял отдельно от других и был пуст — в него почему-то никто не вываливал мусор.
— Это наша ракета, — сказал Арончик, заглядывая внутрь.
Я с сомнением оглядел емкость.
— Она полетит, — сказал он. — Не веришь?
Верил ли я? Мы договорились испытать ракету в одну из ближайших ночей. В те времена вся страна жила космическими полетами. Над нами постоянно кто-то кружил.
И вот я сидел здесь, а его не было.
Неужели Арончик испугался? Неужели обманул, и я, как последний дурак, повелся на обман? Неужели этот бак никогда не станет ракетой, хоть просиди в нем сто лет?
Эти мысли рождали тоску. Ничего не происходило. Я чего-то ждал: если не самого полета, то хотя бы намека, что он возможен. Но мир был тих, а его тишина — обычна.
Время шло очень медленно. Казалось, я сижу здесь очень давно, и эту давность ничем нельзя было измерить. Только, наверно, песнями и стихами. И я пел, глотая слезы.
Я не заметил момента, когда начал плакать. Слезы потекли сами собой, и в этом не было стыда. Они немного мешали петь, но скоро я к ним привык. Это можно было сравнить с экстазом, если бы не страх, мешавший мне раствориться в происходящем.
В те часы я остро ощутил свое одиночество. Впервые в жизни я испробовал это на вкус. Все чувства, испытанные до этого момента, были стерты космической пустотой. Не зная ничего о ней, я почувствовал ее у себя внутри. Не я взлетел в космос, а космос провалился в меня. Ноги давно затекли и онемели, болела спина, в голове было пусто. Мне хотелось разрушить это наваждение, но я не мог даже пошевелиться. Наконец, терпеть стало невыносимо. Я попробовал встать и откинуть крышку, но она почему-то не поддавалась. Бак не хотел открываться. Космос поглотил меня и не собирался выпускать. Я стал его пленником…
1. КАЛЕЙДОСКОП
Когда мне становилось тоскливо до тошноты, я доставал свой маленький калейдоскоп, который мне подарила тетя Люда — родная сестра отца. В такие минуты обычная пустая забава превращалась в магическое действо, с помощью которого можно было разглядеть картинки своего будущего. Я вертел картонный цилиндр, всматриваясь в разноцветный узор надвигающейся жизни, сакральная геометрия которой завораживала меня настолько, что все остальное тут же оказывалось далеко за моей спиной — со всей его кажущейся никчемностью и пустотой. При большом желании я даже мог разглядеть лица тех, кто будет сопровождать меня по жизни через много лет, или же распознать череду событий, складывающихся благодаря движениям моих пальцев. Поднося окуляр к глазу, я превращался в астронома, открывающего новую, неизвестную звезду и тут же дающего ей свое имя.
Именно в калейдоскоп я разглядел свою соседку по этажу Жанку, с которой к тому же сидел за одной партой. Разглядел и две цифры — тридцать семь, но что они означали, оставалось пока загадкой.
Нам было по восемь лет, мы вместе ходили в школу, сидели на уроках, а потом возвращались домой, по пути заходя в хлебный магазин. Она научила меня воровать ванильные булочки. Мы кружили по небольшому залу между лотков с различными хлебобулочными изделиями, выбирая те, которые нам улыбались. Жанка открыла мне нехитрый секрет: если булочка подмигивала тебе, значит, ее легко можно было прятать в карман, и ни одна толстая тетка с белым колпаком на голове, пристально наблюдающая за тобой, ни за что не заметит твоей уловки. Ворованные булки сладко пахли чем-то запретным и были вкуснее обычных, в чьем вкусе отсутствовал тонкий и острый аромат грехопадения.
Родители Жанки дружили с моими, по-соседски заходя по нескольку раз на дню. Особенно старалась ее мать, тетя Лика, маленькая заполошная женщина с извечным платком на голове, повязанным на пиратский манер. Что-то хищное было и в ее набегах — каждый раз она уносила с собой то соль, то спички, то какую-нибудь кастрюлю или моток ниток, словом, все, чего не могла найти в своем собственном доме. Каждый раз тетя Лика брала нашу квартиру на абордаж и стремительно скрывалась за дверью, унося очередную добычу. Моя мать лишь качала головой, поражаясь эдакой хитрованской простоте, которая была бы милой, если бы не повторялась так часто.
Отец моей подружки, дядя Дамир, в этом смысле был полной противоположностью своей жены, и все то, что пропадало после ее визитов, с таким же постоянством возвращалось с его нечастыми появлениями. Обычно он сидел с отцом на кухне, они курили у раскрытого окна и тихо разговаривали. Дядя Дамир был похож на закопченного морскими ветрами боцмана — темное морщинистое лицо, борода и коренастая фигура, — и вместе с тем проявляющиеся внезапно во время разговора персидские мотивы в его чертах — особенный прищур, изгиб губ, хитрый блеск черных глаз — делали его похожим и на визиря из восточных сказок. Как и мой отец, он был страстным рыболовом. Его руки и плечи были украшены причудливыми татуировками разных рыб. Глядя на него, можно было представить, что перед тобой сидит живой аквариум и стоит только прикоснуться к его теплому стеклу, как рыбки тотчас врассыпную прыснут от твоего пальца. Полубоцман, полувизирь — он был невероятно притягателен. Рядом с ним мой отец выглядел довольно простодушно, хотя и пытался синим якорем на тыльной стороне ладони не отставать от соседа. Но тщетно. В моих глазах он проигрывал дяде Дамиру вчистую.
Именно он однажды сказал мне такое, что поразило меня и что я запомнил на всю жизнь. На мое замечание, что скоро наступит осень и придется вновь идти в школу, он сказал:
— Это для тебя. А вот я в этой осени живу постоянно.
Потом он объяснил. До двадцати лет он жил исключительно весной, не зная других времен года — на дворе всегда таял снег, звенела капель, текли ручьи и лопались на деревьях почки, выпуская первую листву. Затем настал черед лета, и оно продолжалось также двадцать лет. Целых двадцать лет изумительного лета! Когда дядя Дамир, привыкший к яркому солнцу и теплым лунным ночам, уже думал, что так будет всегда, вдруг пришла осень. Подул холодный ветер, и зарядили дожди. Начала жухнуть трава и опадать листья. Настала осень, брат!
Я сидел напротив него, и мне казалось, что он смеется надо мной.
— А сейчас? — спросил я, глядя на синее небо в окне за его спиной. — Разве сейчас идет дождь?
Дядя Дамир усмехнулся.
— Осенью не обязательно идут дожди. И в ней тоже бывают прекрасные дни, такие же, как сейчас.
— Что же будет потом? — снова спросил я, уже догадываясь, каким будет ответ.
— Потом придет зима, — развел он руками, и рыбки метнулись кто куда, но одна, самая маленькая, сорвалась и упала на пол.
Я бросился на колени и, собрав ладони лодочкой, подхватил с пола ее прохладное невесомое тельце.
— Что упало — то пропало, — улыбнулся сосед, когда я протянул ему сомкнутые ладони. — Дарю.Жанка тоже была выдумщицей. Она рассказывала мне жуткие истории: например, про отрубленные пальцы космонавта. Он потерял их в тот самый момент, когда, захлопывая за собой ракетный люк, не успел убрать руку. Потом эти пальцы долго ползали по земле, дожидаясь возвращения хозяина, а когда он, наконец, вернулся, они нашли его и задушили.
— Как пальцы могли его задушить? — пытаясь казаться насмешливым, спросил я.
— Очень просто, — ответила Жанка. — Два пальца залезли в нос, пока остальные два зажимали рот.
И она вскинула руку к моему лицу, растопырив свои тонкие длинные пальцы. Что-то в этом было пугающее, честное слово, в этой вечно липкой от конфет ладони. Я гадал, зачем пальцам понадобилось убивать космонавта? Может быть, потому, что он не взял их в космос, и их душила обида? Но ведь это случилось не по его вине, и ему наверняка тоже не хватало их там, на космической орбите. Потом вдруг во мне что-то щелкнуло, и я сопоставил два этих похожих друг на друга слова. Я поменял их местами, и вот что получилось: их душила орбита, его орбита, и поэтому они испытывали космическую обиду. Додумавшись до такого, я побежал к Жанке поделиться догадкой. Вышел на площадку и позвонил в дверь.
— Ты дурак, — сказала она после моих взволнованных слов.
«Дать ей, что ли, в лоб?» — подумал я, сжимая кулаки.
Но Жанка была сметлива. Она тут же прочла в моих глазах угрозу.
— Хочешь, что-то тебе покажу? — заискивающим голосом, сбивая мой настрой, проговорила она. И, не дожидаясь ответа, пошла в комнату, бросив на ходу: — Пойдем.
Я поплелся за ней, чувствуя, как растворяется моя злость. В квартире, кроме нас, никого не было. Она села на диван, заправленный черным бархатным покрывалом, и подняла на меня глаза.
— Так ты хочешь? — повторила она.
— Что? — не понял я.
Ее губы дрогнули в еле заметной улыбке, она взялась за подол платья и медленно потянула его наверх. Показались трусики. Минуту я смотрел на их белизну, потом, сглотнув, сказал:
— Покажи дальше.
Жанкины пальцы были похожи на пальцы космонавта. Я внутренне дрожал, как перед стартом.
— А ты? — выдохнула она. — Ты тоже мне покажешь?
— Да, — выговорил я, ничего не соображая.
У меня перехватило дыхание. — Все, что хочешь.
Она помедлила, потом просунула палец за край белой ткани и оттянула ее.
Я смотрел, завороженный увиденным. Потом сделал шаг.
— Не трогай, — предупредила Жанка.
Я присел на корточки. Передо мной во всей беспощадности раскрылась нежно розовеющая плоть.
— Что? — мне почудилось, она говорит. Я приблизился почти вплотную.
— Ты дурак, — повторила она.
Илья Беркович. Радуга
- Илья Беркович. Радуга. — СПб.: Издательская группа «Лениздат», «Команда А», 2014. — 224 с.
Поэт и прозаик Илья Беркович родился в Ленинграде, но уже почти четверть века живет в маленьком городке в Иудее, где зарабатывает на жизнь переплетным делом. Герой его повести «Радуга» — писатель, разбирающий записки друга юности, из которых рождаются пронзительные и до мелочей точные воспоминания о ленинградской окраине 1970-х.
4
На последней странице журнала чернел электронный адрес редакции, но для Козлевича это было, как сложить из листов с рассказами кораблики и пустить их в водосточную трубу.
С текстами в прозрачном пакете Козлевич пришел на презентацию нового номера.
Люди в фойе кучковались, обнимались, высокий седокудрый дядя и женщина с бледным, как бы слепым лицом метнули друг в друга взгляды и демонстративно не поздоровались.
— Лио-ора пришла, краси-ивая, — протянули сбоку.
Все знали друг друга. Только Козлевич был чужой. Он робко занял место на камчатке, у стены. Ряды затылков перед ним были седыми и лысыми. Козлевич не подумал, как выглядит сзади его собственная голова. Вообще, народ в зале собрался видный, пузатый, по-южному уверенный, с крупны ми носами, выпуклыми глаз ми и рельефными морщинами, не было ни липковолосых литбомжей в старых джинсах, ни худых поэтических старушонок.
Вечер напоминал поездку в машине времени, двигавшейся возвратно-поступательно: туда-сюда. Физик и лирик в песне энергичного барда из Беер-Шевы спорили, что же все-таки первично — материя или дух? Дама в синем костюме, с манерами администратора среднего звена, читала рассказ, который мог бы написать вылеченный антидепрессантами Достоевский.
Пели песни военных лет (дело было под 9 мая). Затем на сцену поднялся рослый человек, представился Андреем и начал рассказывать о недавно умершем своем и журнала друге Володе. Под потолком, над сценой, висели деревянные рамы. Будь Андрей сантиметров на десять выше, его лицо угодило бы в раму. А так рама или, скорее, рамка заслоняла ему подбородок, нос и глаза. Виден был только полуседой чуб. Впрочем, долго говорить Андрею не дали. Маленький человек скоро начал сгонять оратора — и согнал. Тут Козлевич понял, что это и есть хозяин журнала. Он, а не сидевшая рядом с ним за столом ведущих дама в синем костюме. Козлевич обрадовался: дама внушала ему робость, а маленький человек нравился: он откровенно не заботился о своем виде и достоинстве, а только о том, как идет вечер. И вечер, благодаря его рулю, шел живо и гладко.
Козлевич, однако, искал глазами протекции. Протекция нашлась: у каждого русского еврея есть хоть один знакомый литератор. Козлевич был представлен редактору, который, не чинясь, взял у него па кет.
На следующую презентацию Козлевич пришел уже автором, одним из тридцати «напечатанных». На сцену он не полез, но приободрился и за месяц написал еще несколько коротких рассказов. Рассказы были о виденном и слышанном. О новой округе.
О взрыве, от которого проснулся. Подумал: что за диверсии ночью? Спать! И заснул. На завтра (был выходной) пошел в торговый центр за хлебом. Вместо единственного в квартале бара чернел горелый пролом. Бар был вырван, как гнилой зуб. Портреты Элвиса Пресли, полка с пыльной бутылкой виски, стойка, за которой причесанный под Элвиса пожилой, до смерти недовольный судьбой юноша в джинсах и кожанке, вздыхая, продавал сосиски и сигареты, исчезли. Над развалинами курились разговоры зевак:
— Люди не хотят работать. Хотят легких денег.
— Взрывал бы сам свой бар. А то нанял солдата, солдат обжегся и все в больнице рассказал.
— Вместо страховки будет сидеть.
Зеваки не понимали, что хозяину бара было все равно. Взорвалась калифорнийская меч та. Мечта, привезенная им из Калифорнии, вздулась и лопнула в нашем квартале, где ни кто не подъезжает к бару в открытой красной машине и не заказывает двойной Jack Daniels, а все ходят мимо в шлепанцах, лузгают семечки и покупают билеты «Спортлото».
Неделю душа мечты висела на месте взорванного бара, а потом расчищенный, оштукатуренный пролом заняла фалафельная лавка, сидя перед которой хозяин и бывший таксист Жожо громко играли в кости.
Следующий рассказ звался «Победа управдома»:
«— Я знаю только, что у царицы проблемы, — сказала женщина в кофте с широкими рукавами и капюшоном, по самые очки закутанная в белую шаль.
— При чем тут царица? — спросил жилец Натанзон, фотографируя лужу на газоне вокруг прорванной трубы.
— Вы, русские, не понимаете ничего!
— Объясни, может, поймем.
— Если к вечеру в доме не будет воды, царица Суббота окажется в изгнании!
— Заплати, — подступил к женщине управдом, — и к Субботе трубу починят!
— Как я заплачу? Я должна спросить раз решения у мужа, а муж в Шомроне!
— Так позвони мужу!
— Как я позвоню? Я могу только отвечать на звонки. Я заблокировала свой мобильник, чтобы не злословить. Злословие убивает душу.
— Вот тебе мой мобильник!
— Я знаю только одно. Без воды в Субботу я не буду в своем доме царицей. Я буду грязной служанкой…»
Потом Козлевич описал ночное купе поезда Лондон — Париж и гневную речь Вовы Раскина над телом в жопу пьяного брата Сени:
«— Ты что мне, дворняга, наделал? Я поехал-то в эту Европу, что бы доказать: если за границу съезжу, значит, я уже не совок. А теперь ты, дворняга, при всех нажрался, выходит, опять мы с тобой совки?!»
Козлевич направлял лупу на участочки, сегменты действительности. Освещенные его вниманием места и предметы увеличивались, нагревались, казалось — сейчас над ними начнет куриться дымок. После описания места темнели, гасли, становились неинтересными и навсегда сливались с окружающим. Козлевич изучил свой квартал до бродячих собак и кошек, он знал, у кого из соседей что болит, и вплетал в свои описания обрывки их разговоров, а все-таки чувствовал, что знает недостаточно, извне. Недаром он назвал свой цикл «Вижу из окна». Козлевич стал задумываться: «А что я, собственно, знаю изнутри?»
И, сняв ботинки, он вошел сначала по щиколотку, потом по колено, потом по пояс в реку прежней жизни, которая течет в голове каждого эмигранта. Река эта протекает через Уткину заводь, откуда сотрудники уезжали в колхоз, через институтскую курилку, она течет мимо деревянных грибов детского сада. Все слои прежней жизни в ней смешиваются, но дома остаются прежними, и люди не стареют. И, ныряя в прошлое, шаря руками по его дну, Козлевич заметил, что вода стала мутной, как разбавленный арак. Он не видел, не помнил подробностей. Их придется придумывать, долепливать. Но если готовых, цельных слоев воспоминаний нет, если тяжелая работа неизбежна, надо выбрать для реставрации главное время, главный слой. Козлевич выбрал раннюю юность. Выбрал, чтобы понять.
И еще: Козлевич подсознательно надеялся, что если он опишет, то есть осветит и согреет, родной ленинградский микрорайон, то потом тот остынет, померкнет и оставит, наконец, Козлевича в покое. И Козлевич сможет сосредоточиться на иерусалимском районе, в котором живет сейчас, и перестанет, огибая деревья прошлого, натыкаться на фонарные столбы настоящего.
5
Козлевич полез под диван, где в кожаном черном бауле лежали тетради и папки. Просмотрел со стыдом бесполезные для начатого дела юношеские стихи. Почитал свои фальшивые от неловкости дневниковые записи, которые торчали, как чучела, не способные даже коснуться растопыренными подобиями рук пронзительного воздуха юности. Развязав серые, вялые, как макароны, шнурки, открыл папку из дрянного картона. В папке лежали примерно пятьдесят исписанных чужим почерком листов. Листы эти не были ни подсунуты Козлевичу под дверь, ни выброшены на берег моря в литровой, запечатанной сургучом бутылке, их не прислали в конверте без обратного адреса. Козлевич получил рукопись при совершенно обычных обстоятельствах. Эти записки девятнадцать лет назад в пьяном виде передал Козлевичу друг его юности Вова Ложкин. Никто никогда не относился всерьез к каракулям желтолицего, к двадцати годам спившегося Вовы, который не знал запятых и часто употреблял слово «если б». И Козлевич вроде не относился. Но он девятнадцать лет хранил папку, привез ее в Израиль и сейчас закрыл усталые от чтения слепой рукописи глаза и увидел мерцающий, пунктирный очерк будущей повести.
Ложкин писал эссе, реже — сюжетные отрывки о юной жизни. Надо было построить из них связную вещь. Козлевич, по образованию проектировщик мостов и тоннелей, не испугался. Какие-то куски он соединил аккуратным мостиком, где-то прорыл тоннель.
Многого не хватало. Строилось гораздо сложнее, чем соединялось: Ложкин был мыслитель, Козлевич — всего лишь стилист, а писать приходилось под Ложкина. Ложкин был (якобы) человек из народа.Козлевич, интеллигент и еврей, считал его настоящим, а себя — нет. Видя, что стилизация выходит грубо, Козлевич начал заменять тексты Ложкина своими. Его постройки стали теснить ложкинские, и в готовом виде повесть походила на лондонскую улицу, куда туристов водят смотреть XVI век, хотя домов XVI века осталось пять, и их узкие породистые фасады стиснуты широкими и безликими домами девятнадцатого, как парусники льдами.
Доведя текст до неплохой однородности, Козлевич стал думать, куда бы его пристроить. Ему показалось, что написанное о России лучше в России и печатать.
Обитель особого назначения
- Захар Прилепин. Обитель. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 746 с.
«Непрерывный и исключительный труд при наилучших условиях жизни», по известным словам Льва Толстого, позволил ему воссоздать целую эпоху и передать опыт тысяч людей, которых он никогда не знал. У Захара Прилепина в деревне под Нижним Новгородом, похоже, намечается что-то вроде Ясной Поляны. Представьте, что скрестили рецензента приличного книжного сайта и желтушного корреспондента известного телеканала: примостился гомункул на веточке напротив дома, навел на автора зум: как он там живет-поживает? Что кушает, чем запивает, да много ли душ? Потом в телевизоре, конечно, шок и сенсация.
Нет, серьезно. Похоже, что прозаик Прилепин вступил в славную пору человеческого и творческого расцвета и написал действительно Большой Текст, каких не было… не будем говорить сколько времени, чтобы не обидеть коллег Прилепина. Не хочется и никому говорить приятное: роман «Обитель» тяжелый, страшный и плотный почти до окаменелости, его надо не читать, а пережевывать могучими, привычными к сырому мясу неандертальскими жвалами. У нас они с божьей помощью давно атрофировались на легкоусвояемых, не содержащих почти ничего десертах — текстах многих современных авторов.
События в романе Захара Прилепина «Обитель» происходят в первом советском концентрационном лагере на Соловецких островах. На основе богатого, долго и тщательно изучаемого автором историко-документального материала выстроен сюжет, в основе которого любовная линия заключенного Артема Горяинова и чекистки Галины Кучеренко. Композиция закольцована: начинается и заканчивается роман сценой сбора ягод в лесу привилегированной освобожденной от общих работ «ягодной» бригадой.
Сам автор называет изображенный им Соловецкий лагерь особого назначения «последним аккордом Серебряного века». На фоне величественной природы на берегу Белого моря на соседних нарах обитают озверевшие от водки и кокаина чекисты, и блатные, на протяжении семисот страниц пытающиеся убить главного героя за то, что не поделился материной посылкой, и «фитили», собирающие помои у кухни, и «леопарды» — опустившиеся воры, по мужской надобности использующие кота (надо засунуть его головой вниз в сапог). И поэты, ученые, просто мальчики из интеллигентных петербургских семей, говорящие на нескольких европейских языках.
А разве у Евгении Гинзбург не то же?.. Не так же ли белы ночи на Колыме, как на Соловках, не столь же величественен пейзаж штрафной эльгенской командировки? Разве описанные ею зеки не помнят наизусть тысячи стихов, знают несколько языков и остаются людьми после всего, что с ними сделали?
Все так же. Аккорд этот звенит весь ХХ век как звук лопнувшего дрына — палки, которую взводный сломал о заключенного, выгоняя того на работу.
Мог ли Прилепин писать о лагерной жизни, не проверив ее тяготы опытным путем? Как Толстой описывал умирание Николая Левина, сам не будучи при смерти? Вот про замедление времени вокруг шипящей гранаты — сколько угодно; и Прилепин, как известно, воевал и в разных интервью любит говорить, что бегать с автоматом совсем не так страшно, как думают не воевавшие мужчины. В этом нет ни капли рисовки, и я уверен, что лично ему, человеку Захару Прилепину, было далеко не так страшно, как получилось потом у писателя в «Патологиях».Рассказывать, понятное дело, можно обо всем, но есть темы, которые в случае неудачи автора могут сжечь талант. Известны слова Маяковского, что Блок «надорвался», работая над поэмой «12». И Горький, с которым раньше любили сравнивать Прилепина, не после книжки ли о Соловках окончательно умер как художник?
Автор «Обители» нацелился взять серьезный вес да еще и поставил рядом с собой своего читателя: смотри, не удастся — задавит обоих. Но Прилепин взял этот вес и написал большой исторический роман, который и станет явлением современной литературы, и с полным правом продолжит традицию «лагерной» русской прозы ХХ века.
«Обитель» тяжело читать еще потому, что постоянно пытаешься сравнить воссозданное автором состояние лагерников с тем, что описывали перенесшие это на себе. Дело вовсе не в «традиции», о традиции при желании можно забыть, а вот внутренность твоя, единственная и родная, постоянно с тобой. Центром и смыслом существования становится еда. Когда перечитываешь «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, начинаешь есть гораздо больше, чем обычно, запасаешься и жиреешь впрок, чтоб не дай бог. Причем не хватаешь и не глотаешь, а медленно и с чувством, как полагается, рассасываешь, растворяешь в себе каждую мясную жилку, хлебную крошку, разбухшую черную родинку-чаинку.
То же и с «Обителью»: я дочитывал роман в прекрасный субботний солнечный день, в живописном уголке Кусковского парка в Москве, на берегу пруда, на фоне шереметьевского усадебного барокко… Над водой легко летали чайки, и я удивлялся: почему это соловецкие лагерники в романе так рады уничтожению каждой из этих отвратительных тварей… Вполне милые птицы… И на очередной сцене с растворением еды в человеке и человека в еде я вдруг почувствовал, что больше не могу. Я поверил. Это очень страшно — остаться без еды еще хоть на полчаса.
Я быстро пошел домой, жрать — минуту назад здоровый, сытый и спокойный человек.
У Чехова, говорите, в русской литературе интереснее всех про еду? У Шаламова, на мой вкус, лучше.
Читая «Обитель», я сначала заносил в отдельный файлик все замеченные мной фирменные прилепинские «фишки», рифмовки, любовные сувениры из стреляных гильз, но быстро убедился, что это дело бесполезное. Текст очень «плотный», и на страницу повествования приходится один-два сильных образа.
В монастырском дворе при лагере живут олень Мишка и собака Блэк, которых постоянно чем-нибудь угощают. Но у героя нет ничего с собой, и он просто чешет собаку за ухом. «Олень Мишка выжидательно стоял рядом: тут только чешут или могут угостить сахарком?»
(Бык в «Анне Карениной», который «хотел встать, но раздумал и только пыхнул два раза, когда проходили мимо».)«Из двух полубогов можно сделать одного бога. Ленин и Троцкий — раз, и готово».
«Диковато было подмигивать одноглазому».
С ужасающей напряженностью, на которую не решился бы, пожалуй, и Михаил Елизаров, написана сцена молитвенного исповедального делирия в церкви на Секирной горе — карцере для смертников, ждущих расстрела. Его возвещает звон колокольчика в руке чекиста, даром что над головой колокол настоящий, который больше ни по ком не звонит:
Пьянство непотребное. Здесь. Курение дыма. Здесь. Чревобесие. Здесь. Грабеж и воровство. Здесь. Хищение и казнокрадство. Здесь. Мздоимство и плутовство. Здесь.
Всякий стремился быть громче и слышнее другого, кто-то разодрал в кровь лоб и щеки, кто-то бился головой об пол, выбивая прочь свою несусветную подлость и ненасытный свербящий звон. Кто-то полз на животе к священникам, втирая себя в пыль и прах.
Небрежение Божьими дарами: жизнью, плотью, разумом, совестью. Так, и снова так, и опять так, и еще раз так — икал Артем, сдерживая смех.Полезли невесть откуда всякие гады: жабы и слизняки, скорпии и глисты, хамелеоны и ящерицы, пауки и сороконожки… и даже гады были кривы и уродливы: попадались лягушки на одной ноге, прыгающие косо и падающие об живот, глисты с неморгающим птичьим глазком на хвосте, сороконожки, одной половиной ползущие вперёд, а другой назад, ящерки с мокрой мишурой выпущенных кишок, и на каждой кишке, вцепившись всеми лапками, обильно сидели гнус и гнида…
Я нарочно не касаюсь героев. Их десятки, они расставлены в пространстве романа с непреклонной шахматной гармонией: каждая судьба четко прочерчена, все друг с другом пересекаются, никто не будет забыт, все, конечно, умрут. Взять хоть блатных Ксиву и Шафербекова, которые хотят убить главного героя Артема Горяинова. Он сам, подхваченный небывалым везением, вознесенный в ранг начальственного слуги и оказавшийся почти в безопасности, периодически забывает о блатарях. Я о них не всегда помнил, да и автор, наверное, пару раз запамятовал, но Ксива и Шафербеков ни разу не забыли свои роли. Они ведь живые, тоже какие-никакие, а люди.
Отдельного разговора требуют фигуры Федора Эйхманиса, практического основоположника системы советских концлагерей, и других известных чекистов, выведенных в романе. Священники и монахи, ставшие зеками в собственном монастыре — в какой рецензии коснешься этой темы?
Наконец, в «Обители» много комического, и эротического, и авантюрно-приключенческого. После цитаты с гнусом и гнидой, после чекистского колокольчика трудно поверить, что в романе Прилепина борются со штормом двое влюбленных на катере, чекистка раздевает и трогает зека, «словно обыскивая его», а в лисьем питомнике за новорожденными лисятами следят с помощью системы прослушек, установленных в каждой норе. «Лисофон» называется.
Захару Прилепину выпал большой фарт — написать такой роман. Теперь можно и перекантоваться.
Владимир Шаров. Возвращение в Египет
- Владимир Шаров. Возвращение в Египет. — М.: АСТ, 2013. — 768 с.
Папка № 7
<…>
Дядя Юрий — Коле
В общем, мы решили, что человек лучше Всевышнего, добрее Его, милосерднее, оттого теперь мы Его и не слышим.Коля — дяде Ференцу
После ареста отца я, по совету мамы, от него отказался. Далось мне это легко. В своем заявлении в деканат я написал, что с раннего детства воспринимал его лишь как тяжкую недобрую силу. Любила меня и воспитывала одна только мать, потому и ношу ее фамилию, то есть Гоголь. Доводы произвели впечатление, меня даже оставили в комсомоле. Позже, уже из лагеря, отец всё это одобрил.Коля — дяде Артемию
В академии, хоть и не без проблем, я удержался, а через год добровольно перевелся на заочное отделение и пошел работать в газету «Сельская новь». Там каким-то начальником был давешний мамин приятель, и меня взяли в качестве разъездного внештатного корреспондента, проще говоря, собирать для других материал. За два года я частью исколесил, а куда чаще (такие были дороги) исходил пять областей — три нечерноземных: Ивановскую, Ярославскую и Калининскую, и две черноземные: Тамбовскую и Воронежскую.Как ты знаешь, когда началась коллективизация, двадцать пять тысяч кадровых рабочих из Питера, Москвы, других крупных промышленных центров были посланы в деревню руководить сельским хозяйством. С юности приученные к коллективному труду, они должны были привить его навыки крестьянину, по самой своей сути, что бы кто ни пел про общину, единоличнику. Оттого все наши колхозные неурядицы.
Газета собиралась дать целую галерею портретов этих новых председателей колхозов и совхозов, хороших и плохих, умных и глупых, оказавшихся на своем месте и попавших в деревню как кур в ощип, так там и не прижившихся. Надо сказать, что со сбором материала я справился, более того, за год под моей собственной подписью вышло восемнадцать очерков, но не в этом суть, — у меня скопилась целая уйма других, совершенно не подходящих для газеты историй. Разнообразие типов советских помещиков, их колорит, их разброс от неслыханной жадности, въедливости до ни с чем не сравнимого самодурства — редкое.
Гоголь за всё это поклонился бы в ноги. Как ты помнишь, он вечно жаловался, что ему не хватает живой фактуры, а без нее писать нечего и пытаться. Чуть не в каждом втором письме просил своих корреспондентов присылать всё, что они увидят или услышат занимательного; у меня после двухгодичной командировки подобной нужды не будет уже до конца жизни. Всем этим я завален, а яркость такая, что бьет в глаза. И вот я с согласия того же маминого знакомого решил написать заявку на книгу о нынешней сельской жизни, но не документальную, не публицистическую, а, так сказать, стопроцентную беллетристику. В общем, нечто вроде «Мертвых душ», но уже на нашем, советском материале. С советскими типами дворян и с советскими типами крестьян, впрочем, тут, по моим наблюдениям, нового заметно меньше.
Заявку эту я сделал, написал, по-моему, всё чин чином, вдобавок завлекающе и, перед тем как отослать в издательство (предполагался «Советский писатель»), попросил прочитать маму. Думал, можно сказать, был уверен, что ей понравится. Но она самым решительным образом забраковала. Заявила мне, что Ад Николаем Васильевичем уже написан, все теперь знают, что он есть, и этого Ада вполне достаточно, детали, антураж не имеют значения. Больше того, я не понимаю, во что лезу, и могу всех сильно подставить. Так что, если семья мне хоть сколько-нибудь дорога, о заявке лучше забыть.
Тата — Артемию
Он убеждал меня, что во время скачек движения лошадей истеричны и неряшливы, у них нет возможности следить за своими ногами, и они разбрасываются ими, как человек словами, когда он в бешенстве, оттого захлебываясь и задыхаясь, кричит. Что на финише во все стороны летят комья земли — лошадь роет и роет ее копытами, хочет уйти как можно глубже, а земля выталкивает ее обратно. Другое дело рысистые бега. В них ничуть не меньше напряжения, в ход тоже идут последние силы, и всё-таки строчка, которой лошадь прошивает дорожку, такая ровная, аккуратная, что кажется, и она, и наездник безразличны к земле. В этом упорядоченном беге есть много спокойствия и достоинства, сдержанности и умения себя вести. Лошадиная стихия, из-за безумия напора которой упряжка ни с того ни с сего может понести, вдребезги разбить экипаж, здесь окончательно введена в рамки и канонизирована.Коля — дяде Ференцу
После ареста отца мама поначалу думала, что коммунисты сами дали ей мужа и сами его забрали. Теперь они в расчете: ее и власть больше ничего не связывает.Коля — дяде Петру
Мама просила, да и я до этого думал о простом продлении «Мертвых душ». Сделал даже либретто второй и третьей частей поэмы. Но получилось неудачно. Я взял неверный тон, хотел стилизовать то время и ту речь, но знал ее плохо, оттого фальшивил. Впрочем, разумное зерно, может, и было. Посылаю вам пару первых страниц. На язык внимания не обращайте, он как был убог, так им и остался, но что касается сути, буду рад вашему мнению.28 ноября 1844 года в Сенат поступило прошение от лишенного всех прав состояния бывшего дворянина Чичикова П.И. о повторном рассмотрении его дела. В нем утверждалось, что Павел Иванович Чичиков, скупая так называемые «мертвые души», преследовал исключительно благонамеренные цели, в суде же сам себя оклеветал. Объясняя мотивы, Чичиков писал, что его дед, тоже служивший по таможенному ведомству, происходил из семьи закоренелых староверов. Когда при императрице Елизавете Петровне в России на отступников усилились гонения и священникам было велено доносить, кто ходит к исповеди, а кто уклоняется, дед был еще ребенком, но, как и прочие еретики, стал наговаривать на себя такое, что ни один священник не решался дать ему отпущение грехов и привести к причастию. На этот же путь встал и он, надворный советник Павел Иванович Чичиков, когда увидел, что, что бы он ни предпринимал, все его поступки истолковываются превратно.
С детства он, Чичиков, отличаясь мечтательностью, много думал о возможности построения Рая здесь, на земле, и о том, где, в какой части России его следует основать. Не имея точного плана, он сначала выбрал путь ревнителей благочестия, из числа которых был, как известно, и преосвященный патриарх Никон. Ревнители склонялись к тому, что сама церковная литургия уже есть подобие Рая на земле, и, если песнопения в храмах будут длиться, не прерываясь, круглые сутки, а прихожане, причащаясь по много раз на дню, вкушать лишь плоть и кровь Христовы — то есть просфоры и вино — грех с подобным не совладает: с позором бежав, поле боя — человеческие души — на веки вечные оставит Спасителю.
Впрочем, повзрослев, он пришел к выводу, что этот путь — епархия Синода; ему, мирянину, сюда мешаться не след. Но Синод, хотя он трижды туда обращался, ни о чем подобном думать не желал, и церковные службы шли тем же порядком, что и раньше, даже на святую Пасху — до Рая на земле они много недотягивали. Тогда, заново всё обдумав, он, Чичиков, пришел к убеждению, что, коли мы святой народ и земля наша тоже святая, Рай определенно должен быть заложен в пределах империи — или в Новороссии, или в Крыму, или в степных заволжских просторах от Саратова и дальше на юг и восток, где еще со времен бабки нынешнего царя императрицы Екатерины Великой стали селиться немцы-колонисты. Резон простой: земли эти пустые, малонаселенные, и грех тут еще не успел укорениться.
Ни о каком своем прибытке он не заботился, но, разобрав вопрос, решил, что коли мы воскресаем во плоти, то, скорее всего, Рай переполнен, оттого и людей, сколько бы они при жизни ни мучились, берут туда с большим разбором. И вот он, Чичиков, собрался взять на вывод кусок нашей Святой земли и, прирезав его к Раю, испоместить на ней души усопших крестьян, которые пока еще числились за своими помещиками, но уже были обращены к одному Господу. Думал на радость Всевышнему щедро наделить их тучным плодородным черноземом, которого в центральных губерниях России так не хватает. Это предприятие казалось ему во всех смыслах богоугодным.
Еще он предполагал, что, подняв целину и ее засеяв, крестьяне в первый же год начнут обживаться на новом месте, рыть колодцы, ставить избы и храмы, а то, что в итоге построится, и будет градом Божьим на земле.
Коля — дяде Юрию
Мать и после лагеря при всяком удобном случае подводит меня к мысли, что, если бы Николай Васильевич в свое время завершил поэму, нам бы не пришлось пройти через то, что и врагу не пожелаешь. Так что мне всегда было трудно это не перенять, не думать, забыть, что кто-то, скорее всего, именно я, обязан закончить прерванную на середине работу.Коля — дяде Петру
Считая нашим семейным предназначением дописать «Мертвые души», мама с детства говорила мне: «Ад» написан, «Чистилище» было написано, и от него осталось несколько глав, в их числе и финальные, хотя трудно сказать, тот ли это вариант, что устраивал самого Николая Васильевича. Но жизнь, объясняла мне она, сделается невозможна, если мы смиримся, что в ней есть лишь ад, в лучшем случае чистилище, что мы так греховны, что даже самые праведные из нас не могут рассчитывать на иное.Мать тогда верила, что шанс на выздоровление не потерян (первая часть «Мертвых душ» — это болезнь), но путь предстоит долгий, тяжелый, и без проводника его не пройти. Больше того, до конца его не пройти и с провожатым, если впереди на самой линии горизонта мы однажды не увидим парящий над землей, снаружи и изнутри весь переполненный светом Небесный Иерусалим. Без этого и не только слабые скоро изверятся, решат, что идут неправильно. То есть каждый должен знать, что град, в котором все мы совокупно и без изъятия обретем спасение, есть, что не зря милость Господня не оставляла нас даже в самых страшных обстоятельствах. Гоголь, несомненно, был прав, когда этот наш путь к Богу начинал с ада, считал, что никакой другой дорогой, кроме как через ад, к Раю не выйти. В первой части «Мертвых душ» мы спускаемся в самое жерло дьявольской воронки, на нас столько грехов, они так тяжелы, что тянут и тянут вниз. Зло засасывает нас, и, сколько ни рыскай руками, уцепиться не за что.
Болезнь чересчур запущена, и поначалу никакие лекарства не помогают. Прежде чем думать о спасении, мы должны ужаснуться тому, что творили, навечно и невзирая ни на какие оправдания, откреститься от любого зла. Оно больше не должно быть для нас искушением, соблазном, только чем-то грязным и постыдным, мерзким и подлым. Мы должны перестать понимать, чем же оно могло нас завлечь. Но на это нечего рассчитывать раньше, нежели дойдем до самого дна, до дантовского Коцита, пока не узнаем всего греха и весь его и навсегда проклянем.
И вот, когда мы с ног до головы будем в струпьях и коросте — отметинах, зарубках наших грехов, когда сделаемся так себе отвратительны, что даже не сможем представить Бога, который нас пожалеет, оттого и не станем никому молиться, — мы повернем и без надежды, без упований начнем выбираться из этой бездны. Пойдем к добру, может быть, лишь потому, что спускаться дальше некуда, а остановиться еще страшнее, чем идти. Кто-то, кому мы безразличны, глядя со стороны, наверняка скажет, что наша обратная дорога — точный слепок пути, которым незадолго перед тем мы спускались в ад. Но это чушь; не может быть ничего более непохожего, чем путь во зло и путь к добру. На этой дороге нам всё будет внове, и, чтобы опять не сбиться, не уйти в сторону, ее следует со всей тщательностью описать, расчертить и разметить, поставить верстовые столбы, указать колодцы и места для стоянок, приметные скалы и деревья.
В общем, вторая и третья части «Мертвых душ» нужны, чтобы не плутать. Но, конечно, главным ориентиром, главным свидетельством, что наконец мы идем правильно, будет вера. Шаг за шагом в нас начнет воскресать спасительная надежда на Всевышнего, о Котором прежде мы и думать забыли. Именно вера будет вести нас, поддерживать, когда пойдем над пропастью и тропинка под нами то и дело будет осыпаться, ноги скользить вниз. Но Господь уже не оставит, пусть и по краю карниза, но мы пройдем, не свалимся снова во зло.
Мать говорила, что, почему так получилось, что мы, Гоголи, всё это должны написать, никто сказать не может, даже не знает — не самозванчество ли это. Может быть, мы и ни на что не способны, и Гоголь тоже ничего не мог: как и мы, был обыкновенным самозванцем. Но это не наша печаль. Господь сам укажет — мы или не мы. В любом случае, работа должна быть исполнена на совесть, путь проложен по всем правилам топографической науки, так, чтобы Новый Израиль стал, будто избранный народ на Синае. Народ, впереди которого в столбе огня и дыма идет и ведет его сам Господь.
<…>