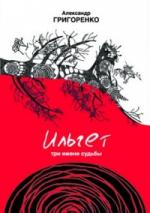- Виктор Ремизов. Воля вольная. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 416 с.
У городского жителя, гулявшего только в прозрачных лесах средней полосы, представление о тайге складывается лишь благодаря бардовским песням. В них романтично настроенные шестидесятники рвались в непроходимые чащи со словами: «А я еду, а я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги».
Песни звучат в голове все время, пока читаешь роман Виктора Ремизова «Воля вольная». Он как раз о северных лесах и людях, непонятно как выживающих там, где уже за забором таится опасность. Романтика Юрия Кукина тут разбивается о мрачный быт местных жителей. Волнующие ароматы хвои и дыма заменяются более реалистичным зловонием. Тайга у Ремизова душно пахнет свежесодранными шкурками соболей, порубленными для наживки рябчиками и соляркой от охотничьих вездеходов.
Промороженные, просоленные морскими ветрами деревенские мужики с задубевшей от непогоды кожей и коричневыми желудями ногтей из поколения в поколение ведут образ жизни, который не терпит сантиментов. Несколько месяцев в году они проводят в тайге, расставляют капканы на пушного зверя и занимаются освежеванием лосиных туш. Икра — местное золото — добывается здесь тоннами. Двадцать процентов с улова отходит местным ментам, остальное отправляется в другие регионы страны и даже в Москву. Браконьерство в этих краях необходимо, чтобы пережить зиму.
Вечная тема противостояния власти и народа в романе выражается в ненависти охотников к ментам. «Для Студента, как и для большинства самостоятельных поселковых мужиков, мент не мог быть нормальным человеком. Мент был противоположностью вольной природы, на которой они жили. Самой воле вообще». Люди в сером мешают спокойно заниматься делом, постоянно требуя денег. Вялотекущий процесс взяточничества прерывается, когда один из охотников, Степан Кобяков (Кобяк), случайно сталкивается с начальником районной милиции Тихим и его замом Гнидюком, таранит их уазик, стреляет под ноги и скрывается в тайге.
Правда остается за Кобяком. Это понимают и местные мужики, и подполковник Тихий. Последний злится на Гнидюка, который первым полез в кобяковский вездеход с обыском, спровоцировавшим разборку. Однако тому надо выслужиться перед начальством и настучать в Москву. Возня за власть вызывает разбирательства на федеральном уровне. На Степана Кобякова начинается охота.
Дальше сюжет готов скатиться в обычный детектив, однако погоня за Кобяком отступает на задний план. Виктор Ремизов, работавший геодезистом в тайге, чувствует лес так же тонко, как и местные, и делает его главным героем повествования. Красота заснеженных деревьев незыблема, несмотря на людские страсти. Человек в тайге остается гостем, который обязан жить по законам природы.
Степан шел и чувствовал, как тепло любви ко всему этому охватывает душу. В лесу он всегда становился мягче: улыбался, с собаками, деревьями и горами молча разговаривал… И никакие менты не встанут у него на дороге. Эти поганцы так же его сейчас интересовали, как позавчерашний ветер.
Почти всем героям Виктор Ремизов дает говорящие имена и фамилии. Подлый до мозга костей майор Гнидюк, уставший от необходимости принимать решения подполковник Тихий, несгибаемый Кобяков (фамилия созвучна с именем половецкого хана Кобяка, мутившего воду в междоусобное время), а также деревенские мужики: свойский Дядь Саша, суетливый Поваренок и другие.
Ситуация, в которой оказался Кобяк, объединяет местных. Руководствуются они не сверхидеей, а, скорее, правилом из песни «Муравейник» Виктора Цоя:
И мы могли бы вести войну
Против тех, кто против нас,
Так как те, кто против тех, кто против нас,
Не справляются с ними без нас.Помогают они с тем же спокойным упорством, с каким распутывают сети или ставят капканы на соболя. В этих краях время течет медленнее, а проблемы вечности превращаются в песчинки.
Брат недавно вернулся с Кольского полуострова. Там тоже тайга. При въезде на его участок помор предупреждает: «В пятистах метрах отсюда живет мишка, но я ему брошу тюленью тушу, и он вас не тронет». Местные жители говорят медленно, тщательно произносят каждое слово: их жизнь расписана на годы вперед — торопиться некуда. По меркам обитателей тайги, мы, городские, движемся со сверхзвуковой скоростью, но вряд ли знаем, куда придем.
Метка: Русская литература
Только детские книги писать
- Виктор Пелевин. Любовь к трем цукербринам. — М.: Эксмо, 2014. — 446 с.
Лучшая аннотация к новой книге Пелевина принадлежит пользователю, ведущему аккаунт петербургского книжного магазина «Порядок слов» в «Фейсбуке»: «В общем — новый роман от автора предыдущих уже в продаже». Я знаю автора этого поста, это хороший человек.
Словосочетание «новый Пелевин» как-то неловко уже произносить: все примерно представляют, что может быть написано в «Любви к трем цукербринам». Виктор Пелевин создал очень мрачную и вполне традиционную для «себя последнего» книжку. Отмеченное многими рецензентами отставание от трендов, мемов и примет современности в «Цукербринах» настолько вопиюще для автора, как бы выпускающего ежедневную газету раз в год, что кажется намеренным, — но тогда непонятно, зачем вообще какая бы то ни было привязка к современности.
Представляется, что по условиям некого кабального и ростовщического договора этот грустный, умный, глубокий и тонкий человек в 2014 году обязательно должен был написать о «Фейсбуке» и Украине, хотя все уже давно успели это сделать. Невольно вспоминается персонаж из «Жизни насекомых», пожалуй, больше других пелевинских живых существ заслуживающий сострадания: жук-скарабей, обреченный вечно катить перед собой свой круглый навозный Йа.
Ясновидец, названный в романе Киклопом («старинное произношение»), удерживает мир в равновесии, подглядывая и подлатывая дыры в будущем, могущие привести к катастрофам гораздо страшнее тех, что происходят сейчас. Птицы, владеющие миром, хотят убить создавшего их бога, Древнего Вепря, «чтобы у них не было больше никакой причины», и в качестве орудий убийства используют людей. Прямо чувствуется, как автор любит приложение Angry Birds, — всю свою нескончаемую фантазию и мощный изобразительный талант он тратит на то, чтобы в механике мобильной игрушки проступили контуры вечного противостояния Творца, Творения и существ, его населяющих.
В глазах Древнего Вепря застыла бесконечная любовь — и бесконечная печаль. Николаю показалось, что тот похож на старого доброго сапожника, наплодившего много неблагодарных детей, которые ежедневно попрекают его свой бедностью и неустройством — а сапожник только втягивает голову в плечи, стирает попадающие в него плевочки и старается работать шибче, зная, что дети никогда не поймут, какой крест несет их отец, ибо они и есть этот крест…
Пробивает на слезу, если вдуматься.
По сюжету сисадмин Кеша, работающий в офисе сайта Contra.ru (невероятно остроумный намек), троллит знакомых в «Фейсбуке» насчет Украины; черная заэкранная сила порно высасывает жизненные силы из мастурбирующих перед компьютерами людей; наконец, виртуальная реальность захватывает нас по полной программе. Если кто вдруг еще не понял (я сам не сразу догадался), «цукербрин» — это Марк Цукерберг плюс Сергей Брин, которые устроили нам в будущем Матрицу под названием «фейстоп» с разными ужасами: человек подвешен в капсуле, а ему через вживленные в мозг электроды показывают то яркую и приятную, то мрачную и опасную жизнь — все как у нас. Нет, мы-то ее сами себе, конечно, устроили.
Ксю Баба там, например, есть. (Расшифровать?..)
Google Dick и Google Pussy — а раньше, в наше время, поисковик такой был.
Антон Носик зачем-то упомянут, и даже имя Пелевин не стал смешно перевирать, как он это делает с именами других отечественных деятелей культуры.
В конце все взрывается.
Прозорливо и увлекательно, сил нет.
Если серьезно, то удержаться от хамоватого тона в отзыве на новую книгу моего самого любимого писателя я не могу из-за горькой обиды. Ведь после надоевшей мертворожденной конспирологии в самом конце книги появляются сорок страничек такой неожиданной, простой и чистой красотищи, что действительно идут мурашки по спине и появляется комок в горле — и мучительно хочется, чтобы все следующие книги Пелевина были такими.
Души умерших после взрыва в офисе «Контры» героев попадают в маленький рай, созданный ангелом Сперо, который при жизни был тихой девушкой, ухаживавшей за редакционным садом-оранжереей. В этот транзитный Эдем души попадают в виде умных зверей, чтобы отправиться дальше в другие, подходящие именно им миры: Утренник и Качели.
Трогательная детсадовская наивность заключительной главки столь оглушительна, что нельзя не поверить — самый желчный и мрачный писатель современности написал ее совершенно всерьез.Потому что такое не всерьез написать нельзя:
В пещере живет уж. Но запертые там овечки думают, что там гадюка. Этот уж то и дело проползает мимо овечек, а их трясет от страха, когда они слышат шуршание в сухой траве… Ужу не хочется никого пугать, ему самому жутко. Он не понимает, в чем дело, и просто мечется по своей пещере от страха. И вместе они создают такой выброс ужаса, что его невозможно не заметить издалека.
Ангела, рассказывающего это, при жизни звали Надеждой. Пелевин все-таки выговорил это слово. Теперь — только детские книги писать.
Ба!
- Саша Филипенко. Бывший сын. — М.: Время, 2014. — 208 с.
Еще недавно, играя с подругой в карточную игру «Или то», я дала однозначный ответ на вопрос, что бы предпочла: «Быть полностью парализованной три года или пролежать в коме десять лет и потом восстановиться?» Основываясь на том, что родственникам будет гораздо легче ухаживать за мной, я представляла, что просто погружусь в умиротворяющий сон. Однако дебютный роман Саши Филипенко «Бывший сын» заставил изменить мнение.
Шестнадцатилетний в меру испорченный, как и все подростки, юноша Франциск Лукич учился по настоянию бабушки в минском музыкальном лицее. Эльвира Александровна строго следила за успехами внука, мечтая, что однажды он станет профессиональным виолончелистом и пригласит ее на концерт. Однако мальчик каждый год в конце весны («— Ковчегу знаний всех не утащить, товарищи! Отстающим — за борт!») находился на грани отчисления. Не дождавшись результатов заседания очередного педагогического совета и понадеявшись на случай, Лукич отправился к подружке Насте, с которой договорился встретиться у Ледового дворца. Спустя несколько часов об отчислении из лицея никто и не вспоминал.
Описанная Филипенко сцена давки в пешеходном переходе станции метро «Немига» очень кинематографична. Количество использованных автором деталей позволяет очутиться на месте событий и беспомощно оглядываться, наблюдая за происходящим и содрогаясь от ужаса.
… Пытаясь отыскать опору, Франциск посмотрел вниз. Мрамор был завален людьми. Циск не понимал, как они оказались под ним. Теперь он видел лишь окровавленную девушку, чья голова подвергалась такому напору, что ее правый глаз увеличился в несколько раз. Франциск испугался, что этот самый глаз вот-вот лопнет и заляпает его, но глаз продолжал жить…
Картинки перед глазами меняются невероятно быстро, как обычно и бывает в жизни. Крики и стоны задавленных людей пробиваются сквозь бумажные страницы и достигают мозга. Прервать чтение хоть на секунду, не узнав, чем закончится трагедия, невозможно. Учащается пульс. Выдох приходится на момент появления карет скорой помощи.
Смириться с тем, что мальчик никогда не вернется к нормальной жизни, отказалась лишь бабушка. Количество предпринятых ею попыток вывести внука из комы (объяснить некоторые из них можно лишь отчаянным положением) смущало всех: мать Циска, не готовую к борьбе; врачей больницы, предлагавших усыпить юношу; друзей, плохо понимающих последствия трагедии, и знакомых, охотно дающих советы. Старушку вскоре списали со счетов вместе с внуком, поняв, что она не перестанет беседовать с Циском, слушать с ним музыку и читать книги.
Бабушка часто гуляла с Франциском по городу. Она рассказывала о новых местах, на которые теперь обращала внимание лишь затем, чтобы позже описать внуку. Эльвира Александровна пыталась узнать все, что хоть как-то могло заинтересовать, удивить, разбудить его. Когда она принесла в палату телевизор, медсестры хором подумали: „Ну вот еще одна устала от своего чада!“
Впереди — ожидание жизненно важных реакций и любовь, которую уносят с собой в могилу.
Занявший в 2014 году первое место в «Русской премии» в номинации «Крупная проза» молодой ведущий телеканала «Дождь» Саша Филипенко, помимо множества комплиментарных, получил еще и десятки удивленных отзывов. Никак в сознании издателей, критиков и искушенных читателей не укладывался образ медийной личности и автора большого романа.
А «Бывшего сына» тем временем можно без оглядки включить в шорт-лист современной русской литературы этого года. Книга не о политике, но об истории Беларуси; не о жалости, но о любви; не о слабости, но о мужестве и вере в чудо. Эффект обманутого ожидания сработает и в этот раз. Все то, что вы предвкушаете, открывая «Бывшего сына», даже сравниться не может с тем, что вы получите, прочитав ее.
Блестящий с точки зрения языка, композиционно выстроенный роман наполнен правдивым лиризмом и тоской. Это гимн всем скорбящим бабушкам, которые, как известно, внуков любят больше, чем детей. Гимн, который хочется петь стоя, положив руку на сердце.
«Когда родился Циск, бабушка решила, что оставшиеся годы посвятит воспитанию внука. Так и случилось».
Закон сохранения горя
- Марина Степнова. Безбожный переулок. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 328 с.
О том, что мы умрем. О том, что мы живем.
О том, как страшно все. И как непоправимо.Г. Адамович
Проза Марины Степновой по праву занимает особое место в современной литературе. Ее романы — лирические переживания, облеченные в прозаическую форму. Грустные истории, говорящие о простых, но очень важных вещах — о том, что каждый человек должен любить и быть любимым.
«Безбожный переулок» — новый роман писательницы, в котором она остается верной себе. Тот, кто полюбил «Женщин Лазаря», будет рад совершить глубокое погружение в подсознание новых героев, присвоить себе их мечты, испытать на себе их боль. Также он еще раз сможет убедиться в том, что творчество Марины Степновой — это продолжение традиции, заложенной русскими классиками несколько веков назад.
По своей трагической интонации «Безбожный переулок» необыкновенно похож на произведения Чехова. В то время как современные люди пьют чай, ходят на работу и в магазин, рушится их жизнь. Самым важным в книге Степновой является вовсе не сюжет — его можно рассказать в двух предложениях и тем самым абсолютно опошлить. В центре внимания оказываются «подводные течения» — скрытые в оговорках и намеках сильнейшие переживания персонажей. Перед главным героем стоит задача распознать эти зашифрованные послания в поведении своей возлюбленной и разгадать ее тайну. Однако он, как и действующие лица в пьесах классика, с треском провалился.
В романе есть и наследница женских образов Чехова — Маля. Главное в ее жизни — мечта: «Я всегда мечтала просто жить, понимаешь? Это же самое интересное. Жить. Ехать. Останавливаться где хочешь. Снова ехать. Смотреть. Жить». Но в отличие от своих предшественниц Маля не останавливается на полпути к мечте, а идет к ней до конца.
Впрочем, сравнением с одним Чеховым здесь не обойтись. Роман охотно играет с цитатами Фета, Ахматовой, Адамовича, Хлебникова, Георгия Иванова. Образы и ситуации, встречающиеся в нем, уже были когда-то описаны русскими поэтами: «Осенний крупный дождь стучится у окна, обои движутся под неподвижным взглядом. Кто эта женщина? Зачем молчит она? Зачем лежит она с тобою рядом?». Удивительно, что даже готовят здесь по рецептам, которыми наверняка пользовалось женское общество из «Анны Карениной». Что уж говорить об имени главного героя — Иван Сергеевич Огарев. Оно будто бы предопределяет его трагическую судьбу. Многочисленные отсылки к писателям-классикам свидетельствуют о том, что во все времена люди страдают по одним и тем же причинам: «Бедные люди — пример тавтологии. Кем это сказано? Может быть, мной?».
Но в конце Огарев напоминает персонажа не столько русского романа, сколько немецкой романтической повести, который видит реальность, неподвластную взгляду других людей. Грань между открывшейся ему истиной и безумием необычайно тонка. Одни решат, что Иван Сергеевич сошел с ума, другие — что он открыл для себя новую, настоящую жизнь, полную свободы, — ту самую, о которой мечтала его возлюбленная.
Художественный стиль Марины Степновой подталкивает принять позицию вторых. Язык романа чрезвычайно поэтичен и легок. Он заставляет поверить в каждое описанное чувство. Писательница подмечает мельчайшие детали, вкусы, делая созданный ею мир по-настоящему живым. Она искусно сочетает необыкновенно трогательные описания с фрагментами текста, написанными нарочито грубым стилем, с откровенным обличением, а иногда и вовсе с выдержками из медицинского справочника:
В комнату ползла, оставляя мокрый длинный след, уже не мать, не человек даже, просто все еще живое существо, почти оставленная Богом протоплазма, надоевшая пластилиновая игрушка, локтем сброшенная с поделочного стола. Аневризма, тихая, страшная ягода, невидимый пузырек, присосавшийся к сосуду, наконец-то лопнула. Мозг заливало тяжелой черной кровью, закупоривались по одному сосуды, захлопывались дверцы, суетливая возня, паника, разбегающаяся в разные стороны обезумевшая жизнь.
Такое разнообразие повествовательных регистров необходимо писательнице для того, чтобы как можно более точно отобразить все проявления жизни, подчеркнуть бессилие человека перед своей судьбой. Быть может, поэтому конец «Безбожного переулка», несмотря на всю его нереалистичность, кажется таким естественным.
Персонажи Марины Степновой, как и их литературные предки, ищут самое важное место на Земле — свой Дом. Заветное детское «чур, я в домике» они проносят через всю жизнь, превращая это заклинание в формулу счастья. Иван Сергеевич Огарев наконец-то нашел пристанище для своей души. Для этого, как и положено по традиции, ему пришлось лишиться всего, возможно, даже рассудка. Стоило ли это таких больших жертв?
Извлечение камня глупости
- Елена Чижова. Планета грибов. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 348 с.
Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла
Второзаконие 32:28
Методы владения читательским вниманием петербургской писательницы Елены Чижовой имеют удивительное, абсолютно нескромное сходство с воздействием на аудиторию одного экспериментального спектакля о тоталитарном режиме. Он был поставлен в Цюрихе в конце прошлого века в цирковом шатре, куда за определенную плату впускали всех желающих, но до финала не выпускали никого. Тесно, душно и темно — такова обстановка, которую безо всякой сценографии наполнял чеканный барабанный бой. Громкость звука постепенно усиливалась, ритм становился быстрее и быстрее, а вскоре и вовсе заходился в истеричном биении, вызывая чувство паники у многочисленной толпы посетителей.
Откуда идет тенденция осовременивать, почти что одомашнивать казематы, тюрьмы, орудия пыток, можно размышлять долго. И даже если беззаботные туристы, весело фотографируясь на гильотине или в испанском сапожке, так нивелируют страх смерти, то только будучи уверенными, что механизм не приведен в решительное действие. В сравнении с парком садистских развлечений новый роман Чижовой «Планета грибов» потрясает сильнее. Он основан не на устаревших кодах, а на реальности знакомой, дебелой, удушающей.
Сосново. Два дома по соседству. Два героя. Собственники чужой земли, которая еще принадлежит фантомам их родителей. Голосами наполнены комнаты, память: «Учти, ягодный сок не отстирывается», «Надо было пошевелиться. Принять меры», «Ты — дочь писателя». Напоминание о родословной — спазм, подобный эффекту от инквизиторской казни «Дочь дворника». Классовый упрек, которым понукаются безымянные он и она, звучит как заповедь: почитай отца твоего и мать. Но — не вняли. Сын инженеров-технологов стал переводчиком, девочка из интеллигентной семьи — торговкой.
Отрезать пуповину, ведущую к истории отечества, — идея фикс для многих персонажей автора. Как и попытка эмиграции. Сменить гражданство в этой книге стремится женщина, резкая, строгая, стальная, бездетная по факту, но мысленно ведущая беседы с нерожденным сыном. Он говорит ей: «Все эти советские души, обожающие своего Создателя… Знаешь, у меня такое впечатление, что они — не совсем люди». И, оглядываясь по сторонам, как в подтверждение этой догадки герои замечают жутких и непременно скудоумных монстров, сошедших с полотен Босха: «Стараясь отрешиться от давящей головной боли, он всматривался в их лица, но видел только овощи — на старушечьих плечах, вместо голов. Старуха-огурец. Старуха-картофелина. Старуха-кабачок…»
Не столь решительный, в отличие от женщины, мужчина держит с призраками прошлого нейтралитет, взаимный договор о невмешательстве. Нетронутыми остаются предметы родительского быта (тогда как героиня бьет статуэтки, сжигает наволочку, рвет форзацы книг), границы дачного участка. Он мучится тщеславием, но не имеет смелости встать в полный рост. Он собирает свои черновики для будущих исследователей, но сделанные им переводы незаметны. «Кавдорский тан», «король в грядущем» — ему так импонировало перекликаться титулами с другом-филологом — встретил не тех ведьм, не богинь судьбы, а среднестатистических обычных женщин.
Предвестье зла, таящееся в пекле солнца, в порывах бури, в шуме леса, в растущем из глубины влечении, доподлинно и осязаемо. Но обращение романных персонажей к Богу всегда идет с союзом «если». Заминка, достаточная для того, чтобы с опаской наблюдать за исполнением молитв. В спокойной интонации повествования слышна угроза и пессимизм:
Счастье, что Он терпелив. Готов повторять снова и снова, надеясь, что рано или поздно народу наскучит повторение — мать учения, и он перестанет кружить по широким полям шляпы Его извечного врага.
Все, кто стоит у власти божественной или человеческой, чьи звания мы пишем с прописной, кровавыми руками дергают за нити жизней. О том — свидетельства скрижалей и летописей. Об этом роман Чижовой, где несовершенство мира как настоящего, так и мифического, населенного грибами, одинаково обременительно автору и его неразумным созданиям.
Ариадна Борисова. Змеев столб
- Ариадна Борисова. Змеев столб. — М.: Эксмо, 2014. — 384 с.
По словам Людмилы Улицкой, роман Ариадны Борисовой «Змеев столб», вышедший в лонг-лист премии «Ясная Поляна», – это история сильной, редкостной, героической и жертвенной любви, уникальность которой заключается не в ней самой, а в особых характерах и обстоятельствах. Взаимоотношения Хаима Готлиба, выходца из богатого торгово-ремесленного еврейства, первого в семье, получившего хорошее образование в Германии, и русской дворянки-сироты, воспитанной в детском приюте при православной церкви, разворачивается в довоенной Литве. О том, через какие испытания им придется пройти, и расскажет Ариадна Борисова.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
АДАМОВО ЯБЛОКОГлава 1
Младший сын всегда чудакСемейную торгово-промышленную компанию возглавлял старый Ицхак Готлиб, чья фамилия стояла в списке попечительского комитета клайпедской общины немецких евреев. Из скромного лавочника он незаметно превратился в солидного дельца и никогда не выставлял напоказ своего богатства, зная, как трудно сберечь имущество, нажитое трудом — честным трудом, хотя и не без некоторого авантюризма. Впрочем, казалось, деньги сами стаями слетаются к нему, словно птицы на жердочку дрессировщика, такой естественной способностью приручать их он обладал. Деревообрабатывающая фирма процветала. Коммерческий нюх старого Ицхака с невероятной точностью подсказывал ему лучшее время сбыта продукции и пределы покупательских возможностей. В отличие от многих, хозяйство не претерпело больших убытков даже тогда, когда Неман из-за польской экспансии закрывался для поставок леса из России. В середине 30-х внешние партнеры прервали связи со многими литовскими торговыми обществами, но компания Готлибов удержалась на плаву. Сметоновское1 правительство увеличило квоты на сбыт казенного дерева, подписало прерванное соглашение о ввозе сырья с советской стороны, и старому Ицхаку удалось заключить в Европе выгодные сделки по строевому фабрикату, принесшие семейству недурственный доход.
К городу-порту давно вернулось древнее куршское 2 название — Клайпеда. Между тем, на картах экс-хозяйки Германии он по-прежнему значился как Memelland3 и остался типично прусским. Снисходительно мирясь с властью Каунаса4, мемельцы по-прежнему считали свою родину предместьем фатерлянда.
На морском перекрестке военно-торговых путей всегда было тревожно, но банкротство, ущерб и пожары обходили дом старого Ицхака, точно он был заговоренным. Прадед выстроил это трехэтажное здание в обычном для здешних мест стиле фахверк близ устья Дане еще в начале девятнадцатого века после эдикта, снявшего запрет на еврейское гражданство в Мемельском крае.
Особняк стоял в начале двора, выложенного стертым до гладкости булыжником. Летом с нового мезонина ниспадали, мягко колышась на ветру, юбки дикого винограда. Пышный зеленый подол украшала пестрая кайма из многолетних цветов. На просторных задворках, как смежное государство с отдельными воротами, выходящими на другую улицу, жили вечно хлопотливой жизнью кухня с подсобкой, флигель для прислуги, кладовые, мастерская и гараж. Службы отгораживал от дома вытянутый в ширину яблоневый сад с нарядной беседкой, где любили играть сначала дети, а теперь — внуки.
Старый Ицхак был счастлив детьми. Трое старших сыновей, получив приличное образование, обзавелись семьями и трудились на благо фамильного дела. Из Лейпцига только что вернулся с университетским дипломом младший, любимец отца Хаим. Единственная дочь Сара, последыш почтенных родителей, посещала прогрессивную светскую школу.
Хозяин, будучи человеком набожным, все же не вступал в противоречия с передовыми велениями времени, но его жена придерживалась более суровых взглядов. Родом из ортодоксальной семьи, Геневдел Рахиль Готлиб, или матушка Гене, как звали ее домочадцы, строго следила за порядком и соблюдением основных обрядов и заповедей Торы. Прислуга после трудов с трепетом ожидала оценки госпожи, а невестки были обязаны еженедельно отчитываться перед свекровью во внутриклановых радостях и проступках. Под ее прицельным взором чувствовали себя виноватыми и те, кто не заметил огрехов. В этом обособленном мирке, где хозяйка была одновременно светочем и тираном, царили безукоризненная чистота, открытость и щепетильность во всем.
Матушка Гене с полным правом гордилась послушанием и способностями сыновей. Но получилось так, что младший нарушил патриархальные обычаи дома. Переломным событием к неожиданному заявлению Хаима стало исполнение сольной партии в студенческом хоре на краевом клайпедском празднике. Жюри конкурса провозгласило коллектив лучшим, и в тот же вечер молодой человек высказал на семейном ужине желание соединить свое будущее с артистической карьерой.
Матушка была вынуждена признаться себе, что младший сын всегда отличался от братьев ветреным нравом. К его рождению старый Ицхак накопил основную часть капитала и стал больше времени уделять семье, но старшие мальчики успели вырасти, и вся его нерастраченная родительская энергия обрушилась на Хаима. Благодаря эстетическим пристрастиям отца, страстного меломана в молодости, сын был взращен на немецкой исполнительской культуре и окончил музыкальную школу. Из всех детей именно он унаследовал приятный отцовский голос, лирический баритон с шелковистой теноровой ноткой, приводивший в восхищение многих. Матушка Гене втайне удивлялась: по ее убеждению, такой голос хорош был для кабака, где людям все равно, баритон, тенор или серединка на половинку, а никак не для театральной сцены.
Горестные размышления уверили женщину, что в легкомыслии сына виновато, кроме попустительства мужа, неофициальное «просвещение», полученное Хаимом в Лейпциге на вредных студенческих собраниях, где хитроумные ораторы, нанятые реакционными партиями, забивали головы молодым искаженными понятиями о жизни и устройстве мира. Матушка Гене прекрасно знала, кто виновен в международном политическом разброде и спаде экономики. Это социалисты всех мастей руководили забастовками рабочих и разоряли хуторян. А потом, распродав земли и скот, крестьяне сидели на баулах по всей Литве, ждали на вокзалах вербовщиков на плантации Южной Америки, — потому и стали случаться перебои с мясом и молочными продуктами в кошерных магазинах… Но хуже всего, что повсюду в моду вошел культ порочной богемы и, как следствие, падение устоев семьи и безбожие.
Геневдел Рахиль старалась не показывать тревоги на людях, но наедине с собой, чувствуя себя парализованной угрозой хаоса, внесенного сыном в трудно созданное ею домашнее равновесие, билась и плакала. Хаим! Хаим совсем отбился от рук! Того и гляди перестанет молиться, начнет брить виски и поедать трейфу! 5
— Ах, Ицек, выходит, не зря даже в сказках говорится, что младшие сыновья всегда чудаки, если не сказать хуже! Неужели мы столько лет учили сына для того, чтобы он пел оперетки? — кинулась женщина к мужу за сочувствием и утешением.
— У Хаима красивый голос, — не очень твердо возразил супруг.
— О да, как не поверить восторгам толпы! — съязвила матушка, мгновенно переходя от отчаяния к гневу.
— Жюри конкурса было профессиональным.
— За свои деньги ты мог бы солировать с тем же успехом!
В организацию праздника была вложена некоторая толика пожертвований от компании Готлибов.— Мы поддержали устроителей и в прошлый раз. Не мог же я отказать просьбам только потому, что в нынешнем конкурсе участвовал мой сын, — рассердился старый Ицхак. — И вспомни, что не Хаим, а хор заслужил признание.
— А ты вспомни себя, Ицек, вспомни себя! Ты ведь почему-то послушал родителей, не пошел в вокалисты! И разве не преуспел? Или мало работаешь вместе с мальчиками, мало всем помогаешь и не пользуешься уважением? Что по сравнению с этим так называемое «призвание» Хаима? Может, он не сумеет заработать себе и на кусок хлеба! А сплетни, Ицек? Сплетни тебя не волнуют? Знакомые непременно осудят нашего сына, а заодно и нас за то, что мы потакаем его капризам! Люди просто будут смеяться над нами! Ох, и распрекрасное же, скажут, занятие для мальчика из приличного дома! Окончил экономический факультет, чтобы распевать песенки в концертах!
— Ну что ты заладила — «песенки», «оперетки», — урезонивал старый Ицхак, пытаясь привести какие-то доводы в защиту выбора сына, но уговоры только распалили матушку Гене. Она бегала по комнате, заламывая руки, и свистящим от ярости шепотом призывала мужа образумить «глупого мальчишку».
— Искусство только называется изящным, а на самом деле коварно, богомерзко, безнравственно! Лицедейство ведет к пороку и пьянству! Я не удивлюсь, если из-за твоего потворства Хаим станет социалистом и отречется от нас!
Матушка роняла горькие слова, подсказанные страхом сердца, которые обычно придерживала в себе. Ей уже начинало казаться, что сын пал на дно жизни, где нет места порядочным людям.
— Гене, ты преувеличиваешь, — с раздражением прервал старый Ицхак. — В консерватории его научат петь для избранной публики.
— Где-е?!
— Да, прости, я забыл сказать: он мечтает поступить в Каунасскую консерваторию…
— Таланту нигде не учат, — отрезала взбешенная матушка, не заметив в запале, что дверь приоткрыта, и в щели поблескивают блестящие от любопытства глаза дочери.
Избалованная общим вниманием и любовью, двенадцатилетняя Сара благочестием не отличалась. Без всяких укоров совести подслушав ссору, девочка тотчас побежала искать Хаима. Она любила его больше, чем старших братьев, за веселый нрав и готовность к проказам. В юном своем эгоизме Сара старалась припомнить родительский разговор слово за словом, не замечая в них опасности. Ее больше занимало, как смешно матушка Гене таращила глаза и вертела руками.
Брат лежал в беседке на скамейке с томом Келлермана6 в правой руке и бутербродом в левой. Незаметно подкравшись, Сара просунула ладонь в решетку беседки и собралась было выдернуть бутерброд, но Хаим оказался проворнее и ухватил шалунью за высунувшийся кончик косы:
— Караул! Держи вора!
— Смотри, книгу маслом измажешь, — засмеялась Сара и заговорщицки прищурилась, входя в беседку. — Ни за что не угадаешь, что я сейчас слышала!
Хаим сел, сложив по-турецки ноги, и грозно уставился на сестрицу:
— Рассказывай, о луноликая, иначе верные мои визири отрубят твой любопытный нос и твои длинные уши!
Актерский этюд Сары был не лишен забавного сходства с характерными манерами родителей, но ожидания девочки не оправдались. Зритель не восхитился по обыкновению, и благодарных аплодисментов она не дождалась. Сконфуженная, она вдруг поняла, что слова матери, а особенно вынесенный ею вердикт тяжело задели брата.
Сара попробовала исправить свое неделикатное вторжение в ту область, к которой он, оказывается, относился слишком серьезно.
— Хаим, ну, Хаим, — потянула она его за рукав и капризно надула губы. — Не обижайся! Матушка Гене просто не хочет, чтобы ты поступил в консерваторию, поэтому так злится. Никто же не сомневается в твоем таланте! На празднике ты пел лучше всех, люди только о тебе говорили…
— Кто, например? — насторожился он.
— Один незнакомый человек, на вид учитель, — не моргнув глазом, соврала Сара, в ужасе соображая, как далеко зашла. — Или музыкант… Да-да, скорее всего, музыкант!
— Что он сказал?
— Ну-у… Я не очень хорошо помню… Кажется, о том, что тебе с таким замечательным голосом пора записаться в оперную студию.
— В какую еще оперную?
— Частную. Ее открыли при драмтеатре.
Сара перевела дух и похвалила себя за привычку читать случайные объявления. Под репертуарной афишкой ей вчера очень кстати встретилась информация о наборе студийцев с начальной музыкальной подготовкой.
Откинувшись на спинку скамьи, Хаим задумчиво посвистел, и черные, блестящие, как у сестры, глаза его оживились. Сара с облегчением убедилась, что настроение брата улучшилось.
— М-да, проказница ты этакая. Хочешь мне помочь?
— Конечно!
— Скажи матушке, будто я туда уже записался.
— А ты запишешься?
— Обязательно.
Неугомонная Сара тут же представила, что из этого может получиться. Заранее веря в триумф Хаима, в восторге от собственной хитрости и счастливого разрешения щекотливой ситуации, она зачастила:
— И ты станешь репетировать с другими певцами? А оркестр там есть? А если нет, то как без оркестра? Что вы поставите?
— Пока не знаю, — буркнул он.
— «Тристана и Изольду»! — запрыгала девочка, хлопая в ладоши. — Пожалуйста, пожалуйста, ладно?!
Несколько лет назад они в Лейпциге вместе слушали эту оперу в постановке дрезденской гастрольной труппы.
— Когда-нибудь потом, — уклонился он и вспомнил, как глубоко переживала впечатлительная сестренка рассказанную в музыке трагедию любви и смерти.
Сара зажмурилась, в избытке чувств прижав руки к груди:
— О, я вижу тебя в роли Тристана, Хаим! В длинной накидке, с мечом в руке, ты такой красивый! Хаим, ты непременно попадешь в лучший состав!
— Тристан — это тенор, Сара, а моему баритону больше подойдет Курвенал.
— Оруженосец? — фыркнула девочка. — Но ты же сам говорил, что будешь универсальным певцом!
— Ну, может, буду…
Хаим смущенно хмыкнул. Ему, оскорбленному неверием матери в его певческий дар, тоже очень хотелось так думать.
Как было обещано, Сара торжественно передала родителям радостную новость и, несмотря на то что сообщение опережало действительность, дала волю разыгравшемуся воображению. Руководители студии, по ее словам, вроде бы сочли брата восходящей оперной звездой. «Вроде бы» не позволяло, в случае чего, уличить ее во вранье: вроде бы — да, вроде бы — нет…
Маленькая лгунья рассчитала верно: матушка отнеслась к лукавому слову без внимания — ее огорошил очередной успех сына. Строптивость Хаима оказалась сильнее домашней оппозиции и вызвала невольное уважение.
Матушка Гене сдалась. «Ицек, пожалуй, прав, — сломленно вздыхая, размышляла она теперь. — Нет ничего зазорного в творческой профессии. Все зависит от человека, а опера — самый благородный вид из всех сомнительных видов искусств… Если у мальчика дар, нельзя наступать на горло песне».
Сын отправился в Каунасскую консерваторию на подготовительные экзаменационные курсы.
1 Сметона Антанас (1874–1944) — государственный деятель, один из идеологов литовского нацизма, президент Литовской Республики (1926–1940).
2 Курши — древнее племя, населявшее побережье Балтийского моря. Как отдельная этническая группа упоминается до конца XVI века.
3 До того, как снова стать Клайпедой, город семь веков носил название Мемель (по немецкому названию реки Неман).
4 В 1919 году по Версальскому договору Мемельский край был отторгнут от Германии. В 1923-м, после захвата края Литвой, Лига Наций согласилась передать его Литовской Республике, оговорив предоставление автономии. Каунас в то время был столицей Литвы.
5 Трейфа — запрещенная Торой некошерная пища.
6 Бернгард Келлерман — немецкий писатель (1879–1951), автор романов, призывающих к демократическому преобразованию.
Юрий Арабов. Столкновение с бабочкой
- Юрий Арабов. Столкновение с бабочкой. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014.
Писатель Юрий Арабов, известный не только своими книгами «Биг-Бит», «Флагелланты», «Орлеан», но и сценарием к фильму Александра Сокурова «Молох», в новом романе «Столкновение с бабочкой» создает альтернативную историю ХХ века. Как повернулась бы судьба страны, если бы главные ее действующие лица могли договориться, пойти на компромисс? Место действия — Цюрих, Петроград, Гельсингфорс; персонажи как будто всем известные, но увиденные с необычной стороны — Ленин, Николай II, императрица Александра Федоровна, наследник Алексей, Матильда Кшесинская и — конечно — русский народ.
Глава вторая
ОТРЕЧЕНИЕ На паровозе номер 1151. Что он означает? Если сложить цифры вместе, то получится восьмерка. Она —
как петля Мёбиуса. Символ дурной бесконечности.
Наша жизнь — дурная бесконечность. Как и жизнь
любого из государей. Царствую двадцать три года.
Люблю маневры. Интересен флот. Особенно подводные лодки. Стоят в Риге. Если забраться в подводную лодку и уплыть в Португалию? Уместится ли
там вся семья? Алеша спросил намедни по-английски:
«Папа, а где расположена Португалия?» — «В географических атласах», — сказал я. Хороший ответ, остроумный. Дочери болеют корью. Невозможно воевать,
когда дома болеют. Победа над немцами — на расстоянии вытянутой руки. Так мне сказал генерал Алексеев. Мне говорят это три года. И всё — вытянутая рука.
Но почему-то до немцев она не достает. Руки коротки.
У инвалида может вообще не быть рук. За время войны погибло три миллиона человек. За один только
прошлый год, кажется, — два миллиона, если я не путаю. Следовательно, потери удвоились по сравнению
с двумя предыдущими годами. Хорошо ли это? Что
играет на руку смуте? Антивоенные листовки или потери в три миллиона? Допустим, они все в Раю. Цели
войны благородны — помочь Франции и Англии. Но
как это получилось, что мы рассорились со своим кузеном Вилли? Мы убиваем солдат Вильгельма, он —
наших. Но мы с ним одной крови. Можем в любой
момент замириться. Я не буду идти на Берлин. Как
только перейдем германскую границу, я предложу
кайзеру благородный мир. А эти убитые… они все спасены. В Раю об нас молятся. Не было бы убитых солдат, Рай бы остался пустым. Голова болит. От французского коньяка голова болит. Надо брать в дорогу
русскую водку. «Матушка! Забери меня домой! Как
же они меня мучают, как бьют…» — откуда это? Я, кажется, напился, как гимназист. Плохо. Начальник
штаба сказал: в Петрограде смута. Мы засмеялись.
Мы ведь сами только что оттуда. И никакой смуты не
видели. Но мы ведь — из Царского Села. Одно ли это
и то же? Пусть смута. Двенадцать лет назад Господь
помог удержаться, поможет и сейчас. Мы ложимся.
Едем обратно в Царское Село и ложимся. Но поезд не
пускают обратно. Задерживают под Псковом. Это
какая станция и перегон? Дно. Странное название.
Ложимся и спим. Матушка Богородица! Спаси нас!..Государь Николай Александрович прилег на узкий
кожаный диван и, не подложив под голову подушку,
а припав к черному валику, свернулся калачиком и закрыл глаза. Десять голубых вагонов с узкими окнами
и двуглавыми орлами между ними выглядели парадно и сухо. Про них нельзя было сказать: молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели, — это было
невозможно. Их блестящий казенный вид больше подходил стуку телеграфа или пишущих машинок. Из них
приказывали, казнили и миловали. Хотя пение иногда прорывало грохот колес, вылетая наружу, когда
в присутствии государя его адъютанты взбадривали
кровь спиртным и начинали горланить русские песни,
чтобы никто не заподозрил этих гладких породистых
людей в отсутствии патриотического чувства. Казалось, какое-то правительственное учреждение встало
вдруг на колеса и поехало зачем-то в Могилев, отдыхая в дороге от бюрократического бремени.Да, поезд был похож на одетого с иголочки военного, к которому прицеплена вся остальная Россия, не
хотевшая ни ехать, ни идти. Тем более в Германию.
Все знали, что Романовы — немцы. И немцы, воюющие за русских, против немцев, воюющих за Германию… в этом была какая-то дичь. И если снаружи вагоны напоминали правительственное учреждение, то
внутри были похожи на уютную квартиру человека
с достатком — например, адвоката или промышленника средней руки. В интерьере не было показной роскоши, но был вкус. Государь обожал голубой цвет, но
еще более он любил цвет зеленый. Зеленым шелком
были обиты стены его купе-кабинета и письменный
стол, за которым подписывались распоряжения. Диван для отдыха располагался параллельно окну, а не
перпендикулярно, как положено в вагонах. Тумбочка
из красного дерева стояла у окна, которое было по
большей части зашторено. Когда не видишь движения за окном, а только слышишь стук колес, то кажется, что и не едешь вовсе. Какой порядочный семьянин путешествует без жены и детей? Тем более по
России, от вида которой хочется или орать песни, или
навсегда замолчать? Семья рядом помогла бы избежать и того и другого. Но она теперь далеко, моя любимая семья. А почему я еду без нее? Потому что дети больны. И куда еду? Ах да, я как-то запамятовал.
Ехал я в Могилев, в ставку, потому что мы — главнокомандующий. Но генерал Алексеев расстроил. Сказал про смуту в Петрограде. Там же узнал, что безоружная толпа взяла Кресты. Как могут безоружные люди
взять вооруженную тюрьму? Тюрьма ведь не женщина. А они — забрали всё. Выпустили политических
и уголовных. Значит, охрана разбежалась. Или нам
неправильно докладывают? Мы — в сетях заговора,
нам врут в глаза. Это даже забавно. Они хотят моего
отречения. А как я могу отречься? Я ведь не виноват
в том, что царь. Это же дела Божьи. Игра судьбы или
случая, и мы здесь не вольны в своем выборе.Он приоткрыл глаза. Поезд был неподвижен, как
вросший в землю дом. На полу лежал зеленый ковер,
напоминавший аккуратно стриженный английский газон. На таком он играл в детстве близ Александровского дворца. В такой же траве играют сегодня его дети в Царском Селе. Когда здоровы. Долг христианина он исполнил — дочери-невесты, утонченные до
прозрачности и будто сошедшие с фотографий, ждали августейших женихов. Через Анастасию были видны чайные розы. Через Марию просвечивало небо. Ольга получилась умнее его, и с ней он делился сокровенным. Татьяна хорошо пела. Однако вторая половина
его специфического долга под названием «Российская империя» обещала сорвать спокойную старость.
Странник Григорий заклинал его от войны с Германией. Далеко видел. За то и пострадал. Говорили, что
перед войной Россия расцвела. Во многом так. Монархия, укрепленная конституцией, стала более современной, чем раньше. Ограничения в избирательных правах для сословий и инородцев? Но это мы
поправим со временем. Самоуверенный Столыпин
предлагал снять черту оседлости с евреев. Мы сказали ему: не сейчас, рано. Мы его не любили. Он был
слишком сильным и перетягивал одеяло на себя. Мы
были фоном для замечательного премьера, кто такое
вытерпит? В конце концов он ушел к Богу, а евреи
ушли в революцию. Да что я? О каких пустяках думаю? При чем здесь евреи и революция? Мне о войне думать надо, о войне!.. А думать ох как не хочется…
Подсохнут дороги, и по ним снова запылят солдатские сапоги. Завертятся колеса подвод, и священники
в калошах, похожие на черных жуков, будут высматривать по обочинам места для новых захоронений.
Говорят, что мужики могут спать на ходу, идя строем.
Возможно. Мне великий князь Николай Николаевич
рассказывал, как обнаружил целую поляну с поваленными на нее телами в полном обмундировании. Думал, что трупы. Оказывается, все спали. Мне бы такой
сон, я даже завидую. Еще один миллион закопаем
в землю. Я не о деньгах, я о людях. Денег нам не жалко… это ведь бумага, за которой ничего не стоит.Государь приоткрыл глаза, прислушиваясь, не пошел ли поезд. На стенах его кабинета-купе висели
многочисленные фотокопии августейшей фамилии.
Под потолком был прикреплен турник, на котором он
мог подтянуться раз тридцать за один подход. В углу
располагался обширный иконостас с почерневшим
от копоти образом Спаса Нерукотворного. Жить бы
в таком кабинете все время и никуда не ехать!.. Только чтоб дети были под рукой и рядом. А Александра
Федоровна — далеко… Чур меня! Вот ведь что нашептывает лукавый! Сгинь, сатана!.. Изыди и расточись!..
Александра Федоровна — здесь, и дети тоже.Ему показалось, что пошел проливной дождь. Что
по крыше бьют крупные капли… Откуда дождь в первых числах марта, да еще такой проливной? Невозможно. Обрушился, отзвенел и затих. Государь заметил, что на окне его купе нет капель. Луч станционного прожектора освещал стекло, и капли на нем были
бы заметны. Что за шум? Странно.В дверь постучали.
— Ваше величество! Приехали депутаты Государственной думы.
— Зачем?
Министр двора граф Фредерикс печально вздохнул и не ответил. Не так давно он был введен в графское достоинство. Но кто из них выше, граф или барон, Фредерикс так и не решил, да и государь, похоже, тоже.
— Пусть подождут в гостиной.
Вот ведь черти! В дороге отыскали, в глубине страны нашли! Я и говорю: заговор кругом. Машина работает против меня и помимо воли. Она меня раздавит!..
Государю сделалось страшно. Он почувствовал, как мужество оставляет его. Вокруг — шпионы. Все гонят, все клянут… Мучителей толпа! Что я должен делать?
Ведь они, пожалуй, придушат меня, как государя Павла Петровича, который заключил с Бонапартом сердечное соглашение и двинул на Индию казачьи войска атамана Платова. Если бы Павла Петровича не придушили, то и Индия была бы русской. Там, говорят, много обезьян и бананов. Охотились бы на слонов. Но тропические дожди на несколько месяцев…
Эти нам совсем ни к чему. Лучше бы Японию присоединить. Но там ураганы. Тоже некстати. Нет. Не сложилось. Не срослось. Европа нам ближе. Там — одни
наши родственники. С ними надобно заключить сердечный мир и договор о ненападении, как я предлагал до войны в Гааге. Удивительно, но все забыли о моем
начинании. Война — крепкая память человечества
и факт истории. Мир не задерживается в памяти и не
попадает на страницы учебников.…Он вошел в гостиную, по-военному подтянутый,
в серо-зеленой черкеске и с таким же серо-зеленым
лицом. Болтающийся на левом боку кинжал делал его
похожим на кавказца. Граф Фредерикс готовился записывать исторический разговор. Хорошо. Пусть пишет. Двое думцев. Фамилии не помню. Ах да, это же
Гучков, с ним я встречался несколько раз, а рядом
кто? Этого совсем забыл, хотя лицо как будто бы знакомо.— Не промокли по дороге, господа?
Гости переглянулись, не понимая.
— Ведь был дождь? Я слышал.
— Это не дождь, ваше императорское величество. Это…
Фредерикс кашлянул, пытаясь предупредить говорящего о нежелательности продолжения темы. Но Гучков все-таки докончил:
— Нам хлопали люди, собравшиеся на путях.
— Вас вызывали на бис?.. — и государь вставил в мундштук папиросу.
— Нет. Скорее, это был аванс.
— А может быть, они вызывали меня? Судя по аффектации, все билеты проданы. Полный аншлаг.
Николай Александрович закурил и сел сбоку у окна
за небольшим столом. При людях он всегда вставлял
папиросу в мундштук, но в одиночестве мог курить
просто, по-солдатски, прикуривая от окурка, одну папиросу за другой.Жестом пригласил гостей садиться рядом. Фредерикс поставил у окна кресла, и все присели тут же, за
маленьким столом, четверо государственных мужей,
бок в бок, будто хотели заняться столоверчением.Василий Витальевич Шульгин, приехавший вместе с Гучковым, как гражданин и человек чувствовал
торжественность минуты. Сеанс политического спиритизма обещал быть впечатляющим. Об этом потом напишут, как он, лысоватый киевский журналист, жалкий провинциал с огнем в сердце и химерами
в башке, принимал отречение государя императора,
чтобы спасти Россию и монархию. Спасти от ныне действующего государя императора. Звучит комично.
Но разве Николаю Александровичу объяснишь то,
что происходит сегодня в Петрограде? Не расскажешь,
как незнакомая никому Россия, вооруженная и грязная, с кумачом над головой и ветром в самой голове,
заполнила залы Таврического дворца… Серо-рыжая
солдатня и черная рабочеобразная масса с грузовиками, похожими на дикобразов от поднятых вверх
штыков… Это была весенняя вода черного подтаявшего снега. Она выдавила депутатов Государственной думы из главного зала на периферию, в кабинет
Родзянко, и начала проводить во дворце непрекращающийся митинг. В кабинете, где раньше заседала бюджетная комиссия, расположилась странная компания
небритых людей, которая называла себя совдепом. Ораторы сменяли друг друга. Говорили сбивчиво, непонятно. Но внутри каждого горела электрическая лампа,
подсвечивающая одно-единственное требование: «Долой!..» Многие депутаты разбежались, а те из них, кто
имел мужество остаться во дворце, сбились в кучу
в кабинете председателя и в тесноте, в смраде, голова
к голове, решали, что делать дальше… Как спасти
Россию? И главный вопрос, который их мучил, —
тождественна ли монархия родине, или это совсем
разные понятия, несоразмерные друг с другом? Сам
Шульгин отвечал на этот вопрос утвердительно: да,
тождественна. Россия и царь — это одно и то же.— И какую пьесу вы мне привезли? — спросил государь император, морщась и выпуская из себя сизое облако дыма. Вопрос явно был лишним.
— Мы вам привезли просьбу об отречении, — выдохнул Александр Иванович Гучков. Вид его был суров и сумрачен. Он чем-то напоминал дорогую, но
закопченную сковороду, которой можно убить наповал… Вытащил из портфеля папку с одним-единственным листком внутри и передал Николаю Александровичу.— Кто автор пьесы? — спросил государь.
— Русский народ, — с пафосом ответил Гучков.
— Но вы ведь от Думы ко мне пришли, а не от народа.
— Это одно и то же.
— Но если вы и народ нераздельны, то кто такой я и чьи интересы представляю?
Вопрос повис в воздухе. Некоторое время все молчали. Как странно он говорит, — подумал Шульгин. — Что за акцент? Когда подчеркиваются согласные звуки, а гласные с их округлостью и певучестью
почти совсем пропускаются? Немецкий это акцент,
что ли? Он же немец, наш царь. Но вдруг из глубины
памяти выплыло — это же гвардейский акцент. Так
его называют. Им разговаривают на плацу военные.
Гвардейский акцент неотделим от его черкески. И почему он всегда одевается в военное? Меняет наряды, мундиры и папахи, а сам не меняется? Потому что
сейчас война. Но он и до войны одевался точно так же. У него же воинское звание. Оттого и мундиры.
Полковник или подполковник… я запамятовал. Скромен. Однако в этой скромности все-таки чувствуется
маскарад. Сегодня он в горской папахе, завтра — в военной фуражке, послезавтра — вообще без головного
убора. И может быть, без самой головы. Бедный потерянный человек! Уходи от нас скорее. Играй в войну со своими детьми. Страна не для тебя. И война
тоже. Убитые на ней не воскресают, как оловянные солдатики.
Непечатное слово
- Марат Басыров. Печатная машина. — СПб.: Издательская группа «Лениздат», «Команда А», 2014. — 224 с.
Как относиться к нецензурной лексике в произведениях искусства в те времена, когда вступает в силу закон о запрете мата, каждый решает самостоятельно. Однако теперь не всякую новинку в книжном магазине можно взять в руки и полистать, раздумывая о покупке. Потому что часть из них, та часть, что содержит экспрессивную народную лексику, будет продаваться в упаковке и с предупреждающей пометкой. Книга «Печатная машина» успела выйти до введения закона — нагой, как абстрактно изображенная женщина на обложке.
Имя Марата Басырова не было известно в читательских кругах, пока его роман не попал в номинанты на «Национальный бестселлер». Активно обсуждать, кто он и откуда взялся, начали, когда «Печатная машина» вошла в шорт-лист премии, а ее крестным отцом стал Павел Крусанов. Роман написан таким языком, словно Энтони Берджесс ожил и создал книгу теперь уже полностью на русском. И дело не только в нецензурной лексике. Скорее, поражает ощущение пустоты, возникновение которой можно объяснить простым словосочетанием «ничего святого». Вот, например, о чем размышляет герой после своего первого раза с девушкой: «Я стоял, ссал и думал: вот я ссу, и что-то из меня убывает. Что-то, что я в обратке чувствую как реально нарастающую в себе пустоту».
Но ни специфический язык, ни предельная откровенность не нарушают сакральности, напротив, мат как табуированная лексика становится самым гармоничным средством ее изображения. Космос, пустота и женщины — именно эти образы главенствуют в монологах героя. Сам Басыров признается, что большинство решающих моментов в его жизни связаны с женщинами — представительницами внеземной цивилизации, с которой ему постоянно хотелось найти контакт. «Я не могу полюбить непонятно что! Хоть бы и оно любило меня», — к такому выводу приходит герой в конце главы под названием «Хаос».
Первая девушка, медсестра в военном госпитале, жена, любовницы, мама — все эти женщины не открываются ему до конца, так и оставаясь загадкой. Но отсутствие понимания не исключает контакт. Жена, которая молча ложится рядом и неясно каким образом забирает половину его боли. Мать, которая подчиняясь законам природы, любит свое чадо и становится самой важной женщиной в его жизни. Святость отношений матери и сына возрастает настолько, что именно слово «мама» становится непечатным (в буквальном смысле!), отодвигая обсценную лексику, делая ее всего лишь фоном. Об этом последняя и самая важная глава книги. В ней герой пытается обуздать муки творчества и выдать результат на клавиатуре «слямзанной машинки», которой не хватает всего двух букв — «а» и «м».
«Кто-то может сказать, что это сущий пустяк, но без этих букв некоторые слова теряли значение, а, например, слово „мама“ вообще растворялось в пустоте без остатка. Моя мама и вправду была далеко, так что мне ничего не оставалось, как просто принять обе эти данности, объединив их в одну».
Машинке не хватает букв, герою — любящего человека рядом, а писателю Марату Басырову хватило всего, чтобы создать книгу, которую хоть и неловко читать, например в метро, но очень хочется.
Сквозь кровь и пыль
- Александр Григоренко. Ильгет. Три имени судьбы. М.: ArsisBooks, 2013. — 332 с.
Возвращение в прошлое — выбор многих современных писателей. Вероятно, говорить о высоком, о судьбе и смысле жизни легче, когда отвлекаешься от века сегодняшнего, от его бешеного ритма и сиюминутных проблем. Александр Григоренко вошел в литературу так же стремительно, как летит стрела, пущенная одним из его персонажей. Имя автора становится все более известным: оба его романа, «Мэбэт» и «Ильгет», в разные годы проходили в финал «Большой книги». А последний отметился и в шорт-листе премии «НОС».
«Ильгет. Три имени судьбы», по словам самого Григоренко, — вторая часть дилогии о человеке тайги. Идейное содержание здесь то же, что в «Мэбэте». Герой на протяжении всего романа упорно пытается выяснить, где его истинное место на Древе мира: «Жизнь спутанной сетью лежит у моих колен, и я мучительно пытаюсь отыскать в ней начальную нить, чтобы извлечь все, что видел сам, слышал от других людей, то, что приходило в снах и видениях, чтобы понять ее строй и надобность моего появления на земле».
Задача эта не из легких — чтобы ее решить, придется пройти сквозь множество испытаний и потерь. Но если в первом романе навстречу своей судьбе шел сильный Мэбэт, любимец богов, то здесь главным героем является «маленький» человек, сирота, взятый из жалости чужой семьей. Ильгет тем не менее переживает не одну метаморфозу. Из обиженного приемыша он превращается в великого война, отца большого семейства, а потом вновь становится рабом.
Погони, бои, испытания, неожиданные повороты конфликта, появление забытых героев — мир романа не позволяет замерзнуть от скуки в выдуманной тайге. Заслуга автора в том, что он не бросает ни одну сюжетную линию. «Ильгет» населяет большое количество персонажей. И судьба каждого прослеживается до конца.
Художественный язык писателя одурманивает, заставляет полностью погрузиться в повествование. Подобно художнику, Григоренко выдумывает новые яркие краски для того, чтобы точнее передать настроение: «Помимо воли вспоминалось другое — день, блистающий цветами осени и солнца, растворенного в воде. Ябто вздрогнул от мысли, что по цвету этот день очень похож на нынешний».
Автор не боится шокировать читателя физиологическими подробностями и описаниями кровавых битв:
«Железный Рог вынул из ножен большой кривой нож, вспорол грязную худую малицу мертвеца, оголив тело — бледное, покрытое струпьями — следом неизвестной болезни. В одно мгновение нож разрезал кожу под ребром, широкая рука тунгуса проникла в тело, как в узкий мешок, и шарила что-то нужное. Олени приплясывали на щеках, когда он резким движением вынул руку, и я увидел на почерневшей ладони неровный вздрагивающий шар.
— Ешь».Постепенно привыкаешь к подобным пассажам. В результате можно не заметить, как сознание меняется: вместо человека XXI века появляется древний житель тайги, всегда помнящий о том, что опасность поджидает на каждом шагу, а человек человеку — скорее враг, нежели друг.
Проблемы правдоподобия в этом романе не возникает. Реальность легко сосуществует с потусторонними мирами. Духи предков возвращаются и разговаривают с живыми людьми. Женщина, спасенная волком, превращается в волчицу. Супруги, разлученные, казалось бы, навсегда, неожиданно встречаются вновь. Рассказчик умеет проникать в мысли других героев и пересекать любые временные и пространственные границы. За спинами у людей живут демоны, которые в трудный момент подсказывают верное решение. И стоит только прислушаться к себе, чтобы понять, что многое из этих чудес не выдумка.
Роман Александра Григоренко обнаруживает демонов и в современном человеке, который мучается теми же желаниями, что и люди Нга. Одежда из оленьих шкур — всего лишь декорация, главный предмет изображения — душа, которая может «говорить», «плакать», «одеваться тревогой» и жить сама по себе: «Слова, которые изрекал рот, существовали за тем пределом, где уже нет слез, ровно как нет ни горя, ни радости, ни смеха. Душа превратилась в жилище, которое давно оставили люди и увели за собой запахи жизни».
«Ильгет» дает возможность освободиться от множества культурных наслоений, чтобы понять: «жизнь и люди одинаковы», «ничего не меняется, никто не меняется». Это напоминание о том, что всегда и везде человечество будет идти в поисках своей судьбы вдоль реки, на которой стоит мир.
Марина Степнова. Безбожный переулок
- Марина Степнова. Безбожный переулок. — Москва : АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 382 с.
Известная широкому кругу читателей романом «Женщины Лазаря», получившим бронзу на «Большой книге» и вошедшем в шорт-листы еще трех литературных премий, Марина Степнова написала новую книгу «Безбожный переулок». Ее главный герой Иван Огарев, врач и примерный семьянин, влюбляется в странную девушку, для которой главное – свобода от всего, в том числе и от самой жизни.
ГЛАВА 1
От Мали осталась только баклева.
Никто не знал, что это такое. Но вкусно.
Сто грецких орехов (дорого, конечно, но ничего не поделаешь — праздник) прокрутить через мясорубку. Железная, тяжеленная, на табуретке от нее предательская вмятина, ручка прокручивается с хищным хрустом, отдающим до самого плеча. Когда делаешь мясо на фарш, разбирать приходится минимум трижды. Жилы, намотавшиеся на пыточные ножи. Но орехи идут хорошо. Быстро.
Калорийных булочек за девять копеек — две с половиной.
Смуглые, почти квадратные, склеенные толстенькими боками. Темно-коричневая лаковая спинка. Если за 10 копеек, то с изюмом. Ненужную половинку — в рот, но не сразу, а нежничая, отщипывая по чуть-чуть. Некоторые еще любят со сливочным маслом, но это уже явно лишнее.
Смерть сосудам. На кухню приходит кошка, переполненная своими странными пищевыми аддикциями (зеленый горошек, ромашковый чай, как-то выпила тайком рюмку портвейна, наутро тяжко страдала). Почуяв изюм, орет требовательно, как болотный оппозиционер. Приходится делиться — но ничего, без изюма калорийные булочки даже вкуснее. Теперь таких больше не делают, а жаль. И кошка давно умерла.
Булочки надо перетереть руками, поэтому важно, чтобы были вчерашние, чуть подсохшие. Еще важнее не забыть и не слопать их с утра с чаем. Потому в хлебницу их, подальше, подальше от греха. Чревообъедение, любодеяние, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. Святитель Игнатий Брянчанинов. Бряцающий щит и меч святости. Прости мя, Господи, ибо аз есмь червь, аз есмь скот, а не человек, поношение человеков. Приятно познакомиться. Мне тоже. Протестанты, кстати, заменяют уныние ленью — и это многое объясняет. Очень многое. Ибо христианин, которому запрещено унывать, не брат христианину, которому запрещено бездельничать. И перерезанных, замученных, забитых во имя этого — легион.Аминь.
Конечно, булочки — это условность. Позднейшая выдумка. Чужие каляки-маляки поверх строгого канонического текста. Маргиналии на полях. Изначально был только мед, грецкие орехи, анисовые семена. Мускатный орех. Булочки приблудились в изгнании, да и не булочки, конечно, — хлеб. Вечная беднота. В ДНК проросший страх перед голодом. Супермаркеты Средиземноморья до сих пор полны сухарями всех видов и мастей. Рачительные крестьяне. Доедаем все, смахиваем в черствую ладонь даже самую малую крошку. А эти и вовсе были беженцы без малейшей надежды на подаяние. Какие уж тут булочки? Ссыпали в начинку все объедки, которые сумели выпросить или найти. Радовались будущему празднику. Готовились. Волновались.
Это мама придумала добавлять булочки? Мамина мама, может быть? Она говорила? Ты помнишь?
Смотрит в сторону. Ничего не говорит. Опять.
Ладно. Тогда варенье из роз.
Когда-то достать было невозможно в принципе. Только обзавестись южной родней, испортить себе кровь и нервы всеми этими хлопотливыми мансами, истошными ссорами навек, ликующими воплями, внезапными приездами всем кагалом или аулом (в понедельник, без предупреждения, в шесть тридцать утра). А Жужуночка наша замуж вышла, ты же помнишь Жужуну? Не помню и знать не хочу! Но вот из привезенного тряпья, из лопающихся чемоданов с ласковым лопотанием извлекается заветная баночка. Перетертые с сахаром розовые лепестки. Гладкая, едкая горечь. Вкус и аромат женщины. Но неужели нельзя было просто посылкой, божежтымой?!
Варенья из роз нужна столовая ложка — не больше, потому что…
Черт. Телефон.
Да, здравствуйте. Нет, вы поняли совершенно неправильно. В вашем случае уместнее три миллиона единиц, а не полтора. Нету? Значит, придется два раза по полтора. Сами знаете куда. Сочувствую.
Да. До свидания.
Итак, розы. Надо сразу признаться, что никакой южной крови и родни у меня нету. Я настолько русский, что это даже неприятно. Чистый спирт, ни на что совершенно не употребимый. Даже на дезинфекцию. Чтобы выпить или обработать рану, придется разбавить живой водой. Иначе сожжешь все к чертовой матери. В девяностошестипроцентной своей ипостаси спирт годен разве что для стерилизации. Неприятно осознавать себя стерильным. Неприятно осознавать себя вообще. Хоть капля другой крови придала бы моей жизни совсем другой смысл. Но — нет.
Позвольте представиться — Огарев Иван Сергеевич.Нет, не родственник того и не товарищ — этого.
Иван Сергеевич — тоже всего лишь пустая реминисценция.
Я врач.
Всего-навсего врач.