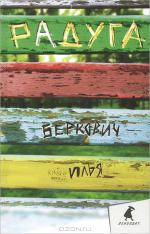- Марат Басыров. Печатная машина. — СПб.: Издательская группа «Лениздат», «Команда А», 2014. — 224 с.
0. КОСМОС
Мне было семь, и я сидел в пустом контейнере. Сидел, скорчившись в позе эмбриона на дне большого мусорного бака, и не знал, что мне делать дальше. За пределами моего убежища стояла ночь, наполненная запахами травы и земли, а моя голова кружилась от запаха гнили. Казалось, прошла вечность после того, как я оказался здесь, и эта вечность была пуста, как огромный помойный бак.
Зачем я залез сюда? Сейчас у меня не было ответа. Мне очень нужно было провести эту ночь в этом месте, и, забираясь в контейнер, я знал, что поступаю правильно. Теперь же меня одолевали сомнения.
Чтобы прогнать их прочь, я начал петь. Тихо-тихо напевать под нос песни, которые я слышал по радио и которые мы разучивали в школе. Песни о войне, о первопроходцах, о целинных землях, о героических подвигах и о тех, кого ждут дома матери и жены. Мне было немного зябко, я слегка продрог в этом вонючем баке. Хотелось домой, но я не решался открыть крышку и вылезти наружу.
Должно быть, мои родители уже несколько раз прочесали наш большой двор, заглянули во все потаенные его уголки. Обзвонили всех моих друзей, спрашивая, не у них ли я остался, не знают ли они, куда я пошел или куда собирался пойти, не говорил ли что-нибудь на этот счет. Я знал, что меня ждет утром, если я вернусь домой, и старался не думать об этом, но передо мной все время стояло заплаканное материнское лицо и растерянное лицо отца. Его кадык.
Вид кадыка был особенно неприятен. Острый, на красной шее, выпирающий из-под кожи каким-то злым несоответствием с окружающим. Упрямым уродством, которое нельзя полюбить. Вдруг я подумал, что мне совсем не обязательно возвращаться домой, что я могу пойти куда угодно, куда глаза глядят, если, конечно, не улечу…
Внезапно послышался какой-то шум. За бортом по ту сторону кто-то был.
Я прислушался к звукам. Они могли принадлежать Матросу — дворовому псу. Скорее всего, это он крутился возле контейнера, задевая его хвостом. Затем в металлический бок ударила струя. Как будто заправили ракету, готовя ее к запуску.
Этот бак мы с Арончиком присмотрели пару дней назад. Бак стоял отдельно от других и был пуст — в него почему-то никто не вываливал мусор.
— Это наша ракета, — сказал Арончик, заглядывая внутрь.
Я с сомнением оглядел емкость.
— Она полетит, — сказал он. — Не веришь?
Верил ли я? Мы договорились испытать ракету в одну из ближайших ночей. В те времена вся страна жила космическими полетами. Над нами постоянно кто-то кружил.
И вот я сидел здесь, а его не было.
Неужели Арончик испугался? Неужели обманул, и я, как последний дурак, повелся на обман? Неужели этот бак никогда не станет ракетой, хоть просиди в нем сто лет?
Эти мысли рождали тоску. Ничего не происходило. Я чего-то ждал: если не самого полета, то хотя бы намека, что он возможен. Но мир был тих, а его тишина — обычна.
Время шло очень медленно. Казалось, я сижу здесь очень давно, и эту давность ничем нельзя было измерить. Только, наверно, песнями и стихами. И я пел, глотая слезы.
Я не заметил момента, когда начал плакать. Слезы потекли сами собой, и в этом не было стыда. Они немного мешали петь, но скоро я к ним привык. Это можно было сравнить с экстазом, если бы не страх, мешавший мне раствориться в происходящем.
В те часы я остро ощутил свое одиночество. Впервые в жизни я испробовал это на вкус. Все чувства, испытанные до этого момента, были стерты космической пустотой. Не зная ничего о ней, я почувствовал ее у себя внутри. Не я взлетел в космос, а космос провалился в меня. Ноги давно затекли и онемели, болела спина, в голове было пусто. Мне хотелось разрушить это наваждение, но я не мог даже пошевелиться. Наконец, терпеть стало невыносимо. Я попробовал встать и откинуть крышку, но она почему-то не поддавалась. Бак не хотел открываться. Космос поглотил меня и не собирался выпускать. Я стал его пленником…
1. КАЛЕЙДОСКОП
Когда мне становилось тоскливо до тошноты, я доставал свой маленький калейдоскоп, который мне подарила тетя Люда — родная сестра отца. В такие минуты обычная пустая забава превращалась в магическое действо, с помощью которого можно было разглядеть картинки своего будущего. Я вертел картонный цилиндр, всматриваясь в разноцветный узор надвигающейся жизни, сакральная геометрия которой завораживала меня настолько, что все остальное тут же оказывалось далеко за моей спиной — со всей его кажущейся никчемностью и пустотой. При большом желании я даже мог разглядеть лица тех, кто будет сопровождать меня по жизни через много лет, или же распознать череду событий, складывающихся благодаря движениям моих пальцев. Поднося окуляр к глазу, я превращался в астронома, открывающего новую, неизвестную звезду и тут же дающего ей свое имя.
Именно в калейдоскоп я разглядел свою соседку по этажу Жанку, с которой к тому же сидел за одной партой. Разглядел и две цифры — тридцать семь, но что они означали, оставалось пока загадкой.
Нам было по восемь лет, мы вместе ходили в школу, сидели на уроках, а потом возвращались домой, по пути заходя в хлебный магазин. Она научила меня воровать ванильные булочки. Мы кружили по небольшому залу между лотков с различными хлебобулочными изделиями, выбирая те, которые нам улыбались. Жанка открыла мне нехитрый секрет: если булочка подмигивала тебе, значит, ее легко можно было прятать в карман, и ни одна толстая тетка с белым колпаком на голове, пристально наблюдающая за тобой, ни за что не заметит твоей уловки. Ворованные булки сладко пахли чем-то запретным и были вкуснее обычных, в чьем вкусе отсутствовал тонкий и острый аромат грехопадения.
Родители Жанки дружили с моими, по-соседски заходя по нескольку раз на дню. Особенно старалась ее мать, тетя Лика, маленькая заполошная женщина с извечным платком на голове, повязанным на пиратский манер. Что-то хищное было и в ее набегах — каждый раз она уносила с собой то соль, то спички, то какую-нибудь кастрюлю или моток ниток, словом, все, чего не могла найти в своем собственном доме. Каждый раз тетя Лика брала нашу квартиру на абордаж и стремительно скрывалась за дверью, унося очередную добычу. Моя мать лишь качала головой, поражаясь эдакой хитрованской простоте, которая была бы милой, если бы не повторялась так часто.
Отец моей подружки, дядя Дамир, в этом смысле был полной противоположностью своей жены, и все то, что пропадало после ее визитов, с таким же постоянством возвращалось с его нечастыми появлениями. Обычно он сидел с отцом на кухне, они курили у раскрытого окна и тихо разговаривали. Дядя Дамир был похож на закопченного морскими ветрами боцмана — темное морщинистое лицо, борода и коренастая фигура, — и вместе с тем проявляющиеся внезапно во время разговора персидские мотивы в его чертах — особенный прищур, изгиб губ, хитрый блеск черных глаз — делали его похожим и на визиря из восточных сказок. Как и мой отец, он был страстным рыболовом. Его руки и плечи были украшены причудливыми татуировками разных рыб. Глядя на него, можно было представить, что перед тобой сидит живой аквариум и стоит только прикоснуться к его теплому стеклу, как рыбки тотчас врассыпную прыснут от твоего пальца. Полубоцман, полувизирь — он был невероятно притягателен. Рядом с ним мой отец выглядел довольно простодушно, хотя и пытался синим якорем на тыльной стороне ладони не отставать от соседа. Но тщетно. В моих глазах он проигрывал дяде Дамиру вчистую.
Именно он однажды сказал мне такое, что поразило меня и что я запомнил на всю жизнь. На мое замечание, что скоро наступит осень и придется вновь идти в школу, он сказал:
— Это для тебя. А вот я в этой осени живу постоянно.
Потом он объяснил. До двадцати лет он жил исключительно весной, не зная других времен года — на дворе всегда таял снег, звенела капель, текли ручьи и лопались на деревьях почки, выпуская первую листву. Затем настал черед лета, и оно продолжалось также двадцать лет. Целых двадцать лет изумительного лета! Когда дядя Дамир, привыкший к яркому солнцу и теплым лунным ночам, уже думал, что так будет всегда, вдруг пришла осень. Подул холодный ветер, и зарядили дожди. Начала жухнуть трава и опадать листья. Настала осень, брат!
Я сидел напротив него, и мне казалось, что он смеется надо мной.
— А сейчас? — спросил я, глядя на синее небо в окне за его спиной. — Разве сейчас идет дождь?
Дядя Дамир усмехнулся.
— Осенью не обязательно идут дожди. И в ней тоже бывают прекрасные дни, такие же, как сейчас.
— Что же будет потом? — снова спросил я, уже догадываясь, каким будет ответ.
— Потом придет зима, — развел он руками, и рыбки метнулись кто куда, но одна, самая маленькая, сорвалась и упала на пол.
Я бросился на колени и, собрав ладони лодочкой, подхватил с пола ее прохладное невесомое тельце.
— Что упало — то пропало, — улыбнулся сосед, когда я протянул ему сомкнутые ладони. — Дарю.Жанка тоже была выдумщицей. Она рассказывала мне жуткие истории: например, про отрубленные пальцы космонавта. Он потерял их в тот самый момент, когда, захлопывая за собой ракетный люк, не успел убрать руку. Потом эти пальцы долго ползали по земле, дожидаясь возвращения хозяина, а когда он, наконец, вернулся, они нашли его и задушили.
— Как пальцы могли его задушить? — пытаясь казаться насмешливым, спросил я.
— Очень просто, — ответила Жанка. — Два пальца залезли в нос, пока остальные два зажимали рот.
И она вскинула руку к моему лицу, растопырив свои тонкие длинные пальцы. Что-то в этом было пугающее, честное слово, в этой вечно липкой от конфет ладони. Я гадал, зачем пальцам понадобилось убивать космонавта? Может быть, потому, что он не взял их в космос, и их душила обида? Но ведь это случилось не по его вине, и ему наверняка тоже не хватало их там, на космической орбите. Потом вдруг во мне что-то щелкнуло, и я сопоставил два этих похожих друг на друга слова. Я поменял их местами, и вот что получилось: их душила орбита, его орбита, и поэтому они испытывали космическую обиду. Додумавшись до такого, я побежал к Жанке поделиться догадкой. Вышел на площадку и позвонил в дверь.
— Ты дурак, — сказала она после моих взволнованных слов.
«Дать ей, что ли, в лоб?» — подумал я, сжимая кулаки.
Но Жанка была сметлива. Она тут же прочла в моих глазах угрозу.
— Хочешь, что-то тебе покажу? — заискивающим голосом, сбивая мой настрой, проговорила она. И, не дожидаясь ответа, пошла в комнату, бросив на ходу: — Пойдем.
Я поплелся за ней, чувствуя, как растворяется моя злость. В квартире, кроме нас, никого не было. Она села на диван, заправленный черным бархатным покрывалом, и подняла на меня глаза.
— Так ты хочешь? — повторила она.
— Что? — не понял я.
Ее губы дрогнули в еле заметной улыбке, она взялась за подол платья и медленно потянула его наверх. Показались трусики. Минуту я смотрел на их белизну, потом, сглотнув, сказал:
— Покажи дальше.
Жанкины пальцы были похожи на пальцы космонавта. Я внутренне дрожал, как перед стартом.
— А ты? — выдохнула она. — Ты тоже мне покажешь?
— Да, — выговорил я, ничего не соображая.
У меня перехватило дыхание. — Все, что хочешь.
Она помедлила, потом просунула палец за край белой ткани и оттянула ее.
Я смотрел, завороженный увиденным. Потом сделал шаг.
— Не трогай, — предупредила Жанка.
Я присел на корточки. Передо мной во всей беспощадности раскрылась нежно розовеющая плоть.
— Что? — мне почудилось, она говорит. Я приблизился почти вплотную.
— Ты дурак, — повторила она.
Метка: Лениздат
Илья Беркович. Радуга
- Илья Беркович. Радуга. — СПб.: Издательская группа «Лениздат», «Команда А», 2014. — 224 с.
Поэт и прозаик Илья Беркович родился в Ленинграде, но уже почти четверть века живет в маленьком городке в Иудее, где зарабатывает на жизнь переплетным делом. Герой его повести «Радуга» — писатель, разбирающий записки друга юности, из которых рождаются пронзительные и до мелочей точные воспоминания о ленинградской окраине 1970-х.
4
На последней странице журнала чернел электронный адрес редакции, но для Козлевича это было, как сложить из листов с рассказами кораблики и пустить их в водосточную трубу.
С текстами в прозрачном пакете Козлевич пришел на презентацию нового номера.
Люди в фойе кучковались, обнимались, высокий седокудрый дядя и женщина с бледным, как бы слепым лицом метнули друг в друга взгляды и демонстративно не поздоровались.
— Лио-ора пришла, краси-ивая, — протянули сбоку.
Все знали друг друга. Только Козлевич был чужой. Он робко занял место на камчатке, у стены. Ряды затылков перед ним были седыми и лысыми. Козлевич не подумал, как выглядит сзади его собственная голова. Вообще, народ в зале собрался видный, пузатый, по-южному уверенный, с крупны ми носами, выпуклыми глаз ми и рельефными морщинами, не было ни липковолосых литбомжей в старых джинсах, ни худых поэтических старушонок.
Вечер напоминал поездку в машине времени, двигавшейся возвратно-поступательно: туда-сюда. Физик и лирик в песне энергичного барда из Беер-Шевы спорили, что же все-таки первично — материя или дух? Дама в синем костюме, с манерами администратора среднего звена, читала рассказ, который мог бы написать вылеченный антидепрессантами Достоевский.
Пели песни военных лет (дело было под 9 мая). Затем на сцену поднялся рослый человек, представился Андреем и начал рассказывать о недавно умершем своем и журнала друге Володе. Под потолком, над сценой, висели деревянные рамы. Будь Андрей сантиметров на десять выше, его лицо угодило бы в раму. А так рама или, скорее, рамка заслоняла ему подбородок, нос и глаза. Виден был только полуседой чуб. Впрочем, долго говорить Андрею не дали. Маленький человек скоро начал сгонять оратора — и согнал. Тут Козлевич понял, что это и есть хозяин журнала. Он, а не сидевшая рядом с ним за столом ведущих дама в синем костюме. Козлевич обрадовался: дама внушала ему робость, а маленький человек нравился: он откровенно не заботился о своем виде и достоинстве, а только о том, как идет вечер. И вечер, благодаря его рулю, шел живо и гладко.
Козлевич, однако, искал глазами протекции. Протекция нашлась: у каждого русского еврея есть хоть один знакомый литератор. Козлевич был представлен редактору, который, не чинясь, взял у него па кет.
На следующую презентацию Козлевич пришел уже автором, одним из тридцати «напечатанных». На сцену он не полез, но приободрился и за месяц написал еще несколько коротких рассказов. Рассказы были о виденном и слышанном. О новой округе.
О взрыве, от которого проснулся. Подумал: что за диверсии ночью? Спать! И заснул. На завтра (был выходной) пошел в торговый центр за хлебом. Вместо единственного в квартале бара чернел горелый пролом. Бар был вырван, как гнилой зуб. Портреты Элвиса Пресли, полка с пыльной бутылкой виски, стойка, за которой причесанный под Элвиса пожилой, до смерти недовольный судьбой юноша в джинсах и кожанке, вздыхая, продавал сосиски и сигареты, исчезли. Над развалинами курились разговоры зевак:
— Люди не хотят работать. Хотят легких денег.
— Взрывал бы сам свой бар. А то нанял солдата, солдат обжегся и все в больнице рассказал.
— Вместо страховки будет сидеть.
Зеваки не понимали, что хозяину бара было все равно. Взорвалась калифорнийская меч та. Мечта, привезенная им из Калифорнии, вздулась и лопнула в нашем квартале, где ни кто не подъезжает к бару в открытой красной машине и не заказывает двойной Jack Daniels, а все ходят мимо в шлепанцах, лузгают семечки и покупают билеты «Спортлото».
Неделю душа мечты висела на месте взорванного бара, а потом расчищенный, оштукатуренный пролом заняла фалафельная лавка, сидя перед которой хозяин и бывший таксист Жожо громко играли в кости.
Следующий рассказ звался «Победа управдома»:
«— Я знаю только, что у царицы проблемы, — сказала женщина в кофте с широкими рукавами и капюшоном, по самые очки закутанная в белую шаль.
— При чем тут царица? — спросил жилец Натанзон, фотографируя лужу на газоне вокруг прорванной трубы.
— Вы, русские, не понимаете ничего!
— Объясни, может, поймем.
— Если к вечеру в доме не будет воды, царица Суббота окажется в изгнании!
— Заплати, — подступил к женщине управдом, — и к Субботе трубу починят!
— Как я заплачу? Я должна спросить раз решения у мужа, а муж в Шомроне!
— Так позвони мужу!
— Как я позвоню? Я могу только отвечать на звонки. Я заблокировала свой мобильник, чтобы не злословить. Злословие убивает душу.
— Вот тебе мой мобильник!
— Я знаю только одно. Без воды в Субботу я не буду в своем доме царицей. Я буду грязной служанкой…»
Потом Козлевич описал ночное купе поезда Лондон — Париж и гневную речь Вовы Раскина над телом в жопу пьяного брата Сени:
«— Ты что мне, дворняга, наделал? Я поехал-то в эту Европу, что бы доказать: если за границу съезжу, значит, я уже не совок. А теперь ты, дворняга, при всех нажрался, выходит, опять мы с тобой совки?!»
Козлевич направлял лупу на участочки, сегменты действительности. Освещенные его вниманием места и предметы увеличивались, нагревались, казалось — сейчас над ними начнет куриться дымок. После описания места темнели, гасли, становились неинтересными и навсегда сливались с окружающим. Козлевич изучил свой квартал до бродячих собак и кошек, он знал, у кого из соседей что болит, и вплетал в свои описания обрывки их разговоров, а все-таки чувствовал, что знает недостаточно, извне. Недаром он назвал свой цикл «Вижу из окна». Козлевич стал задумываться: «А что я, собственно, знаю изнутри?»
И, сняв ботинки, он вошел сначала по щиколотку, потом по колено, потом по пояс в реку прежней жизни, которая течет в голове каждого эмигранта. Река эта протекает через Уткину заводь, откуда сотрудники уезжали в колхоз, через институтскую курилку, она течет мимо деревянных грибов детского сада. Все слои прежней жизни в ней смешиваются, но дома остаются прежними, и люди не стареют. И, ныряя в прошлое, шаря руками по его дну, Козлевич заметил, что вода стала мутной, как разбавленный арак. Он не видел, не помнил подробностей. Их придется придумывать, долепливать. Но если готовых, цельных слоев воспоминаний нет, если тяжелая работа неизбежна, надо выбрать для реставрации главное время, главный слой. Козлевич выбрал раннюю юность. Выбрал, чтобы понять.
И еще: Козлевич подсознательно надеялся, что если он опишет, то есть осветит и согреет, родной ленинградский микрорайон, то потом тот остынет, померкнет и оставит, наконец, Козлевича в покое. И Козлевич сможет сосредоточиться на иерусалимском районе, в котором живет сейчас, и перестанет, огибая деревья прошлого, натыкаться на фонарные столбы настоящего.
5
Козлевич полез под диван, где в кожаном черном бауле лежали тетради и папки. Просмотрел со стыдом бесполезные для начатого дела юношеские стихи. Почитал свои фальшивые от неловкости дневниковые записи, которые торчали, как чучела, не способные даже коснуться растопыренными подобиями рук пронзительного воздуха юности. Развязав серые, вялые, как макароны, шнурки, открыл папку из дрянного картона. В папке лежали примерно пятьдесят исписанных чужим почерком листов. Листы эти не были ни подсунуты Козлевичу под дверь, ни выброшены на берег моря в литровой, запечатанной сургучом бутылке, их не прислали в конверте без обратного адреса. Козлевич получил рукопись при совершенно обычных обстоятельствах. Эти записки девятнадцать лет назад в пьяном виде передал Козлевичу друг его юности Вова Ложкин. Никто никогда не относился всерьез к каракулям желтолицего, к двадцати годам спившегося Вовы, который не знал запятых и часто употреблял слово «если б». И Козлевич вроде не относился. Но он девятнадцать лет хранил папку, привез ее в Израиль и сейчас закрыл усталые от чтения слепой рукописи глаза и увидел мерцающий, пунктирный очерк будущей повести.
Ложкин писал эссе, реже — сюжетные отрывки о юной жизни. Надо было построить из них связную вещь. Козлевич, по образованию проектировщик мостов и тоннелей, не испугался. Какие-то куски он соединил аккуратным мостиком, где-то прорыл тоннель.
Многого не хватало. Строилось гораздо сложнее, чем соединялось: Ложкин был мыслитель, Козлевич — всего лишь стилист, а писать приходилось под Ложкина. Ложкин был (якобы) человек из народа.Козлевич, интеллигент и еврей, считал его настоящим, а себя — нет. Видя, что стилизация выходит грубо, Козлевич начал заменять тексты Ложкина своими. Его постройки стали теснить ложкинские, и в готовом виде повесть походила на лондонскую улицу, куда туристов водят смотреть XVI век, хотя домов XVI века осталось пять, и их узкие породистые фасады стиснуты широкими и безликими домами девятнадцатого, как парусники льдами.
Доведя текст до неплохой однородности, Козлевич стал думать, куда бы его пристроить. Ему показалось, что написанное о России лучше в России и печатать.
Нина Федорова. Уйти по воде
- Нина Федорова. Уйти по воде. — СПб.: Издательская группа «Лениздат», «Команда А», 2013. — 288 с.
Неделя о Фоме
I
Они вернулись с юга в пыльную августовскую Москву, с поезда их встречал один из приходских друзей, и Катя, сидя в чужой машине и глядя в окно, с непривычки поражалась — какая же Москва гигантская! После жизни в маленьком городке у моря, где они отдыхали до середины августа, она успела отвыкнуть от широких улиц и высоких домов, но радости возвращения не чувствовала — ей не хотелось уезжать оттуда, из затерянного между горами и морем мира. Там было так хорошо и спокойно, и уже на вокзале, куда по горной опасной дороге доставил их усатый мрачный таксист, она знала, что прощается не только с узкими улочками, маленькими домами и морским ветром, она прощалась как будто со всей своей прошлой жизнью. Никогда уже не будет так, как прежде, — вот что она чувствовала, вспомнив вдруг Наташу Ростову и Николая, возвращавшихся домой после святочных гуляний, тогда Наташа тоже сказала брату — никогда не будет уже так, как прежде, — потому что предчувствовала беду.
Это чувство прощания не покидало ее все три коротеньких, быстрых летних недели, которые она прожила с родителями, Аней и Ильей на юге, она жила, наслаждаясь каждым днем, ценя каждое мгновение, и осознавала уже тогда — никогда. Никогда больше не будет утренних купаний, вечерней партии в шахматы с папой, акунинских детективов, которые они с родителями вырывали друг у друга и читали по очереди; не будет скрипучих неудобных кроватей, болтовни с Аней и Ильей перед сном, теплых южных ночей и низкого звездного неба, сочности бархатных персиков, сладости винограда… Не будет той радости, которую она испытывала на равных с младшими от конной прогулки по горам, от купания в солнечной дорожке, от соленого ветра и высоких волн. Не будет больше никогда той смеси детства и взрослости, той чистоты и простоты, которые были с ней в маленьком южном городе, куда из Москвы не долетали вести и где она была полностью оторвана от своего привычно го мира, как будто пожила недолго жизнью совсем другой девочки — очень, кстати, счастливой.
Но жизнь эта кончилась, и Катя все никак не могла загнать себя обратно, в привычные рамки обыденной своей жизни: впереди маячил московский август, потом университет, страшно было даже думать — четвертый курс уже, впереди ждали еще перемены — это она тоже чувствовала, потому что иначе быть не могло, перемены назрели в ней уже давно.
Вернувшись в Москву, она чувствовала, что ее болезненно раздражает буквально все — привычный вид из окна на серый двор и играющих в футбол мальчишек, духота четырех стен, пыль на книжных полках, сваленные в кучу на столе тетради, чахлая черемуха под окном, необходимость входить опять в колею, что-то решать, что-то делать, как-то дальше жить привычной, набившей уже оскомину жизнью, в которой будет ли теперь Бог?
Ее не покидало ощущение, что мир вокруг рушится, хотя он оставался, разумеется, неизменным, даже надоедливо статичным, ей было душно и плохо в этих рамках, и невозможность больше жить так, как прежде, отзывалась в ней сильной болью, почти физической, невыносимой.
Как теперь она будет жить, для чего и зачем? Радости больше не было, смысла тоже. Как ходить в храм, когда она уже знала, как бывает по-настоящему (и по-настоящему ли это было?), как стать прежней, после всего, что она испытала: это же неизбежная ложь самой себе?
Родители засобирались на дачу, хотели, как обычно, прожить там весь оставшийся август, но сейчас Катю дача ужасала — эту размеренную жизнь, которая всегда так ей нравилась и казалась такой уютной раньше, теперь она бы не смогла вынести. Напряжение между Катей и родителями росло со дня приезда в Москву: конечно, они почувствовали ее протест и внутреннее раздражение, и это, в свою очередь, их раздражало. Они начали спорить из-за ерунды и придираться друг к другу, поэтому, чтобы не поссориться окончательно, Катя придумала, что ей нужно пройти практику в университете и на дачу она поехать не сможет.
Отчасти это было правдой, она собиралась съездить в университет, узнать, что за практика ей полагается после третьего курса, но прежняя Катя попросила бы дать ей задание на дом и поехала бы на дачу, набивать на компьютере тексты, сидеть по вечерам с родителями у костра, разглядывая звезды, кормить ежика, который прибегал на летнюю кухню, смешно фукал, при малейшем шорохе сворачивался клубком, а однажды попался в мышеловку и от страха никак не давал себя освободить.
Теперь все это умиротворение только раздражало, ей хотелось остаться одной, хотелось, чтобы все ушли и никто ее не трогал, не загонял в рамки, не требовал, не нудел над ухом, что нужно разобрать шкаф и прочитать список по литературе — ее это злило, не маленькая все же, четвертый курс, сама решу, что читать и что выкидывать, но когда родители уехали, она, выйдя помахать им с балкона, почувствовала неожиданную пустоту и даже заплакала, глядя вслед уезжающей машине.
II
Накопившееся глухое раздражение и боль должны были как-то прорваться и прорвались. На следующий день ей позвонила Варвара, предложила сходить в кино на «Ночной дозор», все тогда говорили «удивительное кино», писали, что это что-то небывалое, такого в России еще не снимали. Они встретились с Варей, болтали, смеялись, опоздали в кино, пришли не к началу и ничего не поняли — обе были настроены как-то истерически, смеялись без причины и решили, что фильм — фигня и вообще какой-то наркоманский. Расставаться не хотелось, они пошли в «Макдональдс», Катя рассказывала, как жила на юге, Варя — о том, как училась в автошколе и как на нее орал инструктор, который ждал от нее взятки, а она не понимала, как ее давать, ужасно смущалась и не знала, куда деваться от стыда.
Было уже поздно, Кате не хотелось домой, в пустую квартиру, и Варе не хотелось — у нее родители тоже были на даче, тогда они решили поехать к Варе ночевать, к ней было ближе.
По дороге они купили пива и сигарет. Варе захотелось выпить, у Кати от смеха и болтовни слегка кружилась голова, все было как-то легко и отчаянно: предложение выпить ей неожиданно понравилось.
Было немного страшно, ведь она совершала преступление, это был грех, совершенно явный, но ее будоражило ощущение совершающегося беззакония — сейчас они будут выпивать, а может, даже курить, она, Катя, православная девочка, с детства в храме, из воцерковленной семьи, духовное чадо отца Митрофана, будет пить пиво и курить сигареты.
«Что сказал бы на это Олег Благовольский?» — вспомнила она свою старинную присказку и разразилась — как ей показалось — развратным хохотом. Она почувствовала неожиданную легкость, ей захотелось назло себе, назло всем, сделать это — напиться первый раз в жизни, закурить, стать «падшей женщиной». Если у нее не получилось быть «хорошей», раз это так сложно, невозможно просто — ладно, она станет тогда плохой! Немедленно, немедленно стать другой, противоположностью себе прежней, ведь все равно рушится мир — так пусть до конца, надо разрушить его самой, разорвать руками, выпустить наружу мятущуюся душу.
Они сидели на полу у Варвары в комнате, горела только настольная лампа, и полумрак совершающегося Катиного падения был уютным и ласковым. Пили пиво, Кате казалось, что хуже ей уже быть не может, и от этого было очень весело. Они выпили много — целая батарея пивных банок выстроилась от стола до дивана, курили на балконе — у Вари был четырнадцатый этаж, поэтому Катю, с легкой и звенящей от выпитого головой, не покидало ощущение, что она парит между небом и землей.
Окурки летели вниз падучими звездами, Катя следила за красненькими огоньками, как они гаснут, не достигнув земли, где-то в районе восьмого этажа, роняя иногда веселые искорки; было прохладно и моросил дождь, Варя принесла куртки с капюшонами, обе пьяно смеялись: похожи на ночной дозор.
Варя рассказывала, что встречается с мужчиной ему уже за тридцать, конечно, продолжения быть не может, но пусть хоть так, так проще — и так странно она смотрелась в этом надвинутом на лоб капюшоне с мрачно горящими глазами, в самом деле — ночной дозор.
В голове у Кати был туман, она долго не могла найти даже дверь в ванную, и отчаяние куда-то ушло, единственное, что беспокоило — кончилось пиво. Впрочем, пора было спать, а не идти за пивом: часы показывали уже половину пятого утра, а Варя вдруг вспомнила, что на следующий день запланированы какие-то неотложные дела.
Они уснули, привалившись друг к другу, на не застеленном диване, и Катя с пьяной слезой, прежде чем провалиться в хмельной сон, подумала — мне плевать на все, на всю свою жизнь, на все из прежнего. Просто наплевать.
Ленинградцы. Блокадные дневники
- Ленинградцы. Блокадные дневники из фондов государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. — СПб.: Лениздат, 2014. — 704 с.
Вступление
Блокада из первых уст
Ирина Муравьева Музей обороны Ленинграда, созданный в годы войны, — с началом «ленинградского дела», в 1949 году, был закрыт, а в 1952 году ликвидирован.
Спустя сорок лет, в 1989 году, Музей обороны Ленинграда был возрожден. И с первых же дней в его фонды, наравне с другими экспонатами, ленинградцы начали приносить дневники и воспоминания блокадников и защитников города: рукописные и перепечатанные, фотокопии и ксерокопии. Их приносили сами авторы, пережившие блокаду, или их дети, родственники, знакомые, соседи. Иногда тетрадки с дневниками и воспоминаниями люди оставляли на вахте музея, не приложив свой номер телефона или адрес. Прошло двадцать пять лет, а документы войны и блокады все продолжают поступать в музей. Вместе с сотнями военных писем они хранятся в рукописно- документальном фонде музея. Иногда экспонируются на выставках, посвященных войне и блокаде.
Взрослые и дети, мужчины и женщины, военные и гражданские фиксировали свое восприятие событий, свои переживания, свое видение происходящего. Лаконичные и подробные, с рисунками и табличками, в маленьких блокнотиках, в тетрадях, альбомах и гроссбухах, с фотографиями, вырезками из газет и приложенными документами, эти дневники — бесценные документы эпохи. Они позволяют не просто полнее и подробнее узнать историю блокады, но практически стать ее свидетелем в настоящем времени.
Большинство рукописных дневников трудны для чтения: истлевшие листки, выцветшие чернила или карандаш, неразборчивый почерк автора. Перевод текста из рукописи в печатный вид необычайно кропотливый труд, требующий множества часов, дней, месяцев.
Писать умеют все, а дневники ведут лишь некоторые. Почему ведут дневники? Зачем? Одни делают это всю жизнь, другие долго собираются, размышляют, постепенно втягиваются. Третьих толкают на это сильные душевные переживания, стрессы. Кому-то достаточно одной-двух строчек, чтобы описать накопившееся в душе. Другие пишут очень подробно.
Авторы дневников, собранных в этой книге, начали писать их в первые дни войны или немного позже. Но ясно, что именно война и блокада, невероятность нахлынувших переживаний, их небывалость — заставляли людей взяться за дневник. В этих записях чувствуется огромная потребность излагать пережитое, осмысливать происходящее, оставлять для памяти отдельные факты.Держа в руках чужой дневник, невольно задумываешься, хотел ли автор делать его достоянием гласности? Имеем ли мы право на публикацию?
Но скоро убеждаешься: автор хотел, чтобы дневник был прочитан. Более того, некоторые фразы, порой прямые обращения к будущему читателю, указывают на то, что и писались дневники для того, чтобы передать близким, детям, потомкам — нам — исключительный, ни с чем не сравнимый блокадный опыт.
«Тот, кому придется знакомиться с этими записками, особенно не бывшими в этот период в городе, — не будет верить всем этим диким фактам, свидетелями коих являемся мы. <…> Сегодня пишу потому, что хочется с кем-то поделиться своими моральными переживаниями. Невыносимо их таить в себе» (И. В. Назимов).
«В эту книгу мы запишем все, что пережили ленинградцы, Котя, папа и мама в дни Великой Отечественной войны. Пусть со страниц книги будет вырываться вой сирены, свист летящих бомб, грохот разрыва фугасок и змеиный посвист снарядов, уродующих наши любимые улицы, дома, наши родные ленинградские очаги, пусть со страниц ее слышится плач детей, осиротевших зимою 1941–1942 года, стоны засыпанных при бомбежках граждан города, напоминая о великой священной мести ненавистному врагу, разжигая пламя ненависти к проклятому фашизму» (К. В. Мосолов).
«Проснулся, выглянул из-под одеяла. Холодно. И быстро опять с головой закрылся. Но подумал, что надо писать дневник, и быстро встал. Вечером писать плохо, потому что полно народу и могут помешать. А сейчас никто не помешает» (Боря Капранов).
В этой книге опубликовано семь дневников: дневник главного инженера 8-й (Дубровской) ГЭС, одной из крупнейших в СССР, — Льва Ходоркова; дневник заведующего райздравотделом Кировского района Израиля Назимова; дневник лектора Политотдела 42-й Армии Владимира Ге; дневник дознавателя военной Комендатуры Ленинградского гарнизона Владимира Кузнецова; дневник преподавателя ремесленного училища при Адмиралтейском заводе Константина Мосолова; небольшой, в основном состоящий из цитат дневник цензора Софьи Неклюдовой и дневник шестнадцатилетнего бойца противопожарного полка Бори Капранова. Также в эту книгу вошли воспоминания Зинаиды Кузнецовой. 22 июня 1941 года ей исполнилось 13 лет. Именно с этого дня начинаются ее воспоминания, по точности и яркости описываемых событий больше похожие на дневник. Кажется, что спустя десятилетия Зина, как сквозь стену, прошла в свою блокаду.
Эти две «детские» истории занимают в книге особое место.
Потертая тетрадь с пожелтевшими, рассыпающимися листами. На первых страницах рисунки: Кремль, юный барабанщик времен наполеоновских войн, копии плакатов Гальбы и Муратова. Неустоявшийся почерк школьника. Это дневник Бори Капранова. Два с половиной месяца блокадной жизни, с 14 октября 1941 года по 1 января 1942 года. Но какие это месяцы! Вынужденный уход семьи из родного дома в Колпине, комсомольский противопожарный полк, Военно-морское политическое училище… И кошмар декабря 1941 года в общежитии для эвакуированных на улице Салтыкова-Щедрина.
Борин дневник — это трагедия, в которой душевные муки оказываются зачастую сильнее физических мук от голода и холода. Мальчик пишет о том, что никогда не забудет 1941-й год. Но помнить ту страшную для него зиму будем вместо него — мы, потому что в феврале 1942 года, уже в эвакуации, Боря Капранов умрет.
Тринадцатилетняя Зина Кузнецова. Маленький «стойкий оловянный солдатик», она берет на себя заботу о матери.
«У меня была мысль: если меня убьют, мама умрет с голода. Когда обстрел кончился, я стала выбираться и не могла, но боролась. Сделала маленькие ступеньки и вылезла. Нашла я там кочерыжек 4–5 штук и 2–3 листа. Я так была рада, что выбралась и принесу маме обед. Уже стемнело, а идти далеко. Но к ночи добралась. Пришла, а мама почти не дышит…»
«Дома меня заставала горькая картина. Мама почти всегда лежала в полузабытьи. Я доставала свой сбереженный паек и скорей старалась положить ей в рот. Масло разогревала и тоже ей в рот лила. Она через некоторое время оживала и узнавала меня».
Машинописный вариант дневника Льва Абрамовича Ходоркова принес в музей его сын, Ходорков Илья Львович. От деятельности Ходоркова, без преувеличения, зависела жизнь города. Первые записи сделаны сухим телеграфным стилем. Отмечены наиболее важные факты, хронология событий. Чувствуется сильнейшая потребность автора зафиксировать все происходящее.
Из дневника мы узнаем, как и в каких условиях ленинградские энергетики боролись за каждую станцию для того, чтобы могли работать хлебозаводы, чтобы в дома хоть изредка поступала вода, чтобы работали станки.«Сильный мороз. Заморозили паропровод и водяной экономайзер котла No 3. У начальника цеха собрались ИТР. Даю указание, что делать. Входит Воронцов — в соседней комнате умирает кочегар. Мы не прерываем своих занятий. Буфетчица. С лопающимся от жира лицом, со смешком говорит: „Где тут умирающий, пусть перед смертью поест суп“. Все мерзнет. Надо спасать оборудование». «Сердце разрывается смотреть, что делается с нашими людьми. Золотые люди, выросшие в течение 10–20 лет, гибнут». «Замерз водопровод, нет света, не работает уборная, бани, голод, кругом больные, голодные, мертвые».
Станцию, находившуюся в прямой видимости фашистов, разрушали обстрелы и бомбежки, но она продолжала работу, и в этом немалая заслуга Льва Ходоркова.
Дневник Константина Васильевича Мосолова начинается в 1943 году. Он не имеет права писать о работе оборонного предприятия, поэтому только некоторые факты говорят нам о напряженной жизни завода. Дневник ведет вместе с шестилетним сыном Котей.«Осколки сыпались с неба, как горох, и стучали по крыше, стенам, по мостовой двора. Светили прожектора. В 0.10 стало потише, и мы снова поднялись домой. Котя рисует, мама читает книгу, папа записывает. Спать ложиться немного рано — тревога серьезная, с музыкой. Во время тревог и обстрелов заниматься чем-нибудь, вроде работы, трудно, особенно ночью, а поэтому пишешь в эту тетрадь». Но спокойствие этих записей — кажущееся: «Наверное, у нас у всех тихое помешательство на почве сиюминутного ожидания нависшей, как над баранами, смерти, и в продолжение долгого времени».
О том, как Мосолову далась первая блокадная зима, без слов говорят его фотографии. На снимках мая 1941 года и декабря 1942 года два абсолютно разных человека.
От деятельности Израиля Вениаминовича Назимова также зависела жизнь тысяч людей. Назимов — врач. Натуралистичность его описаний порой ужасает, но он, как и другие авторы дневников, — только фиксирует факты.
Назимов работает в самом опасном районе Ленинграда — Кировском, который находился почти на линии фронта. Не случайно жители проспекта Стачек говорили: «Живем на одной улице с немцами».
Дневник Назимова наполнен поисками возможности спасти людей и город, облегчить жизнь страдающим ленинградцам. Дневник Владимира Васильевича Кузнецова уникальный в своем роде: в нем рассказывается о работе гарнизонной комендатуры. С этой стороной военных будней мы сталкиваемся впервые. Такой дневник — большая удача для исследователей блокады. Дневник рассказывает о борьбе с дезертирством и воинскими преступлениями. Ежедневно сталкиваясь с действиями, попадающими под строгие наказания — штрафроты, тюремные сроки, — В. В. Кузнецов не озлобился и даже пытается понять причины проступков: «<…> За все время это первый настоящий дезертир. Все остальные — это все-таки не трусы. Это были пьяницы, влюбленные, тоскующие по семьям или не желающие служить там, где они служили». Но есть и жесткие строки: «Позавчера на ПРБ, перед строем расстреляли пятерых, наиболее квалифицированных дезертиров. Говорят, что это произвело впечатление».
Из дневника В. В. Кузнецова мы узнаем и о создании в Соляном городке выставки «Героическая оборона Ленинграда», прообразе будущего Музея.
Владимир Николаевич Ге профессиональный политработник. Довоенная практика постоянных публичных выступлений наложила отпечаток и на ведение дневниковых записей. Не боясь того, что дневник может быть прочитан кем-то из начальства, автор смело критикует положение в армии, действия командования. Из записей мы получаем уникальные сведения о первых месяцах войны, об особенностях формирования в августе 1941 года кавалерийского эскадрона, о службе охраны складов, о трагических, мало описанных в блокадной литературе фактах работы Дороги жизни и многом другом. Многие записи потрясают: «Я не знаю ни одного случая открыто выражаемого политического недовольства, возведения на советскую власть вины на обрушившееся несчастье, ропота или возмущения. А ведь в их положении им терять нечего было. И редкие налеты на грузовики или тележки, везущие хлеб или продукты, с целью расхищения были исключением, вызваны острым чувством голода, не носившие в себе никаких признаков протеста. Конечно, были среди такого огромного города и антисоветски настроенные люди, но они не имели массовой базы, несмотря на, казалось бы, „благоприятные“ для этого обстоятельства. Люди не роптали, а мирились. Люди не возмущались, а цеплялись за невидимый луч надежды. Люди ненавидели врага, в нем они усматривали виновника их бедствий. Люди упорно, выбиваясь из последних сил, продолжали работать на оборону города. Люди умирали без протеста и, я бы сказал, без страха. Психологически они себя уже подготовили. Многие похоронили себя еще живыми. Я слышал рассуждения некоторых, что их не пугает то, что они умрут через несколько дней, а их гнетет, что они будут брошены на свалку мертвецов, как и тысячи других до них. Их угнетала мысль, что они умрут, возможно, где-то на дворе или на незнакомой улице, что их не смогут похоронить, а через день, два, три их подберут незнакомые люди, бросят на грузовик, наполненный телами мертвецов, и свалят где-то за городом в вырытый экскаватором котлован. И каждый понимал, что это неизбежно, что власти не могут, не в силах изменить положение».
Дневничок цензора Софьи Неклюдовой похож на сборник блокадного фольклора. Здесь трагическое соседствует с комическим. В дневник она записывает слухи, байки, строки из просмотренных писем. «Кинематографисты на трудовых работах по укреплению города: „Отпустите нас сегодня пораньше, а то к бомбежке опоздаем!“»
«Самая большая в мире библиотека, наверное, те миллионы книг, которые сгорели в ленинградских буржуйках».
«Во время голода многие, прожившие долгую жизнь вместе, узнавали только друг друга теперь. Мужья и отцы съедали пайки своих жен и детей. Подчас крадучись, тайком, что являлось причиной смерти их. О, это надо было пережить, когда мысли ни на минуту не давали покоя — есть, есть, даже во сне!»
«Утром 1-го мечтала подольше поваляться в кровати, почитать, отдохнуть, но нахальные немцы (совсем обнаглели) без предупреждения, как трахнули снарядом в дом 27, аж дом наш заходил и кровать моя стала заниматься утренней зарядкой…»
«Один ленинградский младенец на вопрос, кого он больше любит, папу или маму, ответил: „Папу, маму и отбой“».
Есть в этих, таких разных дневниках и общее: это скрупулезное, болезненное описание продуктовых норм, выкупленных по карточкам или, наоборот, невыкупленных продуктах, рассказ о днях, когда в магазинах вообще ничего нельзя было выкупить, даже хлеб, потому что его не было…
Почти в каждом дневнике мы встречаем цифры человеческих потерь. Данные разнятся, потому что авторы дневников не знали истинного положения дел в городе.
Мосолов: «Есть такие дни, о которых можно написать целые книги, например, о дне зимою 1942 года, когда в квартире Смирновых умерло сразу 4 человека: муж с женой, дочь и бабушка. Или о том, как, идя на работу, за 15 минут ходьбы встречал по дороге саночки с покойниками, по 15–20 саночек с 1—2—3 покойниками. В эти дни ленинградцы умирали тысячами — говорят, по 30–40 тысяч».
Ходорков: «25/ХII—41. Говорят, в день умирает до 10 000 человек. Во всяком случае, умирают в день многие тысячи. 30/I—42 г. Разговоры — от голода уже умерло 700 000–1 000 000, не думаю, что правда, но не менее 300000 во всяком случае».
Капранов: «31/ХII—41 г. В Ленинграде в день помирают, говорят, от 6 до 9 тысяч человек».
Ге: «13 августа 1943 г. Я думаю, что за эту зиму в городе вымерло не менее миллиона человек. Из трехмиллионного населения после эвакуации и вымирания к лету 42 г. осталось, кажется, 800 тысяч человек. <…> …экскаваторами вырывали могилы — котлованы на 30–40 тыс. человек. Трех-, пятитонные машины разъезжали по городу с наваленными трупами…»
Назимов: «Когда кривая смертности начнет падать? Сегодня в больнице им. Володарского вновь 500 трупов. 60 трупов случайно обнаружено в одной из баррикад. Трупы, трупы, трупы. Сколько их? Тысячи? Много, очень много. Они всюду — на улицах и площадях, чердаках и подвалах, в домах и дворах, около ворот и парадных, в выгребных ямах и уборных. Везде и всюду».
Иногда возникает ощущение, что авторы дневников были свидетелями одной и той же сцены.
Кузнецова: «У госпиталя упала лошадь. Я не знаю, отчего она умерла. За короткое время ее разрезали на куски и растащили, а у меня нечем было резать, или я не могла это делать».
Ге: «…Лошадь еще раз споткнулась и на этот раз упала навзничь. Тишина на улице, медленные движения людей внезапно сменяются необычным оживлением, возгласами, руганью, криками. Все ринулись к упавшей лошади. Неизвестно откуда появился топор, в ход пущены даже перочинные ножи. Началась „разделка“ лошадиного трупа. Люди толкают друг друга, вырывают из рук добычу. Через несколько минут снова воцаряется тишина. Улица вновь опустела».
Ходорков: «К группе лиц подходит кучер: „Т.т. начальники, помогите-спасите, какие-то двое пристали, хотят на ходу лошадь зарезать, пойдемте, отгоним!“»
Пути этих людей, действительно, пересекались: у Назимова, Ходоркова и в воспоминаниях Кузнецовой описывается жизнь Кировского района. В. Н. Ге работал до войны на фабрике «Равенство», также находившейся в Кировском районе.
Почти в каждом блокадном дневнике зафиксирован день 15 апреля 1942 года, когда по улицам города пошел первый после зимы трамвай (Ходорков: «От волнения чуть не заплакал. Только мы можем знать, что это такое — в Ленинграде трамвай»).
И в каждом блокадном дневнике, наравне с ленинградцами, есть еще одно «действующее лицо» — сам город. Каждый дневник можно назвать признанием в любви к Ленинграду: «Хотя в городе было напряженное состояние, но разрушений еще не было. Народ шел в убежища. Каким родным и прекрасным показался тогда город» (Капранов). «…ночь прекрасна. Луна освещает город. А в домах этого большого прекрасного города по разным уголкам, используя все средства, пытаются согреться люди — взрослые и дети». «Белые ленинградские ночи, распустившиеся липы и тополя, цветущая черемуха и сирень, — как все прекрасно вне войны и как грустно, особо печально видеть эти красоты природы на фоне тяжких испытаний» (Назимов).
…Сквозь толщу времени дошли до нас голоса этих людей. Они хотели быть услышанными, и мы их услышали. Тех, кто возьмет в руки эту книгу, ожидает большая душевная работа. Именно она требуется для восстановления связи времен.
Олег Постнов. Поцелуй Арлекина
- Олег Постнов. Поцелуй Арлекина. — СПб.: Лениздат, Команда «А», 2014. — 288 с.
Поцелуй Арлекина Холст Грипп, унесший в двенадцатом году прекрасную Элен по волнам, а, спустя век, скосивший еще пол-России, разразился надо мной под невинной вывеской «острого респираторного заболевания» (ОРЗ). На второй день я слег. Но в первый, предгрозовой, еще только чуя шаги болезни и стойко противясь ей, я после службы отправился не к себе на Мытню, а на другой берег Невы, в Эрмитаж. Там, уже качаясь на валких ногах, причесал кое-как взмокший чуб в гардеробной, постоял перед картой Сибири XVII века, взглянул на «длинного Петра», как его зовут иностранцы (и нашел, что цвет его щек довольно здоров в сравнении с моим), и наконец заблудился где-то в дебрях екатерининских будуаров, в каждом из которых живет ее тень в какой-нибудь непристойной позе.
Не могу уже вспомнить, как я поднялся затем почти к чердаку. Вокруг сновали туристы, дети и, кажется, скульпторы с глупыми лицами и такими руками, будто они только что перед тем рубили ими скотину. Здесь из уст милой, но прыщеватой экскурсоводки я узнал, что нахожусь в преддверье выставки современной немецкой живописи: ее только что привезли в Петербург. Кажется, я что-то платил за право взглянуть на эту мазню. Все было как всегда: кубический красный вечер, синяя зима (тоска по России, о которой они там что-то слыхали), фламандский мужик с вывернутой рукой. Две-три работы были удачны. Вдруг я застыл, как вкопанный (мне и впрямь казалось, что меня вот-вот закопают), перед одним холстом. Опишу его.
Он был небольшого размера, в рамах без украшений. Главный тон — бледно-зеленый с просинью. Сюжет банален: двое диких (или первобытных) в борьбе за самку. Она стоит в стороне. Герои показались мне скучны. Зато от нее я не мог отвести глаз. Она была представлена голой, в безвольной позе ожидания. Стоило присмотреться к ней, чтобы понять, что она одной расы с кавалерами. Те были звери. Их низкорослость, их корявость, все было в ней. Зато ее нагота светилась сквозь их полный свежего мяса мир, обещая то, что с трудом можно найти в белизне лучших из подвенечных платьев. Кажется, она слегка улыбалась. Врачи знают, что болезнь, поражая тело, на миг может дать ему вдруг избыток сил. Этот избыток я ощутил в себе, к тому же самым неловким образом. Я согнулся, как бы рассматривая подпись.
Жуткая Венера стала предметом моих бредовых грез. Неделю я метался в жару на подушках, стараясь найти выход из лабиринта дворцов, где двери вели к ней и указатели называли ее имя. Я знал, что я ищу; я искал исток. Веня таскал мне хлеб и микстуру.
Наконец, вновь обретя ясность, я явился, шатаясь, в музей, прошел по странно-сморщенным маршам мимо выцветших вдруг картин, поднялся наверх, вареным языком сообщил часть своих регалий и под предлогом специального интереса стал расспрашивать о холсте. Я был готов к тому, что теперь ничего в нем не увижу: бациллы порой нам открывают глаза… Поздно! Выставку увезли, копий не сделали, и та же прыщавая искусствоведша, на сей раз смазанная крем-пудрой, звала меня коллегой и могла лишь сказать, что автор (не помню имени) еще не стар, подает надежды, прежде работал в рекламном бюро и несколько лет назад деятельно участвовал в борьбе за закон по защите художников от государства.
Алхимия Привыкнув к моему обществу, Веня исправно навещал меня. Я был этому рад. Мы оба любили шашки, а эта игра требует родства душ. Вечером, сев на койку, мы раскидывали доску, либо сражались в клабур (род преферанса на двоих), либо просто болтали. Как-то я рассказал ему два-три случая из моих легкомысленных похождений. Разумеется, о сердечных тайнах речи не шло. К моему удивлению, однако, Веня воспринял беседу всерьез. Он замолчал и насупился. Видя, что тема ему в тягость, я хотел ее сменить, но было поздно. Какая-то мысль завладела им, он стал рассеян и наконец поднялся, чтобы уйти.
— Любовь, в сущности, проста, — сказал он вдруг, почти уже с порога. — Плохи те, кто ищет в ней что-нибудь, кроме нее.
Я не любитель сентенций. Все же в устах Вени, всегда растрепанного и живого, эта мысль показалась мне странной. Возможно, что меня смутил сам тон. Из чувства противоречия (а также желая задержать его) я вспомнил Данте и то место из «Новой жизни», где донны смеются над поэтом за его страх перед Беатриче. «Он, верно, хочет от нее не того, что другие мужчины от женщин, — говорят они, — раз не может при ней ни говорить, ни стоять» (что-то в этом роде). Веня кивнул. Сказал, что знает, о чем речь, и что ему жаль Беатриче. Я удивился. Он сказал, что сам был в таком положении.
— Однако на Данта ты не похож, — заметил я, смеясь.
— Я был не в роли Данта, — сказал он серьезно.
Получилась двусмысленность. Любопытство мое было задето. Я вскочил, усадил его на стул и сказал, что не пущу, пока все не узнаю. Он хмурился, глядя в окно. Ущербная луна светила на подоконник; уже совсем смерклось. Он стал говорить — отрывисто, почти зло. Всегдашняя его веселость исчезла. Под конец я сам был не рад, что уломал его. Ряд цепких деталей смутил меня. Вот его история в том виде, как я ее запомнил.
Они познакомились на вечеринке. Ее звали Инна — имя, которое ему всегда нравилось. Она была старше его. В детстве он был влюблен в свою двоюродную сестру, которую тоже звали Инной. Та умерла в двенадцать лет. Вечеринка затянулась. Была полночь. Он вызвался проводить ее, поймал на углу такси. Ехать было далеко, в Веселый Поселок. Все мосты были подняты. Такси долго ползло вдоль набережной, ища переезд — и все утыкалось фарами в стену пролета с вставшей вверх мостовой и обломком рельсов. Кордон милиции стоял цепью. Наконец переехали — и попали в лабиринт новостроек. В такси было жарко. Инна сняла жакет и повесила на крюк у дверцы. Это было как обещание — так показалось Вене. У подъезда она сама отпустила такси. Они поднялись к ней, сразу разделись и легли. Зажгли лишь свечу на тумбочке. В свете этой свечи он увидел вдруг, как у ней закатились глаза. И странное дело: ее щеки и губы пылали, но чем дальше, тем бледней становилась она, ее крик перешел в хрип, а тело словно сползло в дрему, онемев, как от гипноза. Он вскоре устал и хотел прекратить. Она просила, чтобы он продолжал. Голова его плыла, он не замечал времени. Наконец он вскрикнул сам («Это было больно», — прибавил он простодушно) и повалился на бок. За окном был рассвет. Инна лежала недвижно, и ему стало страшно: его сестра привиделась ему. Он тронул ее плечо — но она тотчас села и провела пальцами по огню. Свеча натекла, пламя стояло клином. «Зачем ты?..» — спросил он, но осекся. Она вовсе не слышала его. Потом он упал в подушки и уснул.
Утром она сказала, что все было чудно. «Там есть дерево, — сказала она, — такая пальма среди песков. Я раньше никак не могла дойти до нее. Все устают слишком быстро… А теперь успела». — «Где это — там?» Она странно на него взглянула. «Ты ничего не видел?» — «Нет». Больше они об этом не говорили. Условились о новой встрече. Но она не пришла, адреса он не знал, дом впотьмах не запомнил и не слишком жалел об этом. Ему казалось, она ему не нравилась.
Через два дня он понял, что с ним не все ладно. Инна не оставляла его. По ночам он видел ее голой. Это была не любовь. Он лишь вожделел ее, но «свыше всех сил» (по его словам). Он думал, что свихнется. На несколько дней он и впрямь стал маньяк. Он мог бы изнасиловать ее при всех, если бы встретил на улице. Впрочем, он уже не мог ходить. Его скрутило, как в лихорадке. Временами его рвало, порой, напротив, охватывал адский голод. Были часы, когда он кусал подушку и выл. «Мне бы хотелось съесть ее сердце», — сказал он. Еще он катался по полу. Рукоблудие не спасало. Наконец он догадался разрыть, как склеп, семейный альбом и сжег все снимки умершей. К ночи ему стало легче. Во сне он видел ручей и лес. Через месяц он заметил ее жакет в метро.
— Я ее не окликнул, — сказал он.
Я сочувственно ждал, что дальше. Он пошарил в карманах — он всегда носил костюм, до краев набитый записками, обрывками, блокнотами и прочей бумажной ерундой (примета нашей профессии) — и достал сложенный вдвое лист.
— Вот это я как-то нашел в Публичке, — сказал он.
Я развернул лист. Сверху стояло: «Герменон. Алхимия, б/д». Почерк был Вени.
— XVIII век, — пояснил он. — Думаю, из книг Новикова.
Я прочел:
«О саламандрах. Они способны являться смертным иногда на час, иногда на год, словно суккубы, в обличии дивных существ. Объятья их пылки, хотя сами они холодны, так как огонь их стихия. Этим опасны они, ибо могут обжечь душу счастьем, которое щедро дарят. Есть среди них и другие, родившиеся как дети и умирающие как старики. Тогда они не помнят мир, который изверг их, но ищут к нему путей, неустанны в поисках. Когда находят, ускользают прочь, и ничто не в силах их удержать. Часто хотят увлечь с собой свою жертву…»
Я вернул лист. Он снова сложил его вдвое и спрятал назад в карман. Мы с минуту молчали.
— А Дант? — спросил я потом.
— Разве ты не понял? — Он смешно задрал бровь. — Прочти «Vita Nova». Просто там все наоборот — это не важно, что он не спал с ней. Другой век, нравы. Он-то был колдун половчей моей Инны.
— Колдун? Дант?! Что ты плетешь?
— Как что? Это же ясно! Знаем мы их любовь! Это он своими поклонами да стишками загнал Беатриче на небо!
Акрам Айлисли. Не ко времени весна
- Айлисли Акрам. Не ко времени весна. СПб: Лениздат. — 2014 г. 448 с.
ЛЮДИ И ДЕРЕВЬЯ трилогия СКАЗКИ ТЕТИ МЕДИНЫ Моей матери — Лея Али-кызы
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 1 Моя мать умерла в тот день, когда я родился, и первые два месяца тете Медине пришлось носить меня по домам, где были грудные дети. Зимними вечерами тетя любила рассказывать об этом, и, слушая ее в теплой темноте комнаты, я ясно видел, как, скользя и оступаясь, идет она по обледеневшей тропинке, той самой, что тянется к источнику вдоль арыка… Если тетя Медина выносила меня перед сном во двор, я старался не глядеть на гору, возвышающуюся над нашей тропинкой, мне казалось, что звезды шепчутся о чем-то с ее вершиной, словно замышляют недоброе… Шепот звезд я слышал и потом, во сне: тетя Медина несет меня к матери Селима, Азера или Фикрета, тех самых, с которыми я днем играю в камешки, а над нами перешептываются звезды… Снилось мне еще, что я сосу облака и тучных серых коров, похожих на тяжелые облака…
Вдоль тропинки курчавилась мята, наливалась темными гроздьями ежевика, а позднее, когда наступала осень, выстроившиеся вдоль арыка орехи засыпали ее желтыми листьями… Может быть, всего один раз и пронесла меня здесь тетя Медина, но почему-то из всех дорог, которые она исходила, добывая мне молоко, я выбрал именно эту; мне даже казалось порой, что на узкой тропинке до сих пор видны следы ее ног…
Тетя Медина очень любила рассказывать о моем раннем детстве, и в долгие зимние вечера, когда обо всем уже было переговорено, обязательно начинался рассказ обо мне: о том, каким я рос мрачным и неулыбчивым, о том, как болел корью, и о том, как залез на высокую яблоню, свалился оттуда и даже не разбил носа… Один раз я перевернул люльку, другой раз чуть не сварился, опрокинув на себя кипяток, — хорошо, фельдшер жил неподалеку, она схватила меня в охапку и потащила к нему… Фельдшера давно уже нет в живых, а я, не зная даже, как выглядел этот человек, до сих пор не могу его забыть — так часто я слышал об этом случае.
Еще охотнее тетя Медина рассказывает о том, как совсем еще несмышленышем, в два или в три года, я поце-ловал Халиду, соседскую девчушку, которую мать зачем-то принесла к нам во двор. Когда тетя вспоминает это происшествие, лицо у нее довольное, гордое, глаза весело поблескивают… Похожее выражение мелькнуло на отцовском лице, когда я сказал Халиде «плохие слова»; это я помню сам: мне тогда уже исполнилось пять лет.
Было очень жарко, мы с Халидой сидели на толстой ветке ореха, скрытые его плотной листвой. Не знаю, что мне вдруг взбрело в голову, но я схватил девчонку за руку и объявил ей, что она моя жена. Халида захныкала, сползла с ветки и вся в слезах отправилась к матери. Тетя Сона не заставила себя долго ждать, явилась немедленно и сразу же набросилась на отца. «Из молодых, да ранний! — кричала она. — От горшка два вершка — а уже о жене заговаривает!» Почему-то я запомнил только эти слова, хотя тетя Сона ругалась долго и выкрикивала много разных слов.Отец, разумеется, не возражал — не станет же он спорить с женщиной, — сделал сердитое лицо и строго отчитал меня, хотя видел, что я совершенно ничего не понимаю. Однако стоило тете Соне уйти, как у отца сразу стало совсем другое лицо; я догадался, что он не сердится, наоборот, он гордится мною, а отчитывает так, для острастки. Я очень хорошо помню, какие у отца были тогда глаза, какая погода была в тот день, какого цвета листва на орехе… Одного только я не могу вспомнить, как это я додумался — ведь я тогда еще разгуливал без штанов, они у меня появились позднее, незадолго до бабушкиной смерти…
Бабушка привела меня с улицы, поставила на секи — большой плоский камень, лежащий возле желоба, вымыла мне как следует ноги и надела на меня нечто похожее на штаны. Это нечто было сшито из женских бязевых штанов, причем с солидным запасом, — во всяком случае, я вполне уместился бы в любой из штанин. В штанишки был продет красивый цветной шнурок, бабушка вынула его из старого хурджуна.
Мне трудно было судить, как я выгляжу в своей обновке, но спереди имелась прореха с пуговицами, совсем как на настоящих брюках, и этого было достаточно, чтобы вселить в меня уверенность, К тому же бабушке я, безусловно, нравился; очень довольная, она долго охорашивала меня и вертела во все стороны. Наконец она закатала штанины до колен, затянула шнурок и наказала непременно держать оба его конца, когда мне понадобится снять штанишки.Совершенно счастливый, я понесся на улицу, держа руку на пуговицах. Но радовался я преждевременно. Голозадые приятели, обступившие меня со всех сторон, мгновенно раскусили, в чем дело, и подняли меня на смех. Их не обманули ни прореха, ни пуговицы. Я с ревом бросился обратно, стащил с себя «бабьи портки» и швырнул их бабушке. На следующее утро, по обыкновению выбежав на улицу в рубашонке, я впервые в жизни ощутил свою наготу, застыдился и повернул обратно. Бабушка попыталась было снова засунуть меня в ненавистные штаны, но я был непреклонен. Долго еще она досаждала мне этими штанами. Даже тяжелобольная, не оставляла меня в покое и, едва открыв глаза, начинала стонать, требуя, чтобы я надел их; получалось, что бабушку не столько мучает болезнь, сколько мое упрямство…
Однажды отец разбудил меня на рассвете и, крепко взяв за руки, поставил на постели.
— Иди пусти воду, — строго сказал он. И добавил громко, словно для того, чтобы сразу согнать с меня сон: — Бабушка умерла!Я пошел к мельнице, спустился в глубокий колодец, пустил воду… Когда я вернулся, во дворе было уже полно женщин. Они обмывали мертвую бабушку, усадив ее на тот самый камень, где она недавно примеряла мне обновку.
Я радовался, что бабушки больше нет и некому будет приставать ко мне с этими проклятыми штанами. К тому же я не знал, что мне теперь целыми днями придется оставаться одному.
В то лето отец продавал на базаре колхозные дыни. Тетя Медина ходила работать в поле и пропадала там до темноты. Уезжая на рассвете в район, отец закрывал ворота на верхнюю задвижку, дотянуться до нее я не мог и весь день оставался взаперти. Сыр и хлеб у меня были, а воды сколько угодно, все время журчит по желобу…
На мое счастье, дом наш стоял в верхней части села, и все остальные дома, начиная с тех двух, что прилепились к подножию другой горы, напротив, были передо мной как на ладони. Вдали за крышами домов петляла по склонам дорога в райцентр.
Мне было поручено охранять двор от «озорников», но гораздо больше внимания я уделял птицам. В листве столетних орехов гнездились сотни галок, и я целыми часами смотрел, как они вылезают из гнезд, летят за добычей, возвращаются к своим птенцам… Иногда я выбирал себе пчелу, одну из сотен совершенно одинаковых пчел, и не отрываясь следил за ее полетом…
Если я начинал разглядывать деревья, то сейчас же вспоминал бабушку. Стоило взглянуть на яблоню, с которой я когда-то свалился, даже не разбив носа, как мне тотчас же слышался недовольный бабушкин голос: «Ешь по-человечески! Откусил и бросил, откусил и бросил, — кто так яблоки ест?!» Верба, склонившаяся над желобом, почему-то не внушала бабушке доверия, она считала, что вербе не место во дворе, зато грушу, что раскинулась у самых ворот, любила, называла «имамовым деревом» и полагала, что вкусивший ее плодов обретет утешение. Шелковица, что возвышалась за домом, тоже пользовалась бабушкиным расположением. «Божий дар, — говорила бабушка, — прокормить может — в трудное время». Об абрикосовом дереве, росшем на горе среди кустов зериша , она отзывалась неодобрительно: «Пустое дело! Только животу расстройство!..» Про орехи не говорила ничего, но эти могучие деревья, стеной поднявшиеся внизу, вдоль тропинки, тоже напоминали мне о бабушке, именно здесь скрывалась она каждый раз с кувшином для омовения…
Целыми днями я сидел во дворе. Сидел и знал, что где-то совсем недалеко, в соседних дворах, есть водоемы с прозрачной синей водой и возле них на желтой земле валяются голые ребятишки. Как мне хотелось быть с ними! Гонять по каменистой деревенской улице, карабкаться на скалы, разорять куропаточьи гнезда!.. К тому же у меня теперь были штаны. Настоящие штаны из темной плотной материи, которую тетя Медина купила в сельпо. И хотя у этих штанов не было ни прорехи, ни пуговиц, ни у кого не возникало сомнения в том, что они мальчишечьи.
Через наш двор можно было пройти в два соседних: к тете Сон[ac]е и к бабушке Шаисте. Калитка тети Соны всегда была на запоре — с тех самых пор, как перебили лапку нашей бесхвостой курице, отец не разрешал никому из их семьи появляться у нас во дворе. Курица забрела за забор случайно, отыскивая корм, а они перебили ей камнем лапку… Другая соседка — бабушка Шаисте — могла в любое время проходить через наш двор, а так как она была очень стара, то каждый раз, когда старушка появлялась во дворе, я надеялся, что она забыла про калитку. Однако этого не случалось, калитка всегда оказывалась закрытой.
Все лето я просидел взаперти, мечтая только об одном — оказаться на улице, среди мальчишек. И вот это произошло. Тетя Медина пришла почему-то днем и, отперев ворота, выпустила меня на волю. Я бросился на улицу, побежал было… И вдруг остановился — бежать никуда не хотелось… Больше меня уже не тянуло на улицу. Будто и не было за высокими воротами ни голубых водоемов, ни горячей желтой земли, ни птичьих гнезд на скалах…
Я никогда не могу спокойно пройти мимо магазина, где продают птиц. И не потому, что ловить птиц и даже сажать их в клетки кажется мне таким уж преступлением. Просто, увидев птицу, запертую в клетке, я не могу избавиться от ощущения, что это уже не птица, она не полетит, даже если выпустят, она навсегда потеряла вкус к полету.
Сидеть взаперти стало гораздо легче. Целые дни я проводил неподвижно, наблюдая за пчелами или разглядывая ворон. Случалось, что так и засыпал сидя. Медленно начинало опускаться солнце, я следил за ним, стараясь не пропустить, когда оно спрячется за горой. Солнце садилось, и сотни галок, весь день дремавших в густой листве ореха, с гомоном взмывали в небо. Смотреть на них было очень любопытно — одних галок вполне хватало бы, чтоб не соскучиться. А ведь я еще мог влезть на шелковицу и подождать, когда на песчаной дороге, светлым поясом охватывающей гору, появятся барабанщик Имамали и три его сына. Встанут в ряд возле дома бабушки Шаисте, повернутся лицом к деревне, и Имамали начнет бить в барабан. Старший его сын Алиш будет играть на зурне, а Велиш и Малик подтягивать ему на свирелях. Имамали — замечательный барабанщик, он с такой силой колотит деревянными палочками по барабану, что могучий раскатистый гул разносится по всей деревне.
Немного погодя по склону начинает медленно спускаться стадо. Коровы идут степенно, неторопливо, словно прислушиваются к завываниям зурны. Потом стадо вступает в деревню, проходит несколько минут, и наша Лыска уже мычит у ворот, поджидая отца.Отец возвращается домой в темноте. Еще не видя его, я знал о его приближении — тяжелые сапоги глухо бухали по каменистой дороге. Каждый день он привозил мне гостинец — небольшую полосатую дыньку; дыньки эти все были как на подбор: одинакового размера и одинакового цвета.
Пока отец разводил в очаге огонь, грел воду, заваривал чай, я забавлялся, катая по траве свою дыньку… Потом мы стелили палас и садились ужинать…
Позднее, уже совсем перед сном, приходила тетя Медина. Молча доила корову, молча кипятила молоко, молча приготовляла катык — при отце она всегда молчала. Поставив на секи перед желобом маленький коптящий светильник, тетя Медина принималась за посуду… Отец курил, облокотившись на подушку, а я старался не глядеть на его большие черные сапоги, стоявшие возле паласа, — мне почему-то страшновато было видеть их…
Покончив с делами, тетя уходила, неся перед собой светильник; огонек долго трепетал во мраке легким оранжевым платочком… Я прижимался к теплому боку отца и засыпал, прислушиваясь к его громкому храпу…
«Страстное томление по жизни»
- А. Адамович, Д. Гранин. Блокадная книга. — СПб.: Издательская группа «Лениздат», «Команда А», 2013. — 544 с. (+вклейки, 32 с.)
Все на Земле подвластно измерению. Километрами определяется путь, градусами — холод, граммами — хлеб, литрами — вода. И только мера человеческих страданий, равно как и мера стойкости, не поддается рациональному вычислению.
Люди, которые хотели жить мирно и счастливо и не отстаивать в ежеминутной борьбе право на мечты, надежду, право на саму жизнь, в течение 872 дней были обречены на героизм. «Блокадная книга» звучит их голосами — смущенными, робкими. Голосами тех, кто долгое время в молчании хранил свой подвиг. Углубляясь в пережитое, они иногда прерывают рассказ на самых страшных и болезненных эпизодах и, словно ожидая скептического отношения к их памяти, произносят: «Вы, может быть, и не поверите…»
Сорок лет назад истории нескольких сотен блокадников были перенесены на бумагу Алесем Адамовичем и Даниилом Граниным. Стереотипное представление о блокаде как о героической эпопее сопровождалось в то время массовым беспамятством, намеренным забвением цены победы, фальсификацией числа погибших горожан. Под флагом милосердия к душевным ранам советского народа об ужасах войны не говорили. Табу подверглась и история
Отголоски репрессий коснулись и «Блокадной книги». «Идеологически вредно», — постановили в Смольном, до 1984 года запретив ее издание в Ленинграде. Гуманистический труд невероятной силы, целью которого была правдивая и лишь поэтому безжалостная повесть о человеческой душе, переиздан в новом тысячелетии с восстановленными главами и купюрами.
«Нас интересовали истоки, — сказано в одном из авторских отступлений, — то, как рождалось у тех или иных людей сознание необходимости терпеть любое лишение во имя победы, как возникал, формировался дух стойкости, сопротивления, сохранявший непреклонность и человеческое достоинство в самых отчаянных обстоятельствах». Разделение книги на две главы позволило в первой части обратиться к лейтмотивам блокадных воспоминаний. Обстрелы, введение карточек, сокращение продовольствия, голод, высокая смертность, лютый мороз… И при этом — свобода, благородство, неутомимая борьба, участие, помощь, бескорыстная любовь! «Ни разу… ни до, ни после блокады, я не имел такой осознанной и определенной цели в своей жизни», — замечает один из рассказчиков. Это, казалось бы, сугубо личное впечатление созвучно переживаниям многих его современников — людей одной, общей судьбы.
Как городской воздух очистился от смога из-за перебоя в работе заводов и автотранспорта, так прояснилось и замутненное суетой человеческое восприятие. Образ ленинградца времен войны удивительно контрастен. Закутанный в пальто, шарфы и ватные одеяла, истощенный до неузнаваемости, так, что сложно было определить не только возраст человека, но и его пол, каждый блокадник был внутренне обнажен. Пороки и добродетели принимали утрированный характер. Линия фронта проходила в душе этих людей: помимо внешнего врага, ленинградцу приходилось бороться с самим собой, неуправляемым пищевым инстинктом. В опустевшем городе, который покинули даже звуки — смеха, музыки, щебета птиц, — что удерживало их от эгоистической вседозволенности и отчаяния?
«Страстное томление по жизни» — так определили спасительное чувство А. Адамович и Д. Гранин, посвящая вторую главу «Блокадной книги» трем дневникам. Где еще столь явственно проступают душевные язвы, как не в этой форме письма? Подневные заметки фиксируют заблуждения и надежды, перемену в характере, медленное угасание жизни и возрастающую крепость веры. Авторы выбранных дневников — девятиклассник Юра Рябинкин, мать двоих детей Лидия Охапкина и пожилой директор Архива Академии наук Георгий Алексеевич Князев. Три незнакомых друг другу человека, три разных взгляда на мир, и… боль — одна на всех. Острая, обжигающая сначала, она притупляется с каждым месяцем войны, врастает в душу блокадника и саднит день за днем, год за годом. Дневники беспощадны. Не только потому, что пишущий их не знает о победе, о том, проснется ли он завтра и что ждет его рукопись. Есть и другая причина: сила совести, любви и духа блокадных авторов в какой-то момент становится высшим критерием, по которому с ними сопоставляешь и других, и самого себя.
…В безлюдных залах Эрмитажа висят пустые рамы от эвакуированных картин. По ним весной 1942 года научный сотрудник музея П. Ф. Губчевский проводит экскурсию для сибирских курсантов, описывая вывезенные полотна во всех деталях, как если бы они находились у него перед глазами. Наблюдать воплощение картины из пустоты, из горячих вдохновенных слов, сродни чуду. Этот эпизод стал для меня метафорой чтения «Блокадной книги». Исторические труды, статистика, литература, фильмы об осажденном Ленинграде превратились в богатые рамы. А образ, заключенный в них, соткался из живых свидетельств людей, просиявших в своем вынужденном подвиге.
Голоса героев и мучеников становятся все тише, переходят на шепот, сливаясь с шелестом страниц истории. Обратиться в слух, вобрать их память — значит избыть из себя забвение, малодушие и окамененное нечувствие.
Хочу верить
- Антон Понизовский. Обращение в слух. — СПб.: Издательская группа «Лениздат», «Команда А», 2013. — 512 с.
Верить в человека уже и означает любить его. Для этого нужно всего лишь его расслышать — когда он говорит, рассказывает тебе что-то, не думать о своем, не готовиться к ответу, выбирая, на что можно возразить, с чем согласиться, но просто слушать. Слушать, чтобы услышать, вот и все!
Майя Кучерская «Бог дождя»
Боязнь чистого листа исчезла сразу после появления на нем эпиграфа, а вот с боязнью чистых помыслов — когда свет истины рассеял перед глазами марево заблуждений — пришлось бороться несколько недель. Так вовремя и так уместно была прочитана книга Антона Понизовского (в фамилии автора есть что-то пронзительное!), даже страшно. Мало кто думал и гадал, что тележурналист станет врачевателем душ русских. Искренность намерений автора легко постичь, еще не приступая к чтению романа, — по листу благодарностей. Человек, восхваляющий за успех Господа, вероятно, способен явить миру чудо познания.
«Обращение в слух», как добротная деревенская баня с березовыми веничками, дарует очищение плоти и духа каждому вдохнувшему полной грудью горячий пряный воздух. Надолго хотелось сохранить это ощущение, да и невозможно было его потерять. Спустя некоторое время, вновь перечитывая полюбившиеся места в романе, красоту мысли автора начинаешь воспринимать как должное и даже жалеешь немного, что уже обращен.
Пять дней — пять глав. Подзаголовки — и десятки невыдуманных историй, по слухам, собственноручно записанных Понизовским на диктофон. Одиссея XXI века. Кажется, роман о том, как живут в разных уголках России и почему не уезжают из страны, несмотря ни на что. На самом деле — о любви, которая все объясняет.
Федор, русский «юноша бледный со взором горящим», седьмой год одиноко жил в Швейцарии и занимался под руководством местного профессора антропологией национальной культуры, а именно — исследованием русской души. Волею судеб он взял под опеку
Познакомившись в дешевом ресторане с супружеской парой из России — Дмитрием и Анной Белявскими, — Федор решил поделиться с приятными собеседниками (Леля отличалась особенной молчаливостью) материалами «свободного нарратива», над которыми он усердно работал. Так начались вечера обращения в слух, сопровождаемые достойными литературоведческими рассуждениями о Достоевском, аллюзиями, отсылающими к романам Саши Соколова. Герои познавали друг друга и родную Россию, разговоры об инфантильности народа которой впоследствии и стали причиной расхождения во взглядах.
Хранитель православных идеалов, Федор, встречая общее сопротивление, «не мог взять в толк, каким образом это могло произойти, что умные и хорошие люди объединились против него в таком простом, очевидном вопросе», например о том, что занятие стриптизом убивает душу. Надо отметить, что удивляться Феде, твердо верующему в вечность жизни, пришлось не единожды.
На яростные реплики Белявского: «…в России больше нет ничего, все сгнило, все умерло! …в России нет русской души! И никакой души нет!..» — Федор, качая головой, отвечал: «Это внешнее… Это земное царство», — и доводил своей непоколебимой верой Дмитрия Всеволодовича до исступления.
Теория его жены «о жечках и мучиках» искусственна до колик в животе. Анна не произносит вслух слова «женщина» и «мужчина», словно они потеряли свой смысл и опошлись настолько, что даже упоминание их всуе невозможно. На контрасте рассуждений зрелой женщины Федор внезапно различил голос немногословной, далекой Лели, начал слышать ее. «На обращенной к нему правой щеке — впервые увидел нежный, просвеченный солнцем пух… Он вдруг почувствовал что-то тугое и будто бы угловатое между легкими и животом… стало трудно глотать — и дышать приходилось очень мелкими вздохами…»
Прочитанное Федором наизусть «Видение Антония Галичанина» было признанием в любви и прощением грехов человеческих. Желание запомнить полосу от самолета и закат — «даже если сейчас ты со мной не согласишься, просто оставь пока, опусти на дно души…» — стало величайшим проявлением заботы и нежности. Умение вовремя понять, что «сейчас» так же реально и ценно, как «вечность», — переворотом в сознании, инициацией, обращением в веру. А слова Господа, не записанные в Евангелии: «В чем застану, в том и буду судить» — явились самым страшным из когда-либо постигнутых откровений.
Представьте, что вы попадаете в рай… Вы попадаете, а кто-то из ваших близких нет. Как вы можете радоваться в раю, зная, что родной вам человек обречен на вечные муки? Стирается после смерти противоречие между «я» — и «не-я», уверен Федор: «Если я знаю кого-то, то он уже часть меня. Даже если хотя бы я слышал о нем, слышал имя, читал в газете — значит, уже в этой маленькой мере он — часть меня…» Пусть бы так.
Закрыла Книгу познания. Задула свечу. «Ей, Господи, услыши мя грешнаго и убогаго раба Твоего, изволением и совестию…»
— Тебе слышно?
— Все слышно.
Вадим Левенталь. Маша Регина
- Вадим Левенталь. Маша Регина. — СПб.: Лениздат, 2013. — 350 с.
Роман Вадима Левенталя — история молодого кинорежиссера Маши
Региной, прошедшей путь от провинциальной школьницы до
европейской звезды, твердо ступающей на ковровые дорожки в
Венеции, Берлине и Каннах. Это история трех ее мужчин, история
преданной, злой и жертвенной любви, история странного переплетения
судеб. «Маша Регина» — умный и жесткий роман, с безжалостным
психологизмом и пронзительной достоверностью показывающий,
какую цену платит человек за волю к творческой самореализации. То,
что со стороны кажется подарком фортуны, в действительности
оборачивается для героини трагическим и неразрешимым
одиночеством, смотрящим прямо в глаза ледяным ужасом бытия.
Когда роман грозит обернуться агиографией, верный способ вернуть иглу на дорожку — сразу объявить о совершенных героем чудесах (прижизненных, по крайней мере) и без заминки обратиться к тому, на чем работает двигатель любого романа — истории любви.
Первое Машино чудо было густо замешано на Петербурге — городе, который она, вопреки канону, впервые увидела не ранним летом, когда по ночам тайный свет заполняет улицы, реки и каналы и заставляет все — от куполов соборов до пустых пивных бутылок — тускло сиять серебром, когда теплая вода угрюмо чмокает гранитные ступени и кучки пьяных счастливых выпускников мечутся из магазина в магазин, заставляя пожилых туристов сбиваться в сторонку, когда ближе к Дворцовому мосту город пузырится беспокойной толпой, а вдаль по каналу Грибоедова растекается влажной тишью, сводящей с ума любителей Достоевского, — нет, нет, не летом, а поздней осенью.
Сентябрь был еще продолжением этого сумасшедшего лета, Маша никак не могла успокоиться. Она спала больше, часов по шесть, но все свободное время занималась. В десятом «б» она снова была на нуле — все то, что ее одноклассники знали, казалось, всегда, ей доставалось суровым ночным послушанием. Она читала Пушкина, Гоголя, Карамзина, Радищева, учила теоремы, разбирала путаные, похожие на китайскую духовную практику, правила русской орфографии, учила бессмысленные российские реформы, — все это за восьмой, девятый классы, которых у нее, как она поняла, не было. Только во второй половине октября она наконец надела куртку, ботинки, замотала вокруг шеи шарф и вышла из школы. Может быть, это случилось бы еще позже, но на уроке литературы в этот день А. А. вдруг отвлекся от «Невского проспекта» и чуть не кричал на притихший класс: боже мой, юноши и девушки, вы хоть понимаете, как вам повезло? Миллионы людей во всем мире читают все это и понимают через слово, пьют эти тексты, как обезжиренное молоко. Вы живете в городе, в котором европейская культура обрела смысл! — потом Маше А.А. признавался, что, конечно, был слишком категоричен, но какой оратор не машет руками? — Пройдите по этому городу! Не вдоль по улице куда-то, а погружаясь в него. Спрашивайте камни и мостовые, они много расскажут вам. Петербург — это лучшее, что может случиться с вами! Вы никогда не услышите, что там вам нашептывает Гоголь, пока не промерзнете под дождем где-нибудь на Карповке, в полном одиночестве и без копейки в кармане. Подпорожный! Где герой находит свою возлюбленную? — В борделе, А.А. — Надеюсь, Подпорожный, это не единственное, за что зацепился ваш целомудренный читательский взгляд?
Смех смехом, но через час после того, как Маша вышла из школы, полил дождь. Город, который она увидела, — это тот самый Петербург, который станет героем ее первой работы. Погруженный в дождь, плавающий в нем всеми своими домами и храмами, темный и холодный. Город, в котором вещи качаются на самом краю вещественности, и вода в каналах напоминает о смерти. Маша насквозь пропиталась дождем, и глаза ее вывернулись наизнанку, приняв в себя все увиденное снаружи.
Забравшись в светлое дымное кафе, она вынула из рюкзака папку с бумагой и карандаш. Чашка с кофе остывала, девочки в фартуках косо поглядывали на Машу, галдели бездельные люди, музыка, болтовня и сигаретный дым кружились вокруг Маши, залезали ей в уши и глаза, но все, что она сейчас чувствовала, было сосредоточено на кончиках пальцев, сжимавших карандаш так, что побелели костяшки. Лист покрывался туманом, и из тумана стали выползать тени — огромный незрячий дом проплывал по набережной, в подворотни попрятались мокрые вонючие чертенята, люди наступали им на хвосты, выныривали, перепутав дождь с рекой, уродливые молчаливые рыбы, в полуоблетевших кронах хлопали крыльями чудовищные зубатые птицы, а потом, неожиданно для самой Маши, возник у гранитной ограды человек, вдруг увидевший всё это как оно есть. Его глаза расширились от ужаса и восхищения, руки вцепились в ограду, чтобы внезапно взбесившаяся вода не скинула его вниз, ноги подкашивались, но он стоял, вперив взгляд в страшное видение, не желая отказаться от него, хотя это было бы так просто — перевернуть лист, отодрать от пальцев карандаш, стрельнуть сигарету и глотать холодный сладкий кофе, переглядываясь с симпатичным мальчиком, одиноко сидевшим у окна. Когда тучи сохмурились над головой духовидца и черные мохнатые птицы заметили его, Машины руки взлетели над бумагой — рисунок был окончен.
Рисунок этот, как и большинство Машиных рисунков, не сохранился. Последним и, вероятно, единственным, кто его видел, был А.А. Разглядывая его, он густо набирал дым из сигареты в рот, молчал и наконец заговорил. То, что он рассказал Маше, стало второй (рисунок был первой) точкой того напряжения, из которого несколько лет спустя родилась «Погоня».
Когда «Погоня» стала известна широкой публике, уже вышли и «Минус один», и «Save», и «Янтарь». Из нее не получилось, да и не могло получиться хита, но киноснобы Европы узнавали друг друга по диску с этим фильмом, появившимся вдруг из безвременья. Файл нашел и выложил в сеть студент, копавшийся в архивах HFF, — когда очередной диск вошел в дисковод и на экране замерцало: «Погоня. Режиссер- постановщик Маша Регина», студент на всякий случай сверился с немецкой написью на конверте и вскрикнул. Через несколько дней вся мировая паутина полнилась слухами.
Говорили, что фильм этот — ученическая работа, непрозрачная концептуалистская поделка, настолько непохожая на ясный и абсолютно открытый стиль Региной, что, скорее всего, принадлежит не ей, а небесталанному мистификатору, и хотя, конечно, представляет некоторый интерес с технической точки зрения, но ни в коем случае не может считаться шедевром и так далее и так далее. Маше пришлось оторваться от съемок «Голода», вылететь в Берлин и на пресс- конференции в зале «Kino Arsenal» признаться, что «Погоню», действительно, снимала она.
Я сняла этот фильм в Петербурге лет десять назад и рада, что он наконец обнаружился. Это хорошая картина, хотя сейчас я такого, конечно, не сняла бы.
После этого страсти улеглись и фильм перешел в разряд тех, что издают под маркой «Другое кино». Он, конечно, был черно-белым (как любое гениальное кино, — шутя, говорил Рома), или, точнее, становился черно-белым. Пока шли титры, герой рассказывал дебелой вахтерше про свою неверную любовь. Потом он, поднявшись в кабинет, засыпал, и гамма из темно-коричневой незаметно становилась серой. Незаметности перехода помогало то, что дело было ночью — стоило немой вахтерше погасить в кадре грязно-желтую лампу, становилось темно хоть глаз коли. Потом появлялся двойник и начиналось собственно действие, про которое девять из десяти зрителей сказали бы, что оно отсутствует. Маша выгнала своих героев на улицу, и весь их поединок проходил в декорациях страшного, невообразимого Петербурга. Герой гнался за двойником по улочкам, дворам, подворотням, чердакам, крышам, тот прятался от него за мусорными баками, кирпичными трубами, между вагонами на железнодорожных перегонах (вот он, главный козырь в руках тех, кто еще до берлинской пресс-конференции отстаивал Машино авторство, — сцена была похожа на знаменитую погоню в «Минус один»), потом герой убегал от двойника по бесконечным лестничным пролетам и в конце концов на набережной забивался в угол одного из спусков к реке, и тяжелая свинцовая волна лизала его ботинки. В воде мелькало очертание корявой лапы, будто тянущейся схватить героя. В кадре из черных теней и белых отсветов постоянно просвечивали потусторонние образы — хвосты, клыки, зенки, которые зритель замечал не сразу и не наверняка, то есть мог не заметить их вовсе, сочтя просто помехами или случайным сложением света и тени. Двойник мог вдруг перекинуться демоном и сочиться гнойными глазами из-за решетки Летнего сада, в широкой кроне дерева вдруг дергался гигантский крысиный хвост, в пыльном окне мелькала чешуя, — все это случайно, не четко, мельком, так что при желании можно было не обращать внимания.
Восхищения, чаще всего звучавшие по поводу «Погони», касались картинки, техничности и совершенства кадра и даже завораживающей игры двух двадцатилетних актеров, но почти никогда — сценария фильма, его существенности, ну или, иначе говоря, его мессиджа. Ничего удивительного в этом нет. На той же пресс-конференции в «Kino Arsenal» Маша говорила: честно, я сейчас с трудом могу вспомнить или понять, что я снимала. Это были какие-то картинки в моей голове, которым мне хотелось дать свободу. Не знаю, не уверена вообще, что в этом фильме есть что-то, что можно было бы прочесть.
Двойник гонял героя по лабиринтам дворов и улиц, что-то от него требовал, кричал, герой бормотал, оправдывался, переходил в наступление, бросался с кулаками, завершалось все, как и полагается, дуэлью на пистолетах, — но в чем, собственно, заключался их конфликт, было непонятно.
Никто из обсуждавших фильм не знал (да и сама Маша через шестнадцать лет помнила смутно), что суть этого конфликта объяснял ей на маленькой кухне своей прокуренной квартиры А. А. Он долго рассматривал Машин рисунок, курил, промахиваясь пеплом мимо блюдца, и потом говорил ей про Гоголя, про Белого, про художников, для которых Петербург стал лифтом в потустороннее. «Пушкинский дом», говорил А.А., в этом ряду смотрится странно (Маша открыла форточку, чтобы выпустить дым на волю и, покачнувшись на подоконнике, дотянулась до сигарет), потому что на первый взгляд в нем нет ничего мистического, и многие из прочитавших его свято уверены, что прочли реалистический роман про то, как молодой ученый запутался в своих женщинах. Что ты смеешься? Ну да, про меня. Но на самом деле женщин в этом тексте нет, только мужчины, да и те ненастоящие. Святого искушает бес, вот и вся история. Одоевцев живет в игрушечном мире, в декорации, и вдруг проваливается в мир настоящий, где все встает на свои места, бес есть бес, и душа стоит перед проблемой добра и зла. Блюдце? Держи. Митишатьев старается вытолкнуть его из этого усилия, он искушает его незнанием настоящего, мирным покоем закрытых глаз. И когда искушение преодолено (там еще сбрасывается маска, это очень важно), неизбежен агон, противостояние души и зла. Зло проигрывает просто потому, что душа с всерьез распахнутыми глазами всегда сильнее зла. Это оборачивается проблемой только для романного героя — потому что он должен умереть, вот он и умирает вместе с романом. Но в истинном смысле — происходит освобождение души от декораций этого мира. Прости, непонятно объясняю, но мы ведь не на уроке, да?
Дальнейшие объяснения бессмысленны, тем более что Маша спрыгнула с подоконника, обняла А. А. и его, задумчивого, стала целовать. То лето, после первого курса в Академии, она почти все провела у него, в маленькой квартирке на Пестеля. Пока по ночам было светло, они ходили на Фонтанку пить вино. Покупали бутылку в подземной лавке у широко улыбавшегося армянина, добредали до спуска к непрозрачной суровой воде, чпокала пробка, и слышался плеск льющегося в стаканы вина. Должно быть, только в это лето, если бы он спросил ее, она серьезно могла бы сказать, что любит его. Но А. А. не спрашивал. Маша что-то рисовала, он читал, вместе они гуляли, ели и занимались любовью. Такое лето — когда каждый вечер хорошая погода и безделье не угнетает — дается человеку один раз, говорил А. А. и смеялся над Машей, которая не могла узнать цитаты.
Нарушено благодушие за все лето было два раза, когда А.А. звонила жена. Русские жены бывшими не бывают, шутил он, у него на все была своя цитата. После звонков, целью которых были какие-то бытовые формальности (прости, я бы не стала тебя беспокоить, отрывать… но… — дальше речь шла о комплекте ключей или о запропастившихся черт знает куда документах), А.А. мрачнел и ожесточенно курил. Маша злилась, плевалась сквозь зубы и, хлопнув входной дверью (вздрагивали оторванные полосы грязно- коричневого дерматина), уходила гулять одна, выпивала где-нибудь три чашки кофе и возвращалась. Она не сразу поняла, почему злится. И когда поняла, сразу сказала ему: вид слабого мужчины внушал ей натуральный ужас. А. А. возражал ей, что не такой уж он и слабый, что вот же ушел он от нее, не так-то это было просто… Маша кинула ему: колобок фигов.
Но его взгляд имел в то лето магнетическое влияние на Машу: она успокоилась и рассмеялась. И все же, засыпая, А. А. стонал, как от зубной боли. Маша держала его за плечо и думала, что она знает о его жене. Она видела ее мельком, еще когда она приходила в школу, — тонкая женщина со страдальческими глазами и яркой родинкой в уголке губы. Она любила Бунина, капучино с корицей и А. А. Взрослая Маша в припадке цинизма могла бы сказать про такую: пизда на шнурках, — но в действительности дело было в другом.
А.А. познакомился с ней на филфаке — девушки там были легки, как пузырики жвачки, не все, конечно, многие были просто гоблины, но воображению было где разгуляться, и А.А. успевал, между библиотекой, лекциями и рюмочными, приволокнуться, или, как он сам говорил (любил это кружевное слово), ухаживать за улыбчивыми бесстрашными однокурсницами, а потом младшекурсницами (слушай, говорят, у тебя конспекты есть с первого курса, — есть, конечно, есть). В нем не было «спортивного интереса» — в каждую девицу он взаправду влюблялся (когда он рассказывал об этом Маше — она лежала на спине, и он гладил нежную кожу ее груди, — Маша смеялась: каждый раз как в первый раз) и ни одной не изменял. Лиза не была одной из ряда (впрочем, и ряда никакого, по Станиславскому, не было) — несмотря на то, что она (мама-учительница и отец — отставной полковник уехали в Крым) почти сразу привела его в свою постель, А. А. долго, дольше обычного был заворожен ее задумчивым взглядом, медленными пальцами и родинкой в уголке губы (даже ее имя не казалось ему пластмассовым). Зиму они просидели у нее в комнате, целуясь и переводя с русского на латынь. К весне А. А. стало казаться, что ее мечтательность холодна, как суп из холодильника, а пальцы медленные — от скуки, но так случилось, что — первый серьезный курсовик, доклады на конференциях — он решил отложить разрыв до лета, а летом язык у него обвял, как у перепившего старика.