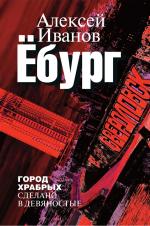- Евгений Водолазкин. Совсем другое время. — М.: АСТ, 2013. — 477 с.
Сборник «Совсем другое время» Евгения Водолазкина — как альбом со старыми фотографиями: листаешь страницы, что-то пропускаешь, но потом все равно возвращаешься. Первым идет роман «Соловьев и Ларионов», затем повесть «Близкие друзья», а напоследок — рассказы о детстве, прадеде-белогвардейце и ленинградском духе, сформировавшемся в блокаду и плотно осевшем на островах.
Повесть «Близкие друзья», где по-ремарковски сопереживаешь героям, пусть у одного из них и нашита на рукаве свастика, рассказывает о закадычных приятелях детства. В тройственном союзе кто-то, как правило, оказывается в стороне, и годы войны служат не единственной помехой. Но дружба Ханса, Ральфа и Эрнестины свидетельствует о том, что третий не всегда лишний. Спустя 63 года после Сталинградской битвы Ральф возвращается в Россию, чтобы снова проделать путь, который в годы войны сопровождался потерями и обретением. По мере чтения повести отношение к герою меняется: перестают мучить сомнения в том, стоит ли принимать близко к сердцу трагедии противника. Потому что на самом деле повесть — о любви, которая прочнее зданий, разрушенных бомбежками.
Первые страницы романа «Соловьев и Ларионов» перелистываешь с темпом Обломова, не подозревая, что к концу произведение окажется почти историческим акунинским детективом. Обилие ссылок и сносок делает его похожим на скрупулезный труд по подготовке диссертации. На это и был сделан акцент. Иногда сноски указывают на конкретные источники (роман Даниила Гранина «Иду на грозу»), а порой — на плод воображения автора (А.Я. Петров-Похабник «Юродство генерала»). Это превращает текст, написанный мелким шрифтом, в отдельный сюжет.
Подросток Соловьев переезжает с точки на карте под названием «715-й километр» в Петербург. Там молодой историк с подходящей фамилией меняет свой «голубоглазый романтизм» на склонность к точности и достоверным знаниям. В качестве предмета исследования ему подсовывают биографию генерала Ларионова. Отвоевавший свое белогвардеец спустя двадцать лет после воссоединения с павшей армией начинает влиять на судьбу ученого, заставляя его отправиться то в Ялту, то в родное поселение. Генерал, как и Ральф из повести, вопреки историческим событиям, остается жив. И докладчики на конференциях, перебивая другу друга, пытаются объяснить, почему же ему это удалось.
Крым встречает Соловьева припекающим солнцем, кислым вином и авантюрами. Герой академичного текста успевает совершить кражу со взломом, побороть шторм и повернуть линию жизни к соседнему дому из детства, где когда-то жила Лиза Ларионова. Связь фамилий и воспоминаний вдруг переплетает все пути-дороги, и под конец Соловьев занимается поисками уже совсем не для кандидатской работы.
Любовная линия в романе, кажется, намеренно написана в стиле мечтательного аспиранта, который только-только окунулся в омут вседозволенности. Чувства у Соловьева вспыхивают самые разные. Детская любовь к библиотекарше с уверенным «женюсь», стойкая и трогательная — к родной станции «715-й километр». Не обошлось и без курортно-командировочного романа. Однако наиболее ярким образом остается юношеская любовь — Лиза, которую он затем потерял из виду, но не из мыслей. Призрак прошлого, неустанно следуя за Соловьевым, постоянно соперничает с реальными женщинами. Наконец историк и сам понимает, что это единственное, ради чего стоит бороться и искать, найти и не сдаваться.
Белое движение описано Евгением Водолазкиным так, словно автор сам с остатками армии отступал к побережью по застывшему заливу Сиваш. Запорошенные снегом, с потухшим взглядом, солдаты идут вереницей, механически переставляют ноги. На оставленных позициях так же заметает красных, повисших на заграждениях из колючей проволоки. Над всем действием словно парит на лошади генерал, скорбя по тем и другим, по тому, что происходит с его страной.
Рассказ об отплывающих из Ялтинского порта кораблях напоминает фильм «Служили два товарища». «Набережная опустела довольно быстро. Там остались лишь брошенные при эвакуации лошади. С некоторых даже не успели снять седла. Никому не нужные лошади разбредались по окрестным улицам». Кажется, одна из них должна была кинуться вслед за кораблем, где уже тянулся к кобуре герой Высоцкого.
Образ Ларионова собирательный. «У генерала много предшественников. Среди них мой прадед, который был директором гимназии в Питере, а потом пошел добровольцем в Белую армию, хотя был совершенно мирным человеком. Видимо, похабство советского времени он предвидел уже тогда. Когда Белую армию разбили, прадед бежал на Украину, где преподавал математику в школе, а на собраниях выступал как ветеран гражданской войны. Просто он не говорил, с какой стороны», — рассказал Евгений Водолазкин на встрече с читателями. Сыграл роль в образе Ларионова и Александр Суворов. Это частичное воплощение идеи автора написать роман о полководце как о юродивом, в котором сочеталось огромное благочестие и стремление к эпатажным поступкам.
В роман заползли описания жаркого Крыма, знакомых подворотен Петербурга и даже довлатовские диалоги.
«— Письма Достоевского из Германии шли пять дней, — проинформировал собеседника Соловьев.
— Достоевский был гений, — возразил заведующий».
В итоге действие оборачивается маскарадом, грандиозным по масштабу и задумке. Открывшиеся тайны переворачивают события в романе, а было ли это на самом деле, остается загадкой истории. Во всяком случае, сноски мелким шрифтом дают утвердительный ответ.
Метка: Современная литература
Евгений Чижов. Перевод с подстрочника
- Евгений Чижов. Перевод с подстрочника. – М.: АСТ, 2013. – 512 с.
Поэзия — это власть.
О. Мандельштам (в разговоре)Тугульды — ульды*
Восточное выражение
* Жил — умер (тюркск.).Часть первая
В купе было душно, с нижней полки доносился стариковский храп, он отчаялся уснуть и безнадёжно ворочался, подолгу глядя в окно, где над уносящимися тёмными пространствами парила полная луна, и в памяти снова и снова возникал подстрочник стихов, которые ему предстояло перевести: «…Истошно крича, надрываясь, сбивая ритм чугунного сердца, скрипя железными сухожилиями, поезд летит по тоннелю, прорытому в глухой ночи, к сияющей в далёком конце раскалённой луне». Олег так и этак поворачивал длинную негнущуюся фразу, пытаясь вместить её в размер, и думал о том, что автору этих строк, кажется, тоже случалось переживать бессонную ночь в вагоне. Он, правда, путешествовал не в тесном купе, как его переводчик (один из десятков, разбросанных по всему миру… Сколько их ломает этой ночью голову над его стихами?), и даже не в кондиционированном СВ. У него, как и Олег Печигин, не переносившего самолётов, был для дальних поездок собственный специально оборудованный поезд.
Днём пейзаж за окном был таким однообразным, что казалось, поезд часами движется на месте. Серо-зелёную плоскость степи, на протяжении многих километров огороженную зачем-то колючей проволокой, изредка нарушали похожие на игрушечные городки мусульманские кладбища, гораздо более яркие, чем настоящие города и посёлки, тусклые от пыли. Смуглые люди на переездах и перронах небольших станций выглядели так, точно простояли всю жизнь под палящим солнцем в ожидании поезда, который остановится у их платформы, но ни один ни разу не остановился, и всё-таки они не уходили, глядя прищуренными глазами на очередной проходящий состав с привычной обречённостью, прикованные к месту остатками неистребимой надежды. Однажды Олег увидел посреди пустой степи одинокого человека, изо всех сил махавшего на ходу руками. Олег наблюдал за ним, пока тот не исчез из вида, но так и не смог понять, зачем он это делал: подавал знаки кому-то невидимому или стремился привлечь к себе внимание пассажиров поезда, чтобы остаться в их памяти?
В купе только старик коштыр с нижней полки неотрывно смотрел в окно, чему-то постоянно улыбаясь, точно пустота пространства, его количество или само по себе движение поезда, отбрасывающее назад эти бесконечные степи, доставляло ему удовольствие. Глядя на него, Олег вспомнил, какой радостью был в детстве первый летний выезд из города на дачу, долгое путешествие на электричке, когда он намертво прилипал к окну (чем дальше они ехали на юг, тем больше всплывало в сознании давно забытое, точно по мере того, как становилось всё теплее, оттаивали глубокие слои памяти), — возможно, в таком же блаженстве пребывал сейчас седой морщинистый коштыр, аккуратно поставивший под стол пару сапог, обутых в калоши. Поддерживать это состояние помогал ему напиток из резко пахнувшего спирта в заткнутой самодельной пробкой бутылке и кефира, смешиваемый в железной кружке. Сделав несколько глотков, он включал погромче заунывную, под стать проплывающим пейзажам, музыку по радио, и начинал тихонько подпевать отдающим в нос голосом, мерно раскачиваясь в такт, как, должно быть, раскачивался между верблюжьих горбов его предок во главе каравана, идущего по Великому шёлковому пути. Заметив любопытство Олега к напитку, старик предложил ему попробовать. Печигин сперва отказался, потом решил рискнуть, подумав, что, войдя во вкус питья, он, может быть, поймёт, чему улыбается глядящий в окно старик, что он там видит такого, что бескрайняя тусклая равнина ему не надоедает. И действительно, Олегу скоро сделалось уютно в тесном купе, радиомузыка вместе со стуком колёс укачивали его, а пыль на грязном окне всё отчётливее обретала в косых солнечных лучах объёмы и формы, полупрозрачные и сияющие. Оставалось ещё немного прищуриться, изменить угол зрения, и он схватил бы их ускользающий рисунок, разгадал их секрет и постиг бы связь между улыбкой старика и уносящейся пустотой степи, но тут в животе у него так взбурлило, что он едва успел добежать до туалета. Этим не кончилось, до вечера его пронесло ещё трижды, и только к ночи, когда он уже был вконец измочален и опустошён, желудок успокоился. После этого он смотрел на старика совсем другими глазами, уверенный, что органы пищеварения, а скорее всего, и прочие внутренности устроены у того абсолютно иначе, поэтому гадать, чему он улыбался, глядя в окно, бесполезно. Может, у него и зрение иное, и в проплывающей мимо степи он видит то, чего Печигину вовек не различить…
Столь же безрезультатным оказалось наблюдение и за двумя другими соседями по купе. (Попутчики были первыми коштырами, которых он мог рассматривать без помех, тем более что заняться ему всё равно было нечем: от бессонной ночи у него болела голова и заставить себя засесть за перевод он не мог.) Женщина лет тридцати пяти бесконечно шила из лоскутов, которых у неё был с собой целый баул, покрывало и была так поглощена своим занятием, точно больше ничего в целом мире для неё не существовало. Она была красива тяжёлой восточной красотой, с тёмными глазами на загорелом лице и заметным следом полустёртой линии, соединявшей над переносицей густые брови, но держалась так, что Олегу казалось невозможным вообразить даже самую отдалённую степень близости с ней. Не то чтобы она совсем не замечала его и второго мужчину в купе, она даже предложила им свою еду («Кушайте! Почему не кушаете?!»), но при этом они, похоже, были ей не интереснее чемоданов и сумок на полках для ручной клади. На свой счёт, по крайней мере, Печигин был уверен. За всю дорогу он ни разу не встретился с ней взглядом, не соприкоснулся в тесноте, не почувствовал ни малейшего с её стороны любопытства. Правда, ближе к концу пути он заподозрил, что, возможно, ошибается, принимая за безразличие очень хорошо скрытое внимание — чтобы так последовательно избегать любого прикосновения, нужно постоянно быть начеку, всё время помнить о тех, кто заперт вместе с тобой в коробке купе. Но даже если это и было так, никаких подтверждений Олегу заметить не удалось. Женщина почти не поднимала глаз от своего шитья, и оставалось предположить, что она держит спутников в поле наблюдения какого-то неизвестного Печигину органа восприятия.
Третьим был мужчина под сорок со скуластым смуглым лицом, словно составленным из одних прямых углов. В движениях его тоже присутствовала заметная прямоугольность, и, когда он поворачивался на своей верхней полке, казалось, только из-за стука колёс не слышно скрипа этих углов, притирающихся друг к другу. Он почти всё время читал книгу на неизвестном Олегу языке и ни разу не сказал ему ни слова, из чего Печигин сделал вывод, что он, скорее всего, вообще не говорит по-русски. С соплеменниками мужчина изредка общался короткими фразами, звучавшими на слух Олега так, точно они были записаны на плёнку, прокрученную в обратную сторону. Старик и женщина что-то ему отвечали, и уже на второй день пути между всеми тремя установилось такое полное понимание, словно они выросли в одном селе. Каждый был занят своим делом, никто никому не мешал и не навязывался, места всем хватало. А непричастный к этому дорожному уюту Печигин спрашивал себя, не едет ли он в края, где иногда возникавшее раньше ощущение, будто всё, что есть у него общего с окружающими, ограничивается поверхностным видовым сходством, станет неоспоримым фактом.
На третий день степи кончились, пошли пески. Их мёртвое жёлтое море медленно закручивалось муторным водоворотом, вращавшимся со скоростью движения поезда. Кое¬где над барханами, как мачты затонувших среди песчаных волн кораблей, торчали геодезические вышки. Вдалеке, мельче мух на скатерти стола, иногда появлялись и исчезали верблюды. Привыкший к городу, Олег с удивлением смотрел на этот оцепеневший под солнцем простор, не предназначенный для человека. С лица подолгу глядевшего в окно старого коштыра незаметно сползла улыбка: пустыня была не шуткой. Он по-прежнему смешивал себе по нескольку раз в день свой жуткий напиток из спирта с кефиром, но спирта, показалось Олегу, наливал теперь больше. Может быть, поэтому между ними завязался наконец разговор.
— Много… — сказал старик как будто с гордостью за пустыню, — много песка!
Олег кивнул. Старик заговорил о водохранилище, вырытом среди пустыни по прямому распоряжению президента (Народного Вожатого — так он его назвал). Оно было недавно закончено и теперь открыто для всех. Сам старик там не был, но видел по телевизору.
— Очень большое! Настоящее море!
По нему даже плавали яхты, включая новую трёхпалубную яхту самого Народного Вожатого — её тоже показали по телевизору. Со временем старик собирался непременно поехать на водохранилище, вода в котором, уверяли, целебная, потому что заполняется из источников, бьющих чуть ли не из самого центра Земли. Оставалось скопить денег на поездку. (Дорогу в Москву и обратно ему оплатил сын, водивший в русской столице маршрутку.) Олег спросил, сколько старик получает. Оказалось, что его пенсия в пересчёте на доллары не дотягивает до тридцати, поэтому он ещё торгует козинаками и семечками возле рынка и в хорошие дни имеет до доллара за день. Об этом приработке старик говорил, хвастаясь: мол, не каждому так удаётся. Нужных документов для торговли у него не было, поэтому милиция его то и дело прогоняла.
— Пустяки всё. Мне денег много не надо. Это молодым рестораны нужны, а я сухофруктами питаюсь — они, знаешь, какие сытные? С утра пожевал и до вечера есть не хочешь. Их пастухи с собой берут, когда на целый день со стадами уходят. И полезные. А от масла и сметаны вред один. Свет, газ, вода и соль у нас, спасибо Народному Вожатому, бесплатные, так что у меня остаётся ещё.
— Я читал, что у вас предприятия закрываются, производство по всей стране стоит и работы нигде нет.
— Работы нет для тех, кто работать не хочет. У нас в районе работы сколько угодно — бери землю в аренду, обрабатывай. Только тяжело это, нынешние молодые к такому не привыкли.
— Они, я слышал, в другие страны на заработки едут: кто в Россию, кто в Казахстан, самые ловкие — в Европу.
— Пусть себе едут, на то они и молодые… На мир поглядеть хотят. Никто ж их не держит.
— А ещё я слышал, что прошлой зимой у вас были такие холода, что десятки людей насмерть замёрзли.
— Да, — старик кивнул, по-прежнему пристально глядя в окно на пески, — Аллах холодную зиму дал, давно такой не было. Но чтобы кто-то замёрз, я не слышал. Сгоревшие были. Разведут на полу костёр греться — и уснут возле него. Дом дотла и сгорит. Было.
— Ещё у нас сообщали, будто ваш президент давно болеет, пошли даже слухи, что он уже умер, но это скрывается.
Старик замотал головой с такой уверенностью, точно президент в принципе не мог умереть, был бессмертен.— Болел, да, но потом Народный Вожатый совершил паломничество по нашим святым местам. Все святые места объехал, и всем поклонился, и после этого выздоровел.
— А стихи его вы читали?
Старик оторвался от созерцания пустыни и впервые остановившимся взглядом поглядел на Печигина.
— Может быть, по радио слышали? Вы вообще знаете, что ваш Народный Вожатый — ещё и поэт, чьи книги выходят огромными тиражами и продаются, мне рассказывали, в каждом киоске?
— Конечно, — торопливо закивал старик, — Народный Вожатый — великий поэт!
— У меня договор на перевод его стихов на русский. Его заключил со мной Тимур Касымов — вы его, возможно, знаете. Может быть, я даже буду с ним встречаться — то есть не с Тимуром, с ним-то само собой, а с вашим президентом. По крайней мере, Тимур обещал, что постарается устроить мне встречу.
Олег говорил, обращаясь к старику, но рассчитывая при этом привлечь внимание занятой шитьём женщины. И она действительно оторвалась от своего рукоделья.
— Касымов — это тот, который по телевизору?
— Да, он работает на телевидении, часто выступает с комментариями. Я-то сам, конечно, не видел, но он мне рассказывал, что почти каждый день в эфире.
— А я его ещё в газете читал, — сказал старик и засомневался: — А может, это брат его был… На рынке в конце дня много газет остаётся валяться, я подбираю и читаю.
— Вполне возможно, что это был Тимур. Он много публикуется.
— Вы с ним знакомы, да?
В голосе женщины слышалось скрытое волнение. «Достаточно знакомства с человеком из телевизора, — разочарованно подумал Олег, — и от её безразличия и недоступности ничего не осталось».
— С детства. Учились вместе.
— И он хотел, чтобы вы переводили стихи Народного Вожатого?
— Ну да, он почему-то уверен, что у меня это должно получиться…
Женщина снова опустила глаза к шитью, её пальцы сделали пару стежков, потом застыли. Мимо плыла пустыня: плоские крыши низких строений в оазисе, старый мотоцикл с коляской возле колодца, с канистрой вместо пассажира, буровая вышка, пересохшее русло реки, мелкий сухой кустарник и опять пески, пески…
— Это, наверное, очень сложно — переводить стихи…
— Проще, чем писать собственные. И гораздо лучше оплачивается. Бывает, правда, попадаются твёрдые орешки, бьёшься над ними, бьёшься — всё попусту. Но зарабатывать ведь как¬то надо, а больше я ничего не умею, одними сухофруктами питаться пока не научился. Стихи вашего Вожатого, например, не из лёгких. Хотите, прочту что¬нибудь?
— Конечно.
Женщина отложила в сторону шитьё, сложила руки и приготовилась слушать, сразу став похожа на усердную школьницу с первой парты. Старик сделал большой глоток из кружки, поросший белым пухом кадык заходил вверх-вниз. Олег порылся в папке с подстрочниками.
— Здесь где-то было как раз про пустыню. Вот, нашёл.
Пустыня, ты — зевок Аллаха.
Ты была создана им в тот день,
когда Всемогущий пресытился разнообразием мира форм,
выражений и лиц — цветов и галактик, рыб и людей,
горных хребтов и червей, облаков и деревьев, когда
у него зарябило в глазах от их
смеха, печали, отчаянья, радости, страха, безумия, и он
взалкал простейшего: первоматерии без
формы, такой, какова она есть, и тогда сотворил
это неисчислимое множество горячего песка,
пересыпаемого ладонями горизонтов
из пустого в порожнее и обратно в пустое.
Небо, глядя тебе в лицо, каменеет, бледнеет.
Солнце стоит неподвижно, извергаясь, как вскрытый нарыв.
Ветер играет с тобой, как ребёнок с дремлющим львом,
дитя в необъятной песочнице, насыпающее барханы и снова
ровняющее их, оставляя следы на тебе, как и брюхо гюрзы или эфы.
Но они исчезают быстрее теней облаков.
Сквозь городской шум, гвалт новостей, голоса друзей,
визги и тявканье врагов, сквозь нестройную музыку жизни,
в дальнем громе, перекатывающемся за горизонтом,
я слышу твой глухой львиный рык, от которого дрожит воздух.
Ты ширишься у меня под сердцем, днём и ночью
чувствую жаркое дыханье твоей ненасытной пасти,
из века в век пожиравшей города с их царями, крепости с их гарнизонами,
караваны, гружённые коврами, драгоценностями, пряностями, шелками,
караваны, гружённые неподъёмной тоской,
вереницы верблюдов, несущих упорство надежды,
с каждым шагом увязая всё глубже во времени.
Каждый шаг тяжелее предыдущего, пот заливает глаза.
Ты — дахр. Всем, всем, всем
твой горячий песок забил оскаленные мёртвые рты.
Все жуют эту пресную пищу смерти, сухой паёк времени.
В твоей лунной безлюдной ночи слышен скрип песка на зубах.
Луна глядит на тебя, как слепой смотрит в зеркало.
Лишь она тебя знает, заливая своим нежным светом.
Ты ширишься, перерастаешь себя, твоя
неподвижность обманчива, твой центр
ненаходим, твоя форма изменчива.
Ночью мы с тобой остаёмся один на один, ты и я под голой луной,
под которой тень человека достоверней его самого.
Слухом сердца слышу оглушительный
гул твоей тишины. Глазами сердца подолгу
гляжу в твоё ночное лицо, лишённое черт. Ты ширишься
как раковая опухоль под сердцем моей страны.
Но тебя нельзя удалить, не вырезав вместе и душу.
Закончив, Печигин посмотрел на слушателей. Лицо женщины было непроницаемо-внимательным, старый коштыр глядел на него без удивления, но выжидательно. Похоже, побывав в Москве, он ничему больше не удивлялся; Олег был для него существом иной природы, от которого можно было ждать всего. Убедившись, что чтение завершилось, он вновь принялся молча смешивать в кружке своё питьё.
— Ну что? Как вам? По-моему, хорошие стихи.
А в оригинале, с рифмами и соблюдением размера, наверняка ещё лучше.
— Конечно, — с готовностью согласился старик, — гораздо лучше!
Он подошёл, когда Печигин стоял у окна в коридоре, где было не так душно. Встал рядом, но спиной к стеклу. На его словно из одних прямых углов составленном тёмном лице блестели в косом вечернем свете крупные капли пота. Минуты три он молчал, а когда Олег уже собрался возвращаться в купе, заговорил на чистом русском, без всякого акцента:
— Всё, что вы читали и слышали о нашей стране, — только часть правды. В действительности всё гораздо хуже. Я думаю, вам полезно это знать. Прошлой зимой, например, в холода вымерли не десятки, а сотни людей. В горах, где нет ни электричества, ни отопления, замерзали целые кишлаки. Старик ничего об этом не знает, потому что по телевизору или в газетах об этом не было ни слова. Все средства информации под железным контролем власти, в них нет ничего, кроме славословий Гулимову и новой эпохе, начатой его правлением. Разрушенное гражданской войной хозяйство не восстановлено, дехкане живут впроголодь, не только молодые, но вообще все, кто может, уезжают из страны. Гулимов открывает тюрьмы и выпускает на свободу тысячи уголовников, народ ликует по поводу амнистии, а он это делает затем, чтобы освободить камеры для противников режима. Видите блеск — вон там, на горизонте, — повернувшись к окну, он показал на мреющее сверкание вдали, между песками и небом. — Это соляные озёра. Точно такие же, только ещё больше, есть по ту сторону границы, на нашей территории. В них с вертолётов сбрасывают расстрелянных. Соль разъедает тела, и от них не остаётся ничего. Ни следа. Особенно много их скинули туда после последнего покушения на президента. Вода в этих озёрах должна была выйти из берегов. Да, я думаю, вам нужно это знать. Я, извините, не представился, меня зовут Алишер. Отец, учитель литературы, назвал в честь поэта. В России обычно говорят Алик или Александр.
Он произносил всё это ровным тоном, спокойно, но лицо его кривилось, точно составлявшие его прямые углы теснили и давили друг друга. Похоже было, что он борется с головной или зубной болью.
— У вас ничего не болит?
— Зубы. Буду благодарен за таблетку анальгина, если найдётся.
Печигин сходил в купе за анальгином.
Народ и воля
- Ксения Букша. Завод «Свобода». — М.: ОГИ, 2014. — 240 с.
У меня одна забота:
почему на свете нет завода,
где бы делалась свобода?Иосиф Бродский «Песенка о Свободе»
Говоря о Ксении Букше, приходится избегать определений «поэт» или «прозаик». Писательница владеет всеми жанрами литературы и публицистики. В ее библиографии значится около десяти стилистически различных книг, а количество публикаций сможет подсчитать только кропотливый архивариус. Ни разу не входив в число лауреатов литературных премий, она в начале своего пути была опекаема именитыми авторами, блистательными стилистами Александром Житинским, Дмитрием Быковым и Леонидом Юзефовичем.
Букша и писатели — самостоятельная тема для исследований. Легкие кивки в сторону признанных классиков современности, наставников, друзей и коллег по цеху (не обошлось здесь без московских концептуалистов Владимира Сорокина и Льва Рубинштейна) встречаются в ее новой книге «Завод „Свобода“» от главы к главе. Определение «производственный роман», которое почти закрепилось за этим произведением усердием критиков и издателей, было дано, по всей видимости, с оглядкой на персонажей и место действия. Сорок небольших глав-корпусов «Завода…» действительно сложены кирпич за кирпичиком из фактического материала — архивных данных и прямой речи рабочих советского оборонного предприятия.
По словам Ксении, в романе «почти нет вымышленных персонажей, они лишь немножко додуманы». Директор, чьи образы вызывают в памяти галерею градоначальников Салтыкова-Щедрина, диспетчеры, слесари-сборщики, токари, фрезеровщики, инженеры-координаторы получают в книге слово. И говорят от души.
Пласт повседневной речи, с которым Букша работает вплотную, намеренно не обработан. Из полилога, разлитого на страницах книги подобно чернильному пятну, где угадываются некие антропоморфные фигуры, непросто вычленить количество участников. Одни из них появляются и исчезают неназванными, другие же представлены шифром из латинских букв: N, F, Ходжа Z, Данила L, Танечка S. Обозначено в тексте и авторское присутствие — просьбами героев к интервьюеру выключить диктофон или не передавать на бумаге, как «выпендривается» говорящий.
Имитация расшифровки, случайности и необязательности сказанного позволили Ксении Букше «наполнить текст лирикой, как воздухом, но людей оставить такими, каковы они на самом деле». Задолго до нас было отмечено, что жизнь подбрасывает гораздо более фантасмагорические сюжеты, чем можно придумать. Так и завод, увиденный тридцатилетней писательницей, вдруг открыл свой темный зев и задышал поэзией.
«Астра», «Мимоза», «Лилия» — выпускаемые здесь ракетные установки и радиолокационные станции не могли иметь иных названий. А вот солнечными зайчиками расходятся от «Золотого шара», аппарата для облучения раковых больных, улыбки десятков тысяч спасенных. Некоторую озадаченность и смешки в рукав вызывает «Диспетчер-СЦУК», но не подумайте лишнего, это всего лишь «система централизованного управления и контроля».
Главная лексическая находка автора —в заглавии книги. Игра смыслов, тут и там возникающая на страницах произведения, добавляет остроты таким, например, фразам: «Вообще без „Свободы“ сразу становится непонятно, который час, где штаны и кто я такой». Наконец, апогеем писательского мастерства и деликатности можно назвать финальные строки:
Чувство нехватки, то чувство, которое в нем было основным всю жизнь, вдруг неуловимым поворотом ключа как будто осветило мир; все так же недоставало, но это было прекрасно. Хорошо жить столько, сколько понадобится, и ты почти не переменишься, как не менялся до сих пор, и эта чуткость, и течение времени, теплая свежесть, воздушные токи вокруг, эта серо-белая дымка, в которой есть весь спектр, и „Курс“, и новая разработка впереди, и узловатые веники тополей на чисто выметенном проспекте Стачек, и бледно-сиреневое небо над городом, — это и есть […]
«…Свобода!» — откликаюсь я автору. Однако в том и красота, что любой сможет подставить в квадратные скобки близкое ему слово.
Каждый из сорока фрагментов звучит с новой интонацией, подчеркивая свою обособленность и в то же время встраиваясь в общую мелодию. В ней слышатся духовые, ударные инструменты и мерный топот ног, когда речь идет о расцвете советского завода. В восьмидесятые звук удара металла о металл приобретает иной характер: кажется, это бьют не в тарелки, а по-хозяйски добывают цветмет. Девяностые осовременили мелодию марша, добавив битов, семплов и скретчей. Запись же наших дней невнятна. Наложения новых композиций на старые создали запутанный палимпсест.
Неровными линиями пастели, толстым слоем гуаши изображены на страницах книги небрежные фигуры, словно наброски будущих картин. Роману в целом присущи схематичность и незавершенность — свойства, которыми в полной мере обладает только сама Жизнь.
Мо Янь. Перемены
- Мо Янь. Перемены. — М.: Эксмо. — 144 с.
(1)
Вообще-то, я должен был описывать то, что
происходило после 1979 года, но мои мысли
постоянно прорывались через этот рубеж,
перенося меня в солнечный осенний день
1969-го, когда цвели золотистые хризантемы, а дикие гуси летели на юг.В этот момент я уже неотделим от собственных воспоминаний. В моей памяти —
тогдашний «я», одинокий, выгнанный из
школы мальчик, которого привлекли громкие крики и который боязливо пробрался
через неохраняемый главный вход, преодолел
длинный темный коридор и прошел в самое
сердце школы — во двор, окруженный со всех
сторон зданиями. Слева во дворе высился
дубовый шест, на его верхушке проволокой
закрепили поперечную балку, с которой
свисал железный колокол, пятнистый от
ржавчины. Справа стоял простой стол для
настольного тенниса из бетона и кирпичей, вокруг которого собралась целая толпа
поглазеть на матч между двумя игроками,
отсюда и крики. Это самый разгар осенних
каникул, так что большая часть собравшихся вокруг стола — преподаватели, помимо
них присутствовали еще несколько симпатичных школьниц — гордость школы,
члены школьной команды по настольному теннису. Они собирались участвовать
в уездных соревнованиях в честь годовщины
образования КНР, а потому не отдыхали на
каникулах, а тренировались в школе. Все
они были дочерьми кадровых работников
местного колхоза, и с первого взгляда было
видно, как разительно они отличаются от
нас, деревенской бедноты, поскольку они
нормально питались и росли, у них была
белая кожа, они ни в чем не нуждались
и одевались в яркие платья. Мы смотрели
на них снизу вверх, но эти девочки нас не
замечали, глядя прямо перед собой. Одним
из игроков оказался учитель Лю Тяньгуан,
который раньше преподавал у меня математику: низенький человек с удивительно
большим ртом. Поговаривали, что он может
засунуть себе в рот кулак, но при нас он ни
разу подобное не проделывал. В моей памяти часто всплывает картинка — учитель
Лю зевает, стоя на кафедре, его разинутая
пасть выглядит внушительно. Лю прозвали
«бегемотом», но среди нас никто не видал
бегемотов, зато по-китайски «жаба» и «бегемот» звучат очень похоже, и у жабы тоже
огромный рот, так что «бегемот Лю» естественным образом превратилось в прозвище
«жаба Лю». Это не я придумал, хотя после
проверок и расспросов почему-то решили,
что я. Жаба Лю был сыном героя, павшего
в революционной борьбе, да и сам занимал
пост заместителя председателя школьного
революционного комитета, а потому давать
ему обидные прозвища, разумеется, ужасное
преступление, за которое меня неизбежно исключили из школы и выставили за
дверь.Я с детства ни на что не гожусь, вечно
мне не везет, я мастер испортить все хорошие начинания. Зачастую, когда я пытался подлизаться к кому-то из учителей, они
ошибочно полагали, что я хочу навлечь на
них неприятности. Мать неоднократно со
вздохом говорила: «Сынок, ты как та сова,
что пытается принести добрые вести, да
репутация уже испорчена!» И правда, обо
мне никто не мог подумать ничего хорошего,
но если речь шла о дурных поступках, то
их непременно приписывали именно мне.
Многие считали, что я малолетний бандит, идеология у меня хромает, и вообще,
я ненавижу школу и учителей. Но это неправда на сто процентов. На самом деле я
искренне любил школу, а к большеротому
учителю Лю и вовсе питал особые чувства,
а все потому, что был таким же большеротым, как и он. Я написал повесть, которая
называется «Большой рот», так вот главный
герой списан с меня самого. На самом деле
мы с большеротым учителем Лю — товарищи
по несчастью. Нам бы стоило сочувствовать
друг другу, иначе говоря, поддерживать себе
подобного. Если бы я и стал придумывать
кому-то прозвища, так уж точно не ему.
Это ясно как день, но не для учителя Лю.
Он схватил меня за волосы и, притащив
в свой кабинет, пнул так, что я упал на пол,
и сказал:— Знаешь, как это называется? Ворона
смеется над черной свиньей! Напруди-ка
лужу мочи да посмотри на отражение своего
«миленького» ротика!Я пытался объяснить учителю Лю, но
он меня не слушал. Вот так хорошего паренька, Большеротого Мо, который всегда
относился к Большеротому Лю с симпатией,
исключили из школы. Мое ничтожество
проявилось вот в чем: несмотря на то что
учитель Лю объявил о моем исключении
перед всеми преподавателями и учениками, я по-прежнему любил школу и каждый
день, неся за спиной прохудившийся ранец,
искал возможность проникнуть тайком на
ее территорию…Сначала учитель Лю лично требовал,
чтобы я убрался, но я не уходил, и тогда
он выволакивал меня за ухо или за волосы,
но не успевал даже вернуться к себе в кабинет, как я уже тайком пробирался внутрь.
Потом он стал отправлять нескольких высоких крепких ребят прогнать меня, но я
все равно не уходил, и тогда они хватали
меня за руки и за ноги, выносили за ворота
и выкидывали на улицу. Но еще раньше, чем
они возвращались в класс и усаживались
за парты, я опять оказывался на школьном
дворе. Я забивался в угол, изо всех сил съеживался, чтобы не привлекать к себе внимания
окружающих, но вызвать у них сочувствие,
и торчал во дворе, слушая, как школьники
весело болтают и хохочут, глядя, как они
бегают вприпрыжку. Но больше всего мне
нравилось наблюдать за игрой в настольный
теннис, причем увлекался я настолько, что на
глаза часто наворачивались слезы, и я кусал
кулак… А потом всем уже просто надоело
меня прогонять.В тот осенний день сорок лет назад я
тоже жался к стене, глядя, как Жаба Лю,
размахивая самодельной ракеткой, размером
больше обычной, а по форме напоминающей
саперную лопатку, сражается с моей быв-
шей одноклассницей и соседкой по парте
Лу Вэньли. На самом деле Лу Вэньли тоже
большеротая, но ей большой рот идет и не
кажется таким огромным, как у нас с учителем Лю. Даже тогда, во времена, когда
крупный рот не являлся признаком красоты,
она считалась почти что самой красивой
девочкой в школе. Тем более ее отец работал
в совхозе водителем, ездил на советском
«ГАЗ-51», скоростном и внушительном. В те
годы профессия водителя считалась очень
почетной. Как-то раз классный руководитель задал нам написать сочинение на тему
«Моя мечта», так половина мальчишек из
класса написали, что хотят стать водителями. А Хэ Чжиу, самый рослый и крепкий
парень в нашем классе, с прыщами по всему
лицу и усиками над верхней губой, который
вполне сошел бы за двадцатипятилетнего,
написал просто: «У меня нет никаких других
желаний. Мечтаю лишь об одном. Хочу быть
папой Лу Вэньли».
Учитель Чжан любил на уроке зачитывать лучшие и худшие, на его взгляд,
сочинения. Он не называл имен авторов,
а просил нас угадать. В те времена в селе
поднимали на смех всех, кто говорил на
путунхуа, даже школа не была исключением.Учитель Чжан — единственный в школе
преподаватель, кто осмелился вести занятия
на путунхуа. Он окончил педагогическое
училище и едва перешагнул двадцатилетний рубеж. У него было худое вытянутое
бледное лицо и волосы на косой пробор,
а носил он застиранную синюю габардиновую гимнастерку, на воротнике которой
красовались две скрепки, а на рукавах —
темно-синие нарукавники. Наверняка он
носил и какие-то другие цвета и фасоны,
не мог же он ходить круглый год в одной
и той же одежде, но в моей памяти его образ
неразрывно связан с этим нарядом. Я всегда
сначала вспоминаю нарукавники и скрепки на воротнике, затем саму гимнастерку
и только потом его черты, голос и выражение
лица. Если нарушить порядок, то наружность учителя Чжана мне не вспомнить ни
за что на свете. Тогдашнего учителя Чжана,
говоря на языке 80-х, можно было назвать
«симпатягой», на сленге 90-х — «улетным»,
а сейчас про таких ведь говорят просто «красавчик»?Возможно, нынче есть и более модные
и популярные словечки, какими можно описать привлекательного молодого человека,
я проконсультируюсь с соседской дочкой
и тогда узнаю. Хэ Чжиу на вид казался куда
старше преподавателя Чжана, ну, в отцы не
годился — слишком громко сказано, но если
назвать его дядей учителя Чжана, никто бы не
усомнился. Помню, как преподаватель Чжан
зачитывал сочинение Хэ Чжиу язвительным
тоном, с нарочитым пафосом: «У меня нет
никаких других желаний. Мечтаю лишь об
одном. Хочу быть папой Лу Вэньли».На мгновение воцарилась тишина, а потом класс разразился дружным хохотом.
В сочинении Хэ Чжиу всего три предложения. Учитель Чжан, взяв тетрадку за угол,
трясет ею, словно хочет вытряхнуть изнутри
шпаргалки…— Гениально, просто гениально! — приговаривает учитель Чжан. — Догадайтесь,
чье это талантливое сочинение?Никто не знал, мы вертели головами
и оборачивались во все стороны, выискивая
глазами, кто же этот «гениальный» автор.
Вскоре все взгляды были устремлены на
Хэ Чжиу, он был самым рослым и самым
сильным и любил обижать соседей по парте,
потому учитель Чжан посадил его за последнюю парту в одиночестве. Под взглядами од-
ноклассников он вроде бы покраснел, но едва
заметно. Лицо приобрело чуть смущенное
выражение, но опять же не то чтобы сильно. Он даже слегка возгордился, поскольку
на лице появилась глуповатая, противная
и хитрая улыбочка. У него довольно короткая верхняя губа, а потому при улыбке
обнажается верхняя челюсть — фиолетовая
десна, желтые зубы и щель между передними
зубами. У Хэ Чжиу есть особый талант —
пускать через эту щель пузыри, которые
потом летают перед его лицом, притягивая
всеобщее внимание. Вот и сейчас он начал
пускать пузыри. Учитель Чжан метнул в него
тетрадку, как летающий диск, но по дороге
тетрадка упала перед Ду Баохуа, а она вообще-то хорошо учится… Она взяла тетрадку
двумя пальцами и с отвращением швырнула
за спину. Учитель Чжан спросил:— Хэ Чжиу, расскажи-ка нам, почему ты
хочешь быть папой Лу Вэньли?Но Хэ Чжиу продолжал пускать пузыри.
— Ну-ка, встань! — громко крикнул учитель Чжан.
Хэ Чжиу поднялся, при этом он выглядел
надменным и безразличным одновременно.— Говори, почему ты хочешь быть папой
Лу Вэньли?Класс снова разразился громким хохотом,
а под этот хохот Лу Вэньли, сидевшая рядом со мной, вдруг уткнулась лицом в парту
и горько разрыдалась.До сих пор не понимаю, почему она заплакала.
Хэ Чжиу так и не ответил на вопрос
учителя Чжана, а лицо его приобрело еще
более надменное выражение. Из-за слез Лу
Вэньли ситуация, изначально пустяковая,
усложнилась, а поведение Хэ Чжиу бросало
вызов непререкаемому авторитету учителя
Чжана. Догадываюсь, что если бы учитель
Чжан предполагал, что дойдет до такого,
то не стал бы зачитывать сочинение перед
всем классом, но пути назад не было, так
что пришлось ему, стиснув зубы, процедить:— Катись отсюда!
И тут наш «гениальный» одноклассник
Хэ Чжиу, который вымахал выше учителя
Чжана, прижал к груди ранец, лег на пол,
свернулся калачиком и покатился по проходу
между рядами парт по направлению к двери. Смех застрял у нас в горле, поскольку
ситуация приобретала серьезный оборот
и обстановка в классе не располагала к смеху,
серьезность ситуации придавали мертвенно-
бледное лицо учителя Чжана и судорожные
рыдания Лу Вэньли.У Хэ Чжиу выходило не совсем гладко,
поскольку, пока он катился, не мог правильно определить направление и то и дело натыкался на ножки столов и скамеек, а стоило
удариться, как приходилось корректировать
направление. Пол в классе был сложен из
высокопрочного кирпича, но из-за грязи,
которую мы приносили на подошвах, кирпич размокал, и пол стал бугристым. Могу
себе представить, как неудобно было ему
катиться. Но еще неудобнее чувствовал себя
преподаватель Чжан. Неудобства, которые
испытывал Хэ Чжиу, были чисто физическими, а учитель Чжан испытывал психологический дискомфорт. Истязать себя физически,
чтобы кого-то наказать, — это не героизм,
а хулиганство. Но тот, кто способен на такой
поступок, не просто мелкий хулиган. Во
всяком серьезном хулиганстве есть что-то
от героизма, как и в подвиге — что-то от
хулиганства. Так был ли Хэ Чжиу Хулиганом
или Героем? Ладно, ладно, ладно, я и сам не
знаю, но в любом случае он главный герой
этой книги, а что он за человек — судить
читателям.Так Хэ Чжиу выкатился из класса. Он
поднялся, весь в грязи, и пошел прочь, не
оглядываясь. Учитель Чжан закричал:— Ну-ка, стой!
Но Хэ Чжиу ушел, не обернувшись. Во
дворе ярко светило солнце, на тополе, росшем перед окном класса, галдели две сороки. Мне показалось, что от тела Хэ Чжиу
исходит золотистое сияние, не знаю, что
думали другие, но в тот момент Хэ Чжиу уже
стал героем в моих глазах. Он шел вперед
широкими шагами, честь обязывала идти
до конца, не оглядываясь. Потом из его
рук полетели разномастные клочки бумаги, которые кружились в воздухе и падали
на землю. Не скажу за одноклассников, но
мое сердце в тот миг бешено заколотилось.
Он разорвал учебник в клочья! И тетрадку
разорвал! Он окончательно и бесповоротно
порвал со школой, оставив ее далеко позади
и растоптав учителей. Хэ Чжиу, словно птица, вырвавшаяся из клетки, обрел свободу.
Бесконечные школьные правила его больше
не касаются, а нам и дальше терпеть постоянный контроль учителей. Сложность заключается в том, что, когда Хэ Чжиу выкатился
из класса, порвал учебник и распрощался
со школой, я в глубине души восхищался
им и мечтал, что в один прекрасный день
совершу такой же героический поступок. Но
когда вскоре после случившегося Большеротый Лю исключил меня из школы, сердце
мое переполнила печаль, я так горячо любил
школу, был связан с ней тысячами нитей
и не находил себе места. Кто тут герой, а кто
тряпка? По этой мелочи сразу понятно.
Государственный праздник, отмечается 1 октября.
Надежда Беленькая. Рыбы молчат по-испански
- Надежда Беленькая. Рыбы молчат по-испански
Дом ребенка напоминал военный госпиталь: кирпичное
здание цвета венозной крови. Навалившись плечом, Ксения открыла обитую дерматином дверь, и они погрузились
в теплую густую вонь, напоминающую скорее дом престарелых: хлорка, лекарства, подгоревшая еда, нечистое белье.Поднялись на второй этаж в кабинет — пугающе просторный, пустой и очень холодный. Пустую стену украшали
сюжеты из детских мультфильмов. В центре композиции —
Айболит: небольшой, с кое-как соблюденными пропорциями, в белой шапочке, в руке градусник. Рядом плоская
лягушка, состоящая из одной головы и ненамного меньше
самого Айболита. Кургузая сова боязливо выглядывает из
зловещей тьмы дупла…Айболит ее детства — Нина сразу же его вспомнила: точно такой был много лет назад в зубной поликлинике, куда
ее водили. Там все было до ужаса тоскливым, особенно эта
картинка с Айболитом и еще ледяные выцветшие пластмассовые игрушки, в которые никто никогда не играл. Сидя
под дверью кабинета, маленькая Нина изо всех сил старалась представить, что у докторов с жесткими пальцами где-то есть другая жизнь — дети, кошки, телевизор, домашние
праздники, воспоминания и тайны. Она повторяла себе, что
ледяной коридор совершенно необходим в мире, где у детей болят зубы, и ей почти удавалось себя в этом убедить,
и только притворный Айболит на стене и ничьи игрушки
по-прежнему сбивали с толку…Мебели в кабинете почти не было. Письменный стол, одна
на другой книжные полки, конторские стулья. Если бы не
условно-добродушный Айболит на стене, Нина никогда бы не
подумала, что здесь бывают дети. Позже Ксения рассказала,
что это специальный кабинет, где принимают иностранцев.Появилась нянечка. Нине кажется, что в руках у нее пусто, но в следующий миг она видит крошечное существо
в белом платьице, с большим бантом на голове. «У нашей
Риты заячья губа, — призналась накануне Роса. — Но это не
страшно. Когда подрастет, губу зашьют, и ничего не будет заметно». Губа у Риты здоровенная, огненно-красная. Она
ярко пылает на фоне бледного лица и нянечкиного халата,
как алая гвоздика.В первый миг Нина остолбенела. Она не представляла
себе, как это выглядит. Открытая рана, похожая на заветренное сырое мясо. Из-за деформированной губы личико
почти лишено мимики.Следом за нянечкой приходит врач — обрюзглый, в замусоленном халате. По его виду сложно догадаться, что это
и есть главный детский доктор дома малютки Сергей Степанович, которого Ксения называла по-простому — Степаныч. Степаныч, рассказывала Ксения, за каждого усыновленного ребенка огребает хороший процент. Пухлую
стопку евро, которую, сопя и криво улыбаясь, засовывает
в отвисший карман халата. Одну часть пропивает, другую
тратит на взрослого сына и собак, из жалости подобранных
на улице. Еще Ксения рассказала, что в свое время Степаныч был настоящим казановой и на работу ходил, как козел
в огород, — не пропускал ни одной нянечки, уборщицы или
медсестры. Но в последние годы сильно сдал.Степаныч берет Риту за руки и делает ей что-то вроде
беби-йоги — перекидывает через плечо, переворачивает
вниз головой, крутит солнышком. Наверное, хочет показать, как ловко умеет обращаться с детьми, за которых получает свои евро. Ребенок болтается в его руках, обреченно
поглядывая на будущих родителей и шумно втягивая воздух кроваво-красной губой. В заключение Степаныч торжественно вручает девочку Хосе, достает мятые медицинские
бумажки и кладет на стол.— Заячья губа, — важно говорит Степаныч, — это расщелина губы и нёба, врожденный, так сказать, дефект. Виновата чаще всего наследственность или перенесенное матерью
в первые три месяца беременности вирусное заболевание.
Даже если инфекция была легкой и женщина не придала ей
значения, последствия для ребенка могут быть очень неприятными. Тяжелая беременность тоже может стать причиной. —
Степаныч задумался. — Да. Помимо внешнего уродства, —
продолжил он, — этот дефект доставляет массу неудобств.
Ребенок не улыбается, с трудом говорит и ест, потом появляются проблемы с зубами. Требуется несколько операций. Зато
на интеллект и общее развитие заячья губа никак не влияет.
Есть вопросы? — И Степаныч взглянул на испанцев поверх очков. — Если есть, можете их задать соцработнику.На смену Степанычу является квадратная, словно тумбочка, Ада Митрофановна, социальный работник дома ребенка… Про
Аду Ксения тоже рассказывала накануне. Говорила с уважением: по сути именно Ада была центральной фигурой в любом усыновлении — она распределяла детей между посредниками. Потом отобранных детей департамент пробивал
по банку данных и оформлял законным путем. Посредников
вокруг Ады кормилось предостаточно. Она держала их в постоянном напряжении, стравливала потихоньку между собой, вымогала деньги, обманывала, мухлевала — словом,
развлекалась как могла.Иногда Ада наведывалась по делам в Москву. Посредники до полусмерти боялись ее визитов, от которых зависело
их будущее — каждая неформальная встреча с Адой сулила
новых детей и новые заработки. Приходилось заранее организовывать культурный досуг — доставать билеты в театр, записывать Аду к модным столичным врачам. На несколько
дней Ада вселялась в квартиру, и хозяева, побросав все свои
дела, целыми днями разъезжали с ней по магазинам и рынкам. По Москве она шагала неспешно, небольшая и устойчивая, как шахматная ладья, во всем своем рогожинском великолепии — в тяжелой каракулевой шубе, в норковой шляпе,
во французских духах. Если же Ада манкировала приглашением, впавший в немилость деловой партнер надолго терял
душевное равновесие, терзаясь догадками — как и когда
угораздило его провиниться перед Адой Митрофановной.
Немилость грозила непредсказуемыми последствиями: поток детей сокращался или вовсе иссякал. На самом же деле
никакой провинности могло и не быть — просто время от
времени Ада меняла надоевших партнеров.Однако хуже всего приходилось фаворитам, которых
Ада приглашала остановиться в своей рогожинской квартире. Отказаться от приглашения было немыслимо, и жертве
приходилось несколько дней подряд пользоваться тяжеловесным гостеприимством, чинно вкушая чаи и водя хозяйку
по ресторанам.Если же кто-то в самом деле допускал оплошность, результаты бывали катастрофическими. Жертва Адиного
гнева теряла не только городской дом ребенка — ей легко и с удовольствием отказывали и в областном приюте,
и в детских домах самого Рогожина и всей области. В департаменте принимать ее больше не желали, а при ее появлении делали холодно-официальные лица, будто видели впервые и начисто позабыли звон рюмок в ресторанах и пухлые
конверты, которые, как ручные голуби, мягко опускались
на ладонь. Рано или поздно дверь в международное усыновление захлопывалась для жертвы навсегда.— А как же департамент? — удивлялась Нина. — Я думала, это они детей выдают.
— Они отвечают за формальную часть, — объясняла Ксения. — Подписывают разрешение на знакомство, принимают у иностранцев личное дело, собирают бумажки. Короче,
делают процесс легальным. Ада — дело иное…Ада готовила ребенку так называемый юридический
статус, без которого усыновить невозможно: официально
ребенок должен считаться сиротой, подкидышем или отобранным у родителей, лишенных родительских прав. Нужного статуса дети иногда дожидались месяцами.— Работает она очень много, — рассказывала Ксения. — Катается по деревням, разыскивает убежавших
мамаш, собирает отказы. А то мать иной раз бросит ребенка и даже отказа не напишет. Ищут через милицию,
а когда найдут, Ада к ней едет разбираться. Иногда далеко
таскаться приходится, в другие регионы… Незаменимый
человек.— Кто же главный? — спросила Нина. — Директор дома
ребенка?— Ну да, официально директор действительно самый
главный, — соглашалась Ксения. — Но это фигура чисто
символическая. В дом ребенка он редко заглядывает. Встречается со мной лично, и я отдаю деньги.— А за что ты ему платишь?
— Без его разрешения иностранцев на порог не пустят.
Надоест ему — закроет лавочку, и до свидания. Никакая
Ада ему тогда не указ. Только не надоест, прикормили. А вообще, — продолжала Ксения, — в любом деле есть номинальные фигуры, а есть реальные. Номинально главнее всех
директор, а реально — Ада Митрофановна. Она весь дом ребенка держит в руках. Без Ады давно бы уже все загнулось.
Вот только жадна до невозможности…— Что, много просит? — спросила Нина, чтобы поддержать разговор.
— Она-то? Ха-ха, больше всех. И представь, зарабатывает гору, а сама требует везти ее на другой конец Рогожина за
кормом для собаки.— А почему так далеко?
— Там собачий корм на пять рублей дешевле. Вот она за
ним и прется — сэкономить. Тем более на халяву. Приходится возить ее туда-сюда. Одного бензина сколько уходит,
блин…Ада Митрофановна степенно усаживается за стол напротив Нины. У нее румяное, еще совсем не старое лицо. Сосуды на щеках напоминают веточки красных кораллов. Не-
сколько минут Ада внимательно изучает документы, потом
снимает очки и внимательно смотрит на Нину прозрачными серыми глазами.— Мать девочки, — начинает Ада, — молодая, незамужняя. Хорошая мать. Рита у нее первый ребенок. Наблюдалась у врача, беременность сохраняла. А увидала губу и отказалась.
— А кто девочку назвал? Откуда такое имя — Маргарита? — спросила Нина.
— Мать, кто ж еще. Они так всегда: придумают имя почуднее — а потом бросают. Чего только не бывает — Грета,
Аделаида, Роксана…Почему-то этот незначительный факт поразил Нину. Разве можно бросить ребенка, которому уже дали имя? Проще
безымянного и как бы еще не окончательно своего. С именем — невозможно.Внезапно дверь отворяется, и входят трое: иностранец,
иностранка и переводчик. Высокие упитанные французы,
муж и жена. Переводчица возле них выглядит школьницей-переростком.Испанцы воркуют вокруг Риты, и Нина им только мешает — переводить все равно нечего.
Французам приводят мальчика — старше Риты и с нормальной губой.
Нине они не понравились с первого взгляда. Уселись
у окна и чопорно молчали, поджав губы. Им в голову не
приходило погладить малыша или взять на руки. Наверное,
они хотели младенца, и этот крупный подвижный карапуз
в шортах кажется им слишком взрослым. Француженка высокая, грузная, без намека на талию и подбородок: на месте
талии — плотный жировой валик, а подбородок заменяют
рыхлые складки. Достает из сумки игрушечную машинку
и ставит на пол. Мальчишка ее хватает и, сосредоточенно
сопя, гоняет по всему кабинету, под столом, вдоль плинтуса. Мужчина сконфуженно бормочет что-то по-французски,
потом забирает у мальчика машинку, нажимает кнопку и,
присев на корточки, отпускает. Машинка с ревом несется
к противоположной стене, переворачивается и едет обрат-
но, устойчивая и проворная, как крупное насекомое. Испуганный мальчик пронзительно вопит. Французы выразительно смотрят друг на друга и неторопливо совещаются.
Нина не понимает ни слова, но ей кажется, что мужчина
в чем-то убеждает супругу, а та отвечает односложно, ритмично кивая, будто курица. Нина с гордостью отмечает, что
ее испанцы намного симпатичнее противных французов.Девочка Рита отняла у Хосе мобильный телефон, бережно разжав один за другим его пальцы, и осторожно
приложила к уху. Хосе включает рождественский рингтон,
и Рита слушает, боясь шевельнуться и приоткрыв от изумления рот. Роса целует ее в макушку, в нежные льняные
волосы.Через час Нина уже почти не замечает безобразной губы,
и девочка не кажется некрасивой. Обычная губа. Девочка
как девочка. Привыкаешь, и ничего в принципе нет ужасного. Потом губу зашьют, и следа не останется.Окна кабинета густо синеют, словно на улице включили
кварцевые лампы, хотя часы показывают всего четыре. «Погода меняется», — думает Нина, откидываясь к стене.
Роман Сенчин. Чего вы хотите?
- Роман Сенчин. Чего вы хотите? — М.: Эксмо, 2013. — 384 с.
Глава четвертая
20 января 2012 года, пятница
В половине восьмого, наконец, стали собираться. Пришли дядя Сева, известный поэт, с женой тетей Никой, переводчица и однокурсница мамы тетя Маша и ее муж дядя Коля. Дарили маме цветы и еще что-то в цветастых бумажных пакетах.
После приветственных слов и поздравлений, радостной суеты, толкотни расселись. Обменялись разными личными новостями, выпили за «деньрожденьицу», а потом заговорили, конечно, о выборах в Думу и предвыборной президентской кампании; мама вспомнила, как они с папой встретили дядю Севу и тетю Нику возле автобуса, где собирали подписи за выдвижение в кандидаты Эдуарда Лимонова… Даша слышала, что это такой писатель и крайний оппозиционер; когда-то жил в Париже, стал гражданином Франции, а потом вернулся в Россию, чтобы заниматься политикой.
— Вы что, серьезно выдвигали этого субъекта? — удивился дядя Коля, высокий человек с выразительными, тяжелыми какими-то глазами.
— А что? — Мама тоже удивилась. — Эдуард Вениаминович — герой.
— Ну, это смешно.
— А что не смешно? Кто не смешон?
— Явлинский, да, по крайней мере, Прохоров…
— Ха-ха-ха! — демонстративно посмеялась мама.
— Ладно, друзья, что теперь спорить, — вздохнул дядя Сева, — все равно Лимонова не пустили.
— И правильно, я считаю. Таких нужно держать подальше. Или вообще в изоляции.
— Да почему, Коль?! — снова вспыхнула мама.
— Из-за высказываний, из-за этих его штурмовых отрядов… Это же фашизм!
— Я читал программу его партии, — включился папа, — никакого там фашизма. Наоборот, во многом очень даже правильная. Флаг, конечно, провокационный был, некоторые поведенческие детали…
— Но есть же Рыжков, Немцов, Касьянов, Навальный, на худой конец…
— Навальный, может быть, но он не баллотируется. Рыжков полностью под Немцовым. А Немцов… — Папа на пару секунд задумался.
— Я готов допустить, что у него есть разумные, правильные мысли…
— Немцов — враг! — перебила мама.
— Подожди, пожалуйста… Но вспомните, как он в девяносто восьмом, в разгар беды, свою отставку принял — как освобождение. Схватили с Кириенко пузырь водяры и побежали к бастующим шахтерам. Будто школьнички после уроков. Помните?
— А что им надо было делать? — спросил дядя Коля. — Упираться?
В кабинетах баррикады строить?— Если ты хочешь спасти Россию — надо бороться. А их выкинули, и они обрадовались. И ведь не секретари какие-нибудь: один премьер-министр, а второй — его заместитель! Кириенко хоть помалкивает, а этот… Вождь оппозиции, тоже мне!
— Вождь журналистов, — поправила мама. — Его так Сережа Шаргунов назвал десятого декабря. Ходит туда-сюда, а за ним человек двадцать журналистов с микрофонами.
Дядя Сева усмехнулся:
— Очень точно, кстати, — вождь журналистов.
— И Касьянов тоже, — не мог успокоиться папа. — Отправил его Путин в дупу, он побежал. А потом стал возмущаться…
— Ребята, давайте выпьем за детей именинницы, — предложила тетя Маша. — Мы, кажется, совсем забыли, зачем собрались.
— Точно!
— За прекрасных детей!
— Что-то старшенький не идет, — забеспокоилась мама, чокаясь с протянутыми рюмками и бокалами. — Обещал ведь в полвосьмого, как штык…
— Придет. На работе, наверно…
— Он ночами работает, днем спит.
— А где он?..
— В студии — монтирует клипы, чистит…
— М-м, интересная работа!
Мама махнула рукой:
— Ой, не очень-то… Он мечтает фильмы снимать, но это ведь…
— Там такая мафия, я слышал, в кино…
— Спасибо, что есть литература!
— Хм, в литературе мафия не меньше.
— Да ладно, поменьше! Деньги помельче, и мафия не такая злая. А в кино…
У мамы заиграл сотовый.
— Алло! А, привет, Сереж… Спасибо-спасибо!.. — Послушала. — С Ваней сидишь?.. Жалко… А приезжайте вместе — как раз дети и познакомятся наконец… Ну ладно, тогда до встречи.
Положила телефон на стол.
— Шаргунов звонил. Не может. Сын Ваня болеет, с ним сидит…
— Хм, — усмехнулся папа, — а если в этот момент революция?..
— Это, что ли, крестный звонил? — нахмурившись, спросила Настя.
— Да. Видишь, сынок у него заболел…
— Чей Шаргунов крестный? — не понял дядя Сева.
— Настин.
— М-м! У вас, оказывается, тоже очень всё спаянно. Кумовство в прямом смысле.
— Иногда и кумовство не спасает, — сказал папа зловеще. — Быть может, наступит момент, когда придется мне в предсмертных слезах крикнуть ему:
«Сергей Лександрыч, ты ж мое дитё крестил!»
— А-а! — вспомнил что-то дядя Сева. — А он тебя шашечкой — вжить!
— Да ладно, — махнула мама рукой, — все будет хорошо. К тому же Солженицын пророчил ему президентом России стать.
Дядя Сева печально покачал бритой головой:
— Не исключено. Но, думаю, до времени этого не дожить уж ни мне, ни тебе.
— Почему это, Сев?
— Лет тридцать эта власть еще точно будет сидеть. Череда преемников.
А потом, не исключено, что-нибудь пошатнется. Только мне будет тогда за восемьдесят, а скорее всего, и нисколько…— Всеволод, — перебила его тетя Ника, — не разливай здесь свою грусть-тоску!
— Тем более что все трещит по швам, — добавила мама.
Дядя Сева не сдавался:
— Трещать может еще очень долго. И однажды может треснуть так, что за пять минут — на дно. Как «Титаник».
— Вот это больше похоже на истину, — кивнул дядя Коля. — По-моему, с Россией все уже ясно. — Он сказал это таким тоном, что по Дашиной спине пробежал холод.
— Что тебе ясно, Коль? — кажется, раздражаясь, спросила его жена, тетя Маша.
— Не хочу распространяться, чтобы не портить настроение. Лучше, наверное, выпьем?
Папа стал разливать.
— Выпьем, и расскажешь.
— Девочки, вы поели? — спросила мама. — Идите поиграйте. К торту я позову. Или сейчас отрежем…
— Я посижу. — Даше хотелось узнать, что там ясно с Россией.
— Я — тоже, — сказала Настя каким-то очень серьезным голосом, и мама не стала уговаривать.
Взрослые столкнули рюмки и бокалы, прозвучало: «С днем рождения!.. Счастья!» Выпили, заели.
— Ну, Николай, приступайте, — приготовилась слушать мама.
Дядя Коля поморщился:
— Не стоит…
— Давай-давай, вопрос важный.
— Росси-и-ия, — со вздохом протянул дядя Сева.
Дядя Коля пожевал, покусал губы и начал:
— Я люблю читать книги по истории, сам много езжу. Новгородскую область знаю до последней деревни, наверно…
— У Коли в Старой Руссе институтский друг живет, — объяснила тетя Маша.
— Да… Вообще люблю путешествовать как дикий турист… За Уралом, правда, не был, но север и центральную часть знаю неплохо…
— И что? — поторопила вопросом мама.
— И что-о… М-да… Скажу вам так: нету России… Точнее, людей, народа. Жизни нет… То есть, — вроде бы спохватился дядя Коля, — нельзя сказать, что прямо всё в руинах. Нет — много храмов возрожденных, и кое-где признаки цивилизации, а вот жизни — нет. И, думаю, случись что — некому будет уже подняться.
— Но, может, — заговорил дядя Сева, — всегда была такое ощущение? Посмотришь — пустота, а в роковые моменты — вот он, русский народ.
— Вряд ли. Да и откуда? Приходишь в деревню, десять-пятнадцать домов обитаемы, остальные пятьдесят — пустые… Те, что ближе к городам, еще живут за счет дачников, а дальние… Это как капиллярные сосуды в теле — пока они доносят кровь до каждой клетки, человек чувствует себя хорошо, а если отмирает одна клетка, две, тысяча… Так и с Россией, то есть с народом. Измельчание, вымирание, и этот процесс, видимо, уже необратим.
От этих слов у Даши заслезились глаза. Она с надеждой взглянула на
папу — неужели он ничего не ответит? Пусть скажет, что нет, что обратим… Папа смотрел в стол, крутил рукой вилку. Но, кажется, уловил желание Даши.— До самого недавнего времени я тоже так считал. Что уже всё, пройдена точка невозврата. Даже статью написал — «Остается плакать». Ну, в смысле оплакивать русскую цивилизацию… Но, я уверен, все-таки еще можно переломить ситуацию. Необходима цель для народа. Большая общенародная цель. — Даша это не раз уже слышала, и опять приуныла. — И тогда реально начнут больше рожать, снова станут воспитываться мужчины, а не слизняки, появится, извините, энтузиазм.
— А какая цель? — как-то скептически прищурилась тетя Ника. — К войне готовиться? Или каналы копать?
— Ну почему…
— Ну а какая?
— Не знаю… В этом-то и проблема.
— Но вот же, я слыхал, Сколково строят, — явно шутливо сказал дядя Сева.
— Ага, а для рождаемости — материнский капитал, — подхватил таким же тоном папа. — Нет, это фигня… Из-за материнского капитала в основном тувинцы рождаются… Мы несколько лет назад были в Кызыле, и нам местная врачиха, она в роддоме работает, сама, кстати, тувинка, рассказывала: тувинка родит и тут же требует деньги: «Давай материнский капитал! Путин сказал!» И, говорит, убедить сложнее, что деньги эти просто так не даются, чем роды принять… Почти все роженицы нищие, безработица жуткая, но рожают и рожают.
— Вот они-то потом и придумают идею, — сказал дядя Коля, — и двинутся сюда, как Чингисхан.
— Не исключено.
— И на Калке их встретить будет уже некому.
Звонок в дверь. Это пришла тетя Лена, мамина подруга, писательница, которая работала в каком-то агентстве по подбору персонала. Она долго поздравляла маму, одновременно извиняясь, что опоздала.
— На работе запарка вообще! Начало года, все друг с другом ругаются, увольняются. Как с цепи сорвались…
Тетю Лену усадили, стали наполнять тарелку едой, бокал — вином… Настя, не выдержав ожидания, подняла свой стаканчик:
— За Россию!
— Ух ты, прелесть какая! — хохотнула тетя Лена. — Но надо за маму выпить.
— Мы пили за маму много раз, — ответила Настя. — Папа и дяденьки даже красными стали.
Теперь уже засмеялись все. Дядя Сева объяснил:
— Это от горячей водички.
Настя потрогала бутылку водки.
— Она не горячая.
— Она внутри становится горячей, когда выпьешь.
— Не надо ребенка интриговать такими вещами, — перебила тетя Ника. — Это отрава, Настенька, просто взрослым иногда нужно немного…
— Да, надо иногда понемножку отравляться, чтобы реальность однажды насмерть не отравила. Но вы даже не пробуйте, девчонки — язык обожжете, петь не сможете.
— Кстати, про песни! — аж подскочила на стуле тетя Лена, — «Пусськи» в Инете новую песню выложили! Знаете, где спели теперь?
— Да откуда ж нам знать — мы здесь празднуем…
— На Лобном месте! С фаерами, флагом…
— Даш, принеси айпед, — попросила мама, — а лучше — ноутбук. Посмотрим, что там…
— У меня включен, — папа поднялся, ушел на лоджию; вернулся с ноутбуком. — Где искать?
— Дай мне, — сказала мама. — Они у меня во френдах…
Нашли клип «Пусси райот», установили экран так, чтобы всем было более или менее видно.
— Включаю! — предупредила мама.
Почти без музыкального вступления раздался задыхающийся женский речитатив:
К Кремлю идет восставшая колонна!
В фээсбэшных кабинетах взрываются окна!
Суки ссут за красными стенами!
«Райот» объявляет аборт системе!Дальше — почти неразборчивое продолжение куплета, а потом другой голос стал выкрикивать припев:
Бунт в России — харизма протеста!
Бунт в России — Путин зассал!
Бунт в России — мы существуем!
Бунт в России — райот, райот!Песня, как и предыдущие их, оказалась короткой, а клип примитивным, но и смелым. На этот раз семь или восемь девушек в шапках-масках стояли на бортике Лобного места, совсем рядом с Кремлем. У двух были гитары без шнуров, третья махала синим флагом, а еще одна в середине песни зажгла фаер…
Посмотрев, взрослые стали обсуждать:
— Молодцы девчонки!
— Да что молодцы? Детский сад.
— Нет, ты не прав. В нынешнем безвоздушном пространстве и такое до-стойно внимания.
— Могли и снайперы над ними поработать…
— Но ведь это убогость. Особенно текст.
— Да, слова, конечно…
— И, с позволения сказать, музыка…
— С точки зрения панк-эстетики — нормально. В духе второго альбома «Дэд Кеннедис».
— А вот послушайте, — повысил голос дядя Коля. — Неужели вы думаете, что это просто девчонки собрались и такое устраивают? Наверняка за ними стоит какая-то мощная сила.
— Нет, ну, конечно, кто-то за ними есть, — согласился дядя Сева. — По крайней мере, снимает вон, помогает. Ну и что? Результат-то неплохой. Особенно их выступление у спецприемника.
— А, я видела! — не удержалась Даша. — Классно.
— Вот и подрастающее поколение в курсе.
И снова разноголосица то ли обсуждения, то ли спора:
— Я слышал, за ними Гельман стоит…
— Ха! А я — что Центр «Э»…
— Да вполне могут и так — без никого. Собрались, план набросали…
— И что, их не задержали после этого?
Мама, прищурившись, как раз что-то изучала в ноутбуке. Отозвалась:
— Да, фээсбэшники набросились… Задержали нескольких.
— Отпустят, — махнул рукой папа.
— Как сказать, как сказать…
— Так, — мама закрыла комп. — А давайте стихи читать! Многие из нас их пишут и уж точно все поэзию любят. Давайте по кругу. Не просто же пить и разглагольствовать… Начнем со Всеволода.
— Что ж, — он погладил свою голову, — можно и почитать. Только нужно настроиться. — И кивнул на бутылку.
— Расплескайте.
Папа стал наливать водку мужчинам, а дядя Коля вино женщинам.
— Только, пожалуйста, — попросила тетя Маша, — не про то, как вы девушку-еврейку пилой…
Дядя Сева смутился:
— А где вы его читали?
— Слышали однажды в Булгаковском Доме.
— Я тогда свежее. Там ни мата, ни ксенофобии…
— Но конфликт хоть есть? — посмеиваясь, спросил папа.
— Конфликт везде можно найти… Это — про рабочих с Нижнетагильского завода, куда Путин приезжал. Там еще начальник цеха предлагал в Москву приехать и разобраться с оппозицией.
— Да-да, помним…
— И вот они построили новый танк, а дальше — возможный сценарий скорого будущего.
Идет от праздников усталый
Работник в банк.
Навстречу с Южного Урала
Выходит танк.Он мчит, вздымая пыль с дороги,
Блестит броня,
Чтоб испугались бандерлоги
Его огня.Тот танк из Нижнего Тагила,
Снимай очки.
Теперь ждет братская могила
Вас, хомячки.
Алексей Моторов. Преступление доктора Паровозова
- Алексей Моторов. Преступление доктора Паровозова. — M.: Corpus, 2014. — 544 c.
Прямой эфир
Два танка выкатились на середину моста
и там затормозили, качнувшись и клюнув носом, словно деревянные лошадки. Не мешкая, обе башни начали разворачиваться влево к огромному светлому зданию, потом замерли, как бы
принюхиваясь своими орудийными стволами. Картинка была нечеткой, мешал утренний туман, впрочем, нет, не туман, там что-то горело впереди, заволакивая перспективу. Вдруг танки беззвучно дернулись, выплюнув каждый серое облачко дыма, и тут же
на стене Белого дома распустились цветки разрывов.Д-У-У-У-Х-Х-Ф-Ф-Ф!!! — донеслось через пару
секунд со стороны Нескучного сада. И сразу злым
двойным ударом в мембрану оконного стекла: ТУ-ДУМ-ТУДУМ!!!Бутылки с полиглюкином на средней полке шкафа задрожали мелкой дрожью, сбившись в кучу и стукаясь друг о друга.
— Ох, ничего себе! — не выдержал кто-то из ординаторов. — Боевыми стреляют!
— А ты как хотел, — мрачно произнес анестезиолог по фамилии Веревкин, — чтоб они праздничный салют устроили?
Я тут же вспомнил, как мой Рома, когда был совсем маленьким, при первых залпах салюта всегда
норовил спрятаться в укромное место. В шкаф или
в кладовку.— Тише, больного разбудите, черти! — показав
пальцем на еще спящего в остатках наркоза мужика,
негромко сказал доцент Матушкин.— Сейчас его и без нас разбудят! — кивнул в сторону телевизора Веревкин. — Да и хватит спать, война началась!
— А я еще вчера говорила, что нужно койки освобождать и всех, кого можно, выписать! — оглянулась
на всех Людмила, старшая операционная сестра. —
Теперь уж поздно, пусть лучше здесь побудут.Да, правильно, пусть здесь переждут. Больница
не самое плохое место, когда в городе начинаются военные действия и прочие катаклизмы. Два года назад, голодной осенью девяносто первого, буфетчица нашего роддома, возмущаясь отсутствием аппетита у рожениц, наваливала им полные миски каши
и орала: «Жрите кашу, жрите, дуры! Ведь там, — она
тыкала огромным черпаком в сторону окон, — ведь
там не будет!»— Ого, смотри-ка, БТРы пошли! — воскликнул ординатор второго года Коля Плакаткин. — На БТРах клевый пулемет стоит, КПВТ называется, дом насквозь прошить может!
Коля так воодушевился этим клевым пулеметом,
что подскочил и стал тыкать пальцем в экран, полностью перекрыв всем обзор. Только я что-то еще видел, потому как стоял очень удобно, за спинкой койки: телевизор находился как раз напротив. На Плакаткина тут же зашикали, и он отошел. Где-то там,
за окном, раздались отголоски пулеметной очереди.В крохотную палату послеоперационного отделения с маленьким телевизором на холодильнике набилось человек пятнадцать. Здесь, в урологическом
корпусе Первой Градской, это отделение гордо называлось «реанимацией». Наверное, для тех, кто настоящую реанимацию не видел.— Эти коммунисты сами хороши! — вдруг зло сказала Людмила. — Помните, когда в мае на проспекте
заваруха случилась? Тогда еще омоновца грузовиком
задавили. Так потом двое прибежали к нам с разбитыми головами и давай по матери всех крыть, перевязку требовать. Мы, говорят, из «Трудовой России»,
за вас, суки, кровь проливаем. А главное, поддатые
оба. А я не выдержала и одному, самому борзому, отвечаю: ты на себя посмотри, чмо болотное, кто еще
из нас сука! «Трудовая Россия» — она трудиться должна, а не по пьяной лавочке на митингах горлопанить! Они сразу хвост-то и поджали, притихли. Конечно, потом перевязала их, мне ж не трудно.— Похоже, они горлопанить закончили! — хмыкнул Веревкин. — Нынче эти ребята к решительным действиям перешли. Видели, как вчера мэрию захватили? Как они там людей избивали? На Смоленке
вообще нескольких милиционеров убили. Хорошо
хоть с телевидением у них номер не прошел. Слышал, неплохо их там шуганули!— Говорят, у Останкина человек сто постреляли,
если не больше! — сообщил похожий на боксера-легковеса Саня Подшивалко. — Ну и жизнь, без бронежилета на улицу не выйдешь!— Такому крутому парню, как ты, Сашок, никакой
бронежилет не нужен! — пошутил Плакаткин. —
Тебя можно с голыми руками на танки посылать!Все заржали, отчего послеоперационный мужик
заворочался и что-то промычал.— Чего веселитесь? — решил призвать всех к порядку Матушкин. — Смотрите, что творится, наверняка сейчас к нам навезут — мало не покажется! Кто
дежурит-то сегодня?— Да вот, господин Моторов! — кивнул на меня
мой напарник по палате, здоровенный Игорек
Херсонский. — Держись, Леха! Когда вам трудно —
мы рядом!Игорек всегда, даже с больными, разговаривал
рекламными текстами, чем успел всех основательно достать.— А вторым кто? — спросил Матушкин, потому
как урологи дежурят всегда по двое.— Витя Белов! — вздохнул я. Витя был неплохим
парнем, работать с ним было нормально, если только он на дежурстве не поддавал. Тогда он превращался в полного дурака, и следить за ним нужно было
в оба. Для меня оставалось загадкой, мобилизуют ли
сегодняшние события Виктора Андреевича или, наоборот, расслабят.— Ты не давай ему до киоска бегать, — словно услышав мои мысли, посоветовал Матушкин. — Не время сейчас, да и подстрелить могут.
Я представил себе, как Витя ползет под обстрелом к корпусу, вместо коктейля Молотова в каждой
руке сжимает по бутылке паленой водки, а танковые
снаряды ложатся все ближе.— Вчера, от тещи ехал, видел в метро на «Пушкинской» патруль баркашовский. Пятеро, свастика у каждого на рукаве, — поделился врач третьей палаты Чесноков. — Документы у пассажиров проверяли. То ли
евреев искали, то ли еще кого.— Докатились! Гестаповцы по Москве разгуливают! — произнес Веревкин. — Хорош, ничего не скажешь, этот говенный Верховный Совет, если его фашисты охраняют! Там, похоже, вся мразь собралась.
Ну, ничего, сегодня их как крыс передавят!— А я читал, баркашовцы вроде за русских людей, —
шмыгнув носом, неуверенно сказал Саня Подшивалко. — Они только против мирового сионизма.— Ты, Саня, явно с головой не дружишь, — заявил Веревкин. — Нельзя быть за русских людей —
и со свастикой. Из-за таких вот, со свастикой, половина пацанов моего поколения без отцов остались.
Я считаю, если в нашей стране свастику нацепил —
то можно сразу без суда и следствия к стенке ставить.— Да там не только они, там и казаки! — нахмурился Херсонский. — Казачков-то за что? Казачки они
всегда верой и правдой!— Игорь, что ты несешь? Какие казачки? Нету никаких казачков. Их всех еще в гражданскую порешили, — раздраженно сказал Матушкин. — Сейчас
не казаки, а урки ряженые, алкашня, клоуны в лампасах. А им еще, этим придуркам, автоматы выдали.— Это Ельцин во всем виноват! — раскрасневшись,
выпалила Людмила. — Ему народ доверился, а он, говорят, только и делает, что ханку жрет!Послеоперационный больной при упоминании Ельцина приоткрыл на мгновение глаза, мутным взглядом мазнул по экрану телевизора, где в прямом эфире продолжались боевые действия, и снова задремал.
— Да ладно тебе, Людка, — примирительно сказал
Чесноков. — Ельцин нормальный мужик. А раньше
что, лучше было? Ты ж сама коммунистов не жалуешь!— Раньше, Володь, из пушек по домам не палили, —
отрезала Людмила, — и по телевизору это безобразие на всю страну не показывали!И как бы подтверждая справедливость ее слов,
опять за окном раздалось упругое ТУДУМ-ТУДУМ-ТУММ!!!Все дружно уткнулись в телевизор. Один из верхних этажей Белого дома уже горел, и оттуда валил
черный дым. Танков стало уже четыре, да и бронетранспортеров прибавилось. Какие-то люди в военном и гражданском разбегались кто куда.Тут оператор дал крупный план набережных.
Людка всплеснула руками, Чесноков ахнул, Саня
Подшивалко открыл рот, Херсонский присвистнул, а Коля Плакаткин произнес негромко: «Едрена матрена!»По обе стороны реки, буквально рядом со стреляющими танками, толпились зеваки. Среди сотен,
если не тысяч любопытных я успел рассмотреть несколько мамаш с детскими колясками, женщин с собачками на поводке, старушек с сумками на колесиках и даже парочку велосипедистов.— Нет, ну действительно! Край непуганых идиотов! — потрясенно развел руками Матушкин. — Они,
оказывается, в цирк пришли! Да, сегодня работы много будет. Мне рассказывали, если в Америке перестрелка случается, все в радиусе километра на землю
падают и руками голову прикрывают! Даже негры!Протиснулся Дима Мышкин, под расстегнутым
халатом какой-то уж совсем невероятный пиджак,
подаренный, как и многое другое, старшим братом-банкиром.— Мне тут на пейджер сбросили, что за сегодня
доллар на сто рублей подорожал! — поправив красивые дымчатые очки, с важным видом оповестил
всех Дима и зачем-то посмотрел на свой золотой «Ролекс». — Кто успел бабки в баксы перевести, неслабо наварить сможет.— Да чокнулись все на этих баксах! — с осуждением зыркнула на Мышкина Людка. — Только везде
и слышишь: «Баксы, баксы…»— П-и-и-и-и-и-ть! — слабо простонал послеоперационный больной. Все на какое-то мгновение при-
тихли, а Людмила принялась смачивать ему губы
марлечкой, намотанной на ложку.За окном опять гулко ударило, на этот раз особенно сильно.
— Совсем сдурели! — чуть не выронив ложку, воз-
мутилась Людмила. — Они бы еще бомбить начали!Тут дверь распахнулась, и заведующий мужским
отделением Маленков, не обращая внимания на телевизор, громко спросил:— Моторов здесь?
— Здесь, Владимир Петрович! — выглядывая
из-за огромной спины Херсонского, отозвался я.— Ты вот что, командир! — фирменным окающим
говорком приказал Маленков. — Давай-ка ноги
в руки и бегом в хирургический корпус! Там в операционной паренек лежит, его менты здорово побили. Сейчас брюхо вскрыли, оказалось, что мочевой
пузырь ему в лоскуты разнесли. Помоги хирургам,
а главное, катетер Петцера захвати, а то у них своих
нет! Переоденешься прямо там, пижаму тебе выдадут! Если что — звони!
Анна Старобинец. Икарова железа
- Анна Старобинец. Икарова железа. Книга метаморфоз. – М.: АСТ, 2013. – 256 с.
Икарова железа
Началось с мелочей. Задерживался, иногда допоздна, — и как ни наберешь его, абонент недоступен, хотя, вроде бы, не ездил в метро. А дома, по вечерам — не каждый день, но все же бывало, — уходил с телефоном в дальнюю комнату или в ванную и плотно закрывал дверь, «чтоб Заяц не мешал говорить по работе». А Заяц давно уже вырос и не мешал говорить. Он вообще не мешал. Сидел в своей комнате, за компьютером, в мохнатых наушниках; ему было тринадцать… Когда-то Заяц все время перебивал, и не давал звонить по телефону и смотреть телевизор, и вламывался в семь утра в спальню — он был веселым и приставучим, и постоянно хотел, чтобы они пришли в его комнату и посмотрели на что-нибудь абсолютно обычное, но почему-то его вдруг восхитившее. «Смотрите, как я поставил своего космонавта», «смотрите, как мои тигры прячутся за углом», «смотрите, как я рисую желтое солнце», «смотрите», «смотрите»… Когда они были заняты и не хотели смотреть, или просто в педагогических целях его игнорировали, Заяц нервничал и начинал прыгать на одном месте. За это его и прозвали Зайцем. Теперь ему было не важно, смотрят они на него или нет, он больше не прыгал и не звал в свою комнату, но прозвище так и осталось, как напоминание обо всем, чего они не увидели и уже не увидят…
— Не впутывай Зайца, — сказала как-то она, когда он вышел из ванной с телефоном в руке. —
При чем тут Заяц. Понятно, что ты закрылся там от меня.
Она ждала в ответ отрицания, раздражения, кислой мины, чего нибудь насчет паранойи; она и сказала-то не всерьез, а так, для разминки, скорее в том духе, что он невнимателен к сыну, и к ней невнимателен, и вообще толстокожий — но он вдруг начал краснеть, как ребенок, — сначала уши, потом щеки и лоб. И только потом уже — отрицание, раздражение, мина. Она испугалась.
Когда он уснул, она вошла в социо и набрала в поисковой строке: «Мне кажется, что муж изменяет».
У других было так же. Те же «симптомы», те же страхи и подозрения. А у некоторых и куда хуже: «нашла в мобильнике мужа SMS от любовницы», «нашла в его почте фотографию голой девушки», «нашла в кармане презервативы». Стало легче. Как-то спокойнее. Она не одна, и вместе они справятся с общей бедой.
К тому же ее беда пока еще не доказана.
…Прочитала совет психолога. «Если вам кажется, что муж изменяет, не бойтесь обсудить с ним эту проблему. Говорить нужно спокойно, без истерики, криков и ультиматумов, даже если подтвердятся ваши самые плохие догадки. Истерикой вы только отпугнете вашего Мужчину и толкнете его в объятия любовницы. Будьте мудрой. Не злитесь на него, посочувствуйте. Неверность — своего рода болезнь, но, к счастью, она излечима».
Совет ей не понравился, он был не по существу. Вопрос ведь не в том, как вести себя, когда «подтвердятся догадки». Вопрос в том, как вытянуть из него правду. Она вбила другой запрос: «Как узнать, изменяет ли муж?»
Сразу же вылез социо-тест: «Изменяет ли муж». Всего десять вопросов. Розовым, нарядным шрифтом. На все, кроме пятого, седьмого и десятого, она ответила быстро:
1. Сколько тебе лет?
а) меньше 30 б) от 30 до 40 в) больше 40
2. Сколько ему лет?
а) меньше 35 б) от 35 до 45 в) больше 45
3. Он прооперирован?
а) да б) нет
4. Вы занимаетесь сексом
б) чаще 1 р./нед. б) от 1 р./нед. до 1 р./2 нед. в) реже 1 р./2 нед.
5. Он оказывает тебе знаки внимания?
а) да б) нет
6. У вас есть общие дети?
а) да б) нет
7. Он занимается детьми? (пропустите вопрос, если детей нет)
а) да б) нет
8. Он часто задерживается на работе?
а) да б) нет
9. Он проводит выходные с семьей?
а) всегда б) не всегда
10. Ты привлекательная женщина?
а) да б) нет
Пятый, седьмой и десятый вызывали сомнения. Оказывает ли он знаки внимания — это как понимать? В смысле: дарит ли цветы? — ну, разве на день рождения; подает ли пальто — да, конечно, он ведь интеллигентный; какие то приятные сюрпризы, духи, украшения, билеты в кино? — чего нет, того нет… Зато по выходным он всегда приносит кофе в постель. С бутербродиком — он готовит вкусные горячие бутербродики… Это приятно. Так что «знаки внимания» — да. Но вот дальше…
Занимается ли он с детьми? Некорректный вопрос: Зайцем поди займись. Он самостоятельный, самодостаточный такой Заяц. У него есть компьютер, социо игры, длиннющая френд лента, он сам себя занимает. Если бы вопрос звучал «любит ли», «заботится ли» — тогда да. Однозначно да. Он очень любит ребенка. Состоял даже в школьном родительском комитете, но потом его исключили… Потому что когда всех мальчиков из класса организованно отправляли на плановую операцию и нужно было подписать разрешение — простая формальность, — он отказался поставить подпись, и Заяц в клинику не пошел. Одна мамаша, самая активная в комитете, сказала тогда, что они безответственные эгоисты. Подвергают ребенка риску из-за каких-то своих заскоков — или, может быть, им просто денег жалко на такое важное дело. Но ведь деньги тут ни при чем! Она-то знала: он не отпустил Зайца в клинику, потому что боялся. Минимальная вероятность — сколько-то десятых процента, — что что-то пойдет не так. Все эти истории о подростках, которые потом всегда спят. Он не хотел. Он сказал: «Мне не нужен плюшевый Заяц». Она не спорила. В конце концов, у Зайца спокойный характер, он в основном сидит дома, все друзья у него круглосуточно в социо. Не так уж они и рискуют… Словом, да, пожалуй: он занимается сыном…
Последний вопрос не понравился ей совсем. Привлекательная ли она женщина — это с чьей же, блин, точки зрения? Разозлившись, ткнула мышкой розовенькое «да». Но при этом думала про морщину — ту, которая вертикальная, на переносице. Очень заметная. Но если ботоксом ее накачать, может стать еще хуже, как будто лицо дубовое.
И еще седые волосы на висках. Каждый месяц красит отросшие корни японской краской, но он-то знает. Рассказала сдуру сама. Не сказала бы — не заметил.
Результат теста расстроил: «Не исключено, что муж действительно вам изменяет. Возможно, у него кризис среднего возраста. Тем не менее, у вас хорошие шансы одержать верх над соперницей и сохранить брак. Добровольная операция, скорее всего, решит все проблемы».Она в третий раз перечитывала свой результат, когда услышала звук. Тихий всхлип его мобильного телефона. Пришла эсэмэска. В два ночи. Что-то больно колыхнулось внутри — будто кто-то резко дернул за ниточку, и привязанный к ниточке ледяной шар подскочил из живота в горло — и снова обратно.
Мобильный она вытащила у него из под подушки еще час назад. На всякий случай. Посмотрела «входящие» и «отправленные». Не нашла ничего подозрительного. Но теперь там что-то пришло.
Это «Билайн», сказала она себе. Просто «Билайн». О том, что нету кредита….
Не «Билайн». Одно новое сообщение от абонента «Морковь».
Морковь?.. Что за бред… Заяц любит морковь…
Это, что ли, учитель Зайца?…
Она ткнула одеревеневшими пальцами в горячие кнопки. Открыть сообщение.
«Спишь?» И все. Всего одно слово. С вопросительным знаком.
Она ответила: «Нет».
Доставлено.
«А она?»
Ледяной шар бешено запрыгал внутри и застрял в горле. Все было ясно. Все ясно. Но зачем-то она снова ответила. «Спит». Чтобы доказать, — вертелось у нее в голове. Чтобы наверняка доказать, чтобы точно, чтобы доказать точно…
«Позвони, — сообщила Морковь, — а то я скучаю».
«Сука», — написала она.
Без истерики?
Без обвинений?
…Не получилось. Зашла в спальню, включила свет, швырнула прямо в лицо телефон. Проснулся всклокоченный, припухший, нелепый, как во французской комедии. Заслонялся от света и от нее. Зачем-то прикрывал одеялом живот.
—Почему Морковь?! — визжала она. — Почему, почему Морковь?!
Отчего-то казалось, что это самый важный вопрос. Так и было.
—Потому что… как бы… любовь. Ну, любовь-морковь, понимаешь…
—Понимаю. Ты ее трахаешь. Ты трахаешь овощ.
Ледяной шар, распиравший горло, соскользнул вниз, и она, наконец, заплакала. Он тем временем натянул трусы и штаны. Отвернувшись. Как будто стеснялся. Как будто она у него там что-то не видела.
Она сказала: катись! Он послушно стал одеваться.
Догнала уже в коридоре, вцепилась в куртку, остался.
Без истерики, — повторяла она себе, — без истерики, криков и ультиматумов. Сели на кухне, даже налила ему чай, как будто все было в порядке, разговаривали, она держала себя в руках, спокойно спрашивала: как давно? как часто? насколько серьезно? и что, правда любишь?.. а меня? Меня-то? меня?
Он ответил:
—Тебя тоже люблю. По-своему.
«По-своему». Она слишком хорошо его знала.
Мягкий характер. Он просто не умел говорить людям «нет».
—По-своему? — хрипло переспросила она.
И вдруг швырнула — хорошая реакция, увернулся, — синюю Зайцеву чашку. Прямо с чаем, или что там в ней было. Осколки разлетелись по кухне, бурая жижа заляпала стену многозначительными пятнами Роршаха.
…Чужие, убогие, из телевизора, пошлые, готовые фразы поползли к языку, как муравьи из потревоженного сгнившего пня. Всю жизнь поломал… Столько лет отдала… Верни мою молодость…
—Тише… ребенок, — затравленно сказал он.
На пороге кухни стоял заспанный Заяц. Босиком. В одной майке.
Еще одна порция муравьев высыпана наружу.
Она не хотела, но они лезли сами:
—О ребенке раньше бы подумал, кобель!.. Когда нашел себе эту!..
—Пап, ты что… — басовито произнес Заяц, а потом закончил по детски пискляво: — Нас бросаешь?
«Голос ломается», — подумала она отстраненно, а вслух сказала:
—Ну что же ты. Ответь сыну, папа.
—Не смей, — белыми губами прошептал он, —…его впутывать.
Вскочил, пошел в коридор, снова стал натягивать куртку; молча, трясущимися руками, долго, гораздо дольше, чем нужно, застегивал молнию.
Она кричала:
—Если уйдешь, обратно не возвращайся!
И еще что-то кричала.
А Заяц сказал:
—Зачем он нам нужен, если он с нами не хочет.
Потом она ушла плакать в спальню, а он о чем-то беседовал с Зайцем, стоя в дверях. Потом он ушел. К своей. К этой. Куда еще он мог пойти в пять утра?
Но вещи никакие не взял, только телефон и бумажник.
Она отправила ему SMS: «Придется выбрать — она или мы». Ответа не было. Тогда она написала еще: «С ребенком видеться не будешь вообще».
Пришел ответ: «Гуля, это шантаж». Глотая сопли, она набрала: «А как с тобой еще, сволочь?»
Ода соловью
- Кейт Аткинсон. Жизнь после жизни. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. — 544 с.
Есть такая птичка, которой кажется, что с заходом солнца она умрет.
А утром она просыпается, потрясенная тем, что еще жива.
И начинает петь самую прекрасную песню.Гас Ван Сент «Не сдавайся»
История популярной английской писательницы Кейт Аткинсон о «зациклившейся» девочке Урсуле, которая раз от раза проживает свою жизнь, неизменно рождаясь 11 февраля 1910 года, сначала напоминает набор черновиков. Такое количество отрывков с примерно одинаковым развитием событий и разными развязками, кажется, свидетельствует о том, что автор просто не знал, как начать, и аккуратно выписал несколько вариантов.
Некоторое время спустя становится ясно, какую игру затеяла Аткинсон.
«Все вокруг почему-то знакомо.
— Это называется „дежавю“, — объяснила Сильви. — Обман памяти. Память — это бездонная тайна.
Урсула якобы помнила, как в свое время лежала в коляске под деревом.
— Нет, — возражала Сильви, — человек не может помнить себя в младенческом возрасте.
Но Урсула-то помнила: листья, как зеленые ладошки, машут ветру; под капюшоном коляски висит игрушечный заяц, он вертится и приплясывает у нее перед глазами».
Полагая, что у ребенка чрезвычайно живое воображение, и воспитывая, помимо Урсулы, еще дочку и двоих сынишек, Сильви не придает особенного внимания болезни девочки и довольствуется несколькими визитами к психиатру. Урсула же, несколько раз случайно умерев, начинает пусть не всегда хорошо, но ориентироваться в пространстве и предсказывать будущее.
Мнение о том, что Кейт Аткинсон прознала тайну роулинговского маховика времени, недалеко от истины. Урсула вынуждена появляться на свет и умирать, исправляя свои и чужие ошибки, чтобы протянуть на земле чуть дольше, чем в предыдущий раз. По словам Томаса Элиота, жизнь слишком длинна. Что бы сказал классик, если бы узнал, что, умерев в 76 лет, он вновь родится и попадет практически в те же обстоятельства? Иными будут лишь детали, другой кусочек торта в кафе, например.
Однако, несмотря на невероятность описываемого, которая ощущается лишь спустя много дней после прочтения книги, Аткинсон отчетливо дает понять: происходящее с нами в реальности в девяноста процентах случаев от нас и зависит. Желания начать жизнь с чистого листа не возникает, но мысль постараться изменить все то, что много лет не дает покоя, — еще как!
Аллюзии на произведения великих, пронизывающие текст, не слишком-то легко распознаются русскими читателями. Влюбленная в британских классиков вроде Роберта Бернса, Джона Китса и Кеннета Грэма, автора сказочной повести «Ветер в ивах», Кейт Аткинсон и главную героиню романа наделяет страстью к литературе и способностью цитировать наизусть отрывки из произведений.
Переехав из одного города в другой и распаковывая коробки, Урсула «обнаружила Данте в красном сафьяновом переплете — подарок Иззи, под ним томик стихов Джона Донна (ее любимый), поэму „Бесплодная земля“ (библиографическая редкость, первое издание, зачитанное у Иззи), полное собрание Шекспира под одной обложкой, милых ее сердцу поэтов-метафизиков и, наконец, на самом дне коробки — предписанную школьной программой потрепанную книжку Китса с надписью: „Урсуле Тодд за успехи в учебе“».
После гибели брата Тедди во время боевых действий Второй мировой войны Урсула, знающая, что время не циклично, оно «новые письмена поверх старых», берется за мел судьбы. Уснув в 57 лет, дожить до которых в ее случае — большая удача, женщина перерождается вновь во имя любви к брату, которая оказалась сильнее жизни и уж точно сильнее смерти, имеющей в этой книге ограниченные права.
По мнению Сильви, «мука мученическая — произвести на свет ребенка. Доведись ей самой создавать род человеческий, она бы устроила все совершенно иначе. (Для зачатия — золотой луч света в ухо, а девять месяцев спустя — разрешение от бремени через какой-нибудь скромный ход.)» Хорошо, что мать Урсулы даже не подозревала, сколько раз рождалась ее дочь. А еще лучше, что никто из нас ни о чем таком не подозревает.
Алексей Иванов. Ёбург
- Алексей Иванов. Ёбург. – М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2014.
Пролог
ИМЕНА
Он уже почти не помнил, что его назвали Екатеринбург.
Город был самим собой два столетия, а в
1924 году советская власть взяла и переименовала его в
Свердловск. Яков Свердлов, большевик и боевик, жил
в Екатеринбурге в 1905–1906 годах: приехал по приказу партии, проводил митинги, устраивал стачки, создавал боевые дружины, а заодно женился на дочери
купца-миллионера. Жандармы вычислили смутьяна, и
он бежал — перед пикетом на городской заставе ловко
изобразил рожающую бабу. Екатеринбургские товарищи уважали Свердлова за жёсткую бандитскую хватку
и за талант организатора, однако в лихой жизни знаменитого большевика Екатеринбург был просто парой
эпизодов — не самых долгих и не самых важных. Воли
и энергии Якову Свердлову хватало на всё, а совесть
его не угнетала: в 1918 году он утвердил решение Уралсовета расстрелять в Екатеринбурге царя вместе с семьёй. Сам же Свердлов умер в 1919 году в возрасте 33
лет: то ли его свалил грипп-испанка, то ли до полусмерти избили рабочие. Через пять лет Екатеринбург
стал Свердловском.Прошло больше полувека. Все феномены, благодаря которым нация знала о городе, оказались уже
свердловскими. Родовое венценосное имя города исчезало из сознания нации. А имя города — это его статус, его программа, его судьба. Обо всём таком робко
напоминали местные достопримечательности, но кто же слышит их голос, кроме улетевших по теме краеведов? От былого славного Екатеринбурга остался последний общезначимый артефакт — дом инженера
Ипатьева.Этот особнячок на склоне Вознесенской горки знала вся страна, хотя его не описывали путеводители.
В этом доме последние свои месяцы провела царская
семья — отрёкшийся император Николай II, императрица Александра, цесаревич Алексей и княжны Ольга,
Татьяна, Мария и Анастасия. В ночь с 16 на 17 июля
1918 года в подвале дома Ипатьева большевики расстреляли и добили штыками «граждан Романовых», их
слуг, врача и даже комнатных собачек.Честный заводской парень Свердловск не захотел
быть причастным к такому злодеянию. Чур меня! Убийство произошло в Екатеринбурге! Посреди советского
трудового Свердловска стоял неприкасаемый дом Ипатьева — проклятый остров старого города, последний
носитель имени Екатеринбург. Лишь гибель царской
семьи, страшная жертва, удерживала имя города, следовательно, неразрывность истории и целостность души,
потому расстрел Романовых так значим и ныне, хотя
уничтожение невинных людей — неправильная «точка
сборки» для бренда.Дом Ипатьева как заноза напоминал стране о казни
Романовых и о городе Екатеринбурге. А приближалась
годовщина расстрела — 60 лет. Ходил слух, что ЮНЕСКО думает включить дом Ипатьева в список объектов
всемирного наследия. И в 1975 году Председатель КГБ
СССР Юрий Андропов обратился в Политбюро с ходатайством о сносе дома. Политбюро приняло секретное постановление. Через два года, в сентябре 1977 года, поневоле взяв на себя всю ответственность за это
решение, первый секретарь Свердловского обкома
КПСС Борис Ельцин распорядился начать снос. К зданию подъехал автокран с «шар-бабой» и за пару дней
превратил особняк инженера Ипатьева в груду битого
кирпича. Грузовики увезли мусор, а осенние дожди
прибили пыль. Всё. Нет дома — нет проблемы.Советское общество давно смирилось с мыслью,
что расстрел царской семьи был необходимостью военного времени. Однако снос дома Ипатьева выглядел
так, будто власть заметает следы преступления. Акция
властей получила обратный эффект: отсутствие дома
оказалось хуже присутствия. Снос ипатьевского дома
интеллигенция города не стерпела и смутно зароптала:
«Всё у нас неправильно!»В результате в 1981 году Свердловск взбудоражила
книга писателя Бориса Рябинина «Город, где мы живём» — беседы о городе с художником Львом Эппле,
экологом Владимиром Большаковым, архитектором
Геннадием Белянкиным. Рябинин честно и прямо писал
о разрушении городской среды — культурной и природной. В ответ огрызался, но исправлял ошибки секретарь обкома Ельцин. Хотя это был только первый круг
от брошенного камня. Уже через пять лет голос города
обрёл полную громкость: заговорил Свердловский рок-
клуб. Заговорил о самом главном, о невыносимом, о том,
что важно для всех, а не только для города Свердловска.
И дальше пошло-поехало. Тектонические сдвиги истории сопровождались рёвом митинговых мегафонов и
грохотом бандитских автоматов.Конечно, не снос ипатьевского дома был тому причиной. Но ведь надо с чего-то начинать. Обретение
себя Екатеринбург начал с упрямого недовольства за
особняк инженера Ипатьева. И в 1991 году городу вернули родовое имя.Но официального переименования было мало, и
вот такого никто не ожидал. Город разрывало удивительными событиями, грандиозными переменами, жуткими откровениями эпохи. Судьбу подстёгивали пассионарии. Для их города название Екатеринбург были
слишком «дисциплинированным». Язык искал адаптированные варианты. По аналогии с Питером был предложен стильный Катер — но нет, не прижилось. И тогда явился Ёбург. Название вызывающее, наглое, хлёсткое, почти непристойное. За него можно было и по
морде получить. Но так выбрал язык, а он знает технологии семантики и чует магнитное притяжение коннотаций.Даже на слух энергичное и краткое название Ёбург
как-то соответствует сути того Екатеринбурга — города
лихого и безбашенного, стихийно-мощного, склонного
к резким поворотам и крутым решениям, беззаконного
города, которым на одной только воле рулят жёсткие и
храбрые, как финикийцы, лидеры-харизматики. Хулиганское имя Ёбург — символ прекрасного и свободного
времени обновления.Всё проходит, и Ёбург в прошлом. Бурного Ёбурга
уже нет, есть богатый и престижный мегаполис Екатеринбург. Город сумел вернуться к себе. «Ёбург» был
только промежуточной стадией превращения «закрытого» советского Свердловска в евроазиатский буржуазный Екатеринбург эпохи глобализма и хайтека.Его будут называть Екат, но Екат — не Ёбург. А эта
книга — про Ёбург. Про Великую Метаморфозу. Про
героев, которые здесь делали будущее. Однако — по
большому счёту — книга рассказывает не об отношениях людей друг с другом и не об отношениях людей с
законом: книга — про отношения людей с городом.Ёбург. Ёбург. Ёбург.