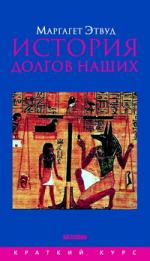Отрывок из романа
О книге Светланы Шенбрунн «Пилюли счастья»
Да: проснулась — очнулась после долгого сна, зевнула,
потянулась под одеялом и открыла наконец совершенно
глаза свои… Вот именно: ты еще и глаз не
продрал, а уже все описано. Не успел родиться, а уже
наперед все предсказано и рассказано. Полагаешь
наивно, что живешь по воле своей, а на самом деле
катишься по выбитой колее издавна составленного
текста. Воспроизводишь своим присутствием текущую
строку. И оглядела, разумеется — оглядела. С
нежностью. Нет, теперь надо говорить: не без нежности.
Домик крошечка, он на всех глядит в три окошечка…
Глядит, лапушка… Подумать! — целых три
окна в одной комнате. В нашу-то эпоху, когда редкой
комнате выделяется более одного. И одно уже почитается
за великое благо. Размер жилого помещения
должен соответствовать размеру помещенного в
него тела. Всунулся на койку, как карандаш в пенал,
и дрыхни. Благодари судьбу, что отвела тебе пусть невеликое, но защищенное от житейских бурь
пространство. Собственную твою экологическую
нишу. Еще и с телевизором в ногах! Мечтай. Грезь
об очередном отпуске.
И самое удивительное, самое восхитительное,
самое непостижимое, что в этой роскошной комнате,
в этой мягкой постели, благожелательно объемлющей
расслабленные члены, просыпается не
какой-нибудь два миллиарда пять тысяч седьмой
член мирового сообщества — а именно я. Не знаю,
чем это объяснить. Поэтому и не просыпаюсь
еще… Минуты с две, впрочем, лежал он неподвижно
на своей постели. Минуты с две полежим неподвижно…
Ну, не так уж совсем неподвижно: слегка
разминаемся, подготавливаемся к дневной жизнедеятельности.
Новый день… Рассвет. Слабенький
пока, едва уловимый. Не потому, что рано, а потому,
что северно. Что делать — за белые ночи приходится
расплачиваться тусклыми днями.
Зато одеяло — что за прелесть у меня одеяло —
облачко невесомое! Букет ландышей и незабудок.
Майский сад!.. Вади Кельт в пору весеннего расцвета.
Подумать только — середина февраля, и уже
жара. Солнечная сказка… Город Авдат. В Израиле
Негев — пустыня. В России в лучшем случае потянул
бы на засушливую степь. Страсть к преувеличениям.
На древнем пряничном пути из Междуречья
в Египет склонны к излишней драматизации.
Пряничном… Не от слова «пряник» — от слова «пряность». Впрочем, «пряник», наверно, и происходит
от «пряность». Или наоборот. Сто первое ранчо. Не
сто первый километр, а Сто первое ранчо! Не потому,
что ему предшествуют сто других, — первое и
последнее, единственное на весь пряничный путь,
но так интереснее. Символичнее. Сто первое — номер
воинского подразделения, в котором несчастный
парень, открывший с горя ранчо в пустыне,
служил под началом Арика Шарона. «И пряников
сладких…» Великий стратег Ариэль Шарон. Говорят,
его бои изучают в военных академиях всего мира.
Толстый человек с тоненьким голосом, сорванным
на полях сражений. И смешным кроличьим носом.
Аллергия, наверно. А поди ж ты! Царь-царевич, король-королевич, сапожник-портной…
Весенняя пустыня. Очей очарованье… Невесомые, блаженные дни. Дениска был совсем маленький
— как теперь Хед. И мы с ним кормили львиц
бифштексами на Cто первом ранчо. Кормите львиц
бифштексами!.. Опускаешь свеженький бифштекс
(сырой!) в скользкий желобок, и львица слизывает
его горячим языком на той стороне клетки.
Неизвестный художник по тканям, как это ты
умудрился, вовсе не ведая о моем существовании,
соорудить для меня столь прекрасное одеяло? И
почему бы не напечатать где-нибудь в уголке твое
имя? Я бы невзначай запомнила. Могли бы заодно
повысить показатели сбыта — авторский экземпляр.
Алые капли трепещущих маков…
Пора, однако ж, выпрастываться из солнечной
вечности… Серенькие будни. Нет, почему же будни? Праздничный день. Может, не выглядит особо
торжественным, но все-таки не мутный и не
грязный. Ни в коем случае. Обыкновенненький
протестантский денек. Ненавязчиво готовящий
собственное рождение. Осознающий свои права. А
также обязанности…
Все — сосредоточиться и одним скачком выпрыгнуть
из постели! Не скачком, положим, — подумаешь,
какие скорые скакуны! Попрыгунчики,
умеющие единым духом перемахнуть из ночи в
день и попасть в нужную идею. Нет, Яков Петрович,
нет!.. Никаких наскоков, никаких штурмов, никакой
прыти. Приподымаемся потихонечку, более
всего стараясь не потревожить сотканных смутным
сонным сознанием трепетных паутинок — более
всего! Не оттого ли, Яков Петрович, и приключилась
с вами беда, что вскочили вы, как встрепанный,
не прислушавшись к тихому наставлению
ночи? Ах, Яков Петрович!..
Из сна следует высвобождаться осторожно. Как
крабик выползает из чужой раковины, как водолаз
подымается с большой глубины. Особенно тот, который
уже отведал однажды кессонной болезни. Не
спеши, радость моя, выпрастывайся потихонечку.
Из влекущих грез, из густых липучих водорослей,
льнущих к вялому телу. Пленной душе… Не догадывался
Яков Петрович, простак, что бойкие двойники
просовывают свои мерзкие юркие рожи именно
в этот час — на стыке сна и бодрствования, когда
воля расслаблена и сознание располовинено. Но
мы-то теперь все знаем. «Кто любили тебя до меня,
к кому впервые?..» Почему — любили? Одного любящего
впервые нашей барышне не хватило?
Подумать только — мы с Федором Михайловичем
жили в одном и том же городе. Более того, если не
ошибаюсь, в одном и том же Дзержинском районе.
Хотя при Федоре Михайловиче он, надо полагать,
звался иначе. Все равно странно…
А небольшое кругленькое зеркальце на комоде
имеется, это верно подмечено. Кругленькие
зеркальца продолжают свое скромное существование,
пренебрегши социальным прогрессом и
открытием полупроводников. Но мы не станем
в них заглядываться. Яков Петрович оказался не
по летам доверчив. И главное, что такого замечательного
он там увидел? Заспанную, подслеповатую
и довольно оплешивевшую фигуру. Почему не
физиономию? В маленькое кругленькое зеркальце
— и всю фигуру? Ладно, что уж теперь придираться,
автору в его обстоятельствах было не до
таких пустяков — к карточному вертепу спешили,
Федор Михайлович, а потому писали впопыхах.
Издатель, кровопийца, наседал, произведений
требовал — за свои авансы… Яков Петрович, не
за письменным столом ты был рожден, а за игорным!
Впрочем, все предопределено, но выбор
предоставлен. Немец-доктор, конечно, был предопределен,
но Яков Петрович, пораскинь он слегка
мозгами, мог поостеречься. Оставалась еще возможность поостеречься. Иначе мог распорядиться
своим утром. Сереньким петербургским утром.
Ну и что, что северно? Зато леса, зато парк под
окнами — какой парк! — прозрачный, углубленный.
Сквозь ретушь веток — муниципальный
каток. Совершенно пустой в этот час. Ничего и
никого, кроме обнаженных деревьев. Снежинки
залетают в окно, тычутся в грудь и теплый со сна
живот. Хорошо — стоять вот так у распахнутого
окна против голых деревьев. Тягучий и плотный,
напитанный сыростью воздух объемлет млеющее
тело. Задумчивая влажность, разлитая во всей фигуре
ее…
Твоего автора, Яков Петрович, следовало бы
предварять надписью — как пузырек с летучей
кислотой: «Осторожно, к глазам не подносить!»
Опасный тип. Противоипритная мазь номер пять.
Поднесешь — по наивности, по младенческому неведенью
— к глазам своим, и все: приклеится всякая
дрянь к внутренней полости слабого, неподготовленного
сознания. Не в тихом почтенном размышлении
складывалась твоя судьба — в промежутках
между нелепыми ставками, между сводящими с
ума проигрышами. Вселенское сострадание! Как
бы не так… Безумный порыв, темная страсть и неизбежно
вытекающее из них отчаяние. Во всем
дойти до последнего гульдена… Ветошка ты, Яков
Петрович, смешное недоразумение, мерзко тебе,
муторно, и слезы твои грязны и мутны, но любо тебе
зачем-то мерзнуть и трепетать, вымаливать внимание тех, кто заведомо подлее и гаже тебя. Рвешься
ты предстать перед пустячной Кларой Олсуфьевной
и злыми ее гостями, сам призываешь спустить тебя
с лестницы. И только ли Федор Михайлович загнал
тебя в эту яму, в парадную залу? Не сам ли ты приказал
Петрушке нанять карету? Где границы собственной
воли и власти неумолимого творца?
Интересно — а что, собственно, означает сия фамилия:
До-сто-евский? Ел до ста? Досыта, что ли?
Между прочим — сегодня праздник, каникулы,
дети не должны идти в школу, так что имеем
полное право уделить четверть часа полезной для
здоровья утренней зарядке. Наклон вперед, откид
назад, сгибание вбок, руки на уровне плеч…
Комплекс ГТО. Вдох — выдох — вдох!.. Половицы
поскрипывают под ковром. Может ли получиться
полноценная гимнастика, когда под ногами у вас
персидский ковер? Мартин уверяет, что настоящий
персидский. Во всяком случае, удивительно
пушистый и пружинистый. Щекочет босые ступни.
Особенно ямочку в подъеме.
Пора, однако, прикрыть окно. Мартин не одобряет,
когда я перенапрягаю отопительную систему
(камин электрический, но совсем-совсем как
настоящий). А что за рамы у нас, что за стекла! Как
в лучших домах стольного града Петербурга. И запах
хвои в придачу. Мартин с мальчиками вчера
вечером поставили в гостиной елку.
Теперь — освежающий и бодрящий душ. Широкий выбор шампуней, кремов и полоскательных микстур. Убрать постель и включить пылесос.
Квартира оборудована центральным пылесосом —
десять минут легкого жужжания, и наша окружающая
среда чиста и свежа, как дыхание младенца!..
Это верно, это я точно знаю, поскольку сама занимаюсь
переводами инструкций к пользованию удивительными
техническими новинками, выпускаемыми
нашей передовой в области мировых стандартов
промышленностью.
Высокая технология! Говорят, голубой компьютер
уже обыграл чемпиона мира по шахматам.
А может, не обыграл еще, но вот-вот обыграет. За
полную достоверность не ручаюсь — черпаю эти
сведения из телерепортажей, которые Мартин
аккуратно прослушивает в вечерние часы, но, поскольку
местный язык все еще сложен для моего
восприятия, могу кое в чем и ошибиться.
Половицы поскрипывают под персидским ковром — ностальгируют о прошлых веках. Если бы планировщики
удосужились поинтересоваться моим
мнением, я предпочла бы обойтись без этих излишеств,
но нельзя — скрип одно из тончайших доказательств
натуральности нашего жилища. (Жутко,
жутко дорогая квартира, поскрипывание, разумеется,
тоже включено в стоимость.)
С улицы наш дом представляет собой обыкновенное
восьмиэтажное здание, но изнутри персонально
для нас создана полная иллюзия солидных
барских апартаментов. Бельэтаж старинного особняка.
Выглядывая, например, из окон — закрутив
немного тело штопором и задрав голову вверх, —
удостоверяемся в наличии ласточкиных гнезд под
застрехой. Не важно, что это не крыша, а лишь карниз
на уровне третьего этажа — все равно отличная
выдумка. Приятная для наших чувств мистификация.
Благодаря карнизу верхние этажи вместе с их
жильцами для нас как бы не существуют. Да и вход
туда с противоположной стороны, так что мы их не
видим, не слышим и не замечаем. Их квартиры значительно
дешевле нашей. Полы там обыкновенные
деревянные, а не пластиковые, как у нас (наши, заметьте,
абсолютно неотличимы от настоящих паркетных),
и ковры у них не персидские, и нет у них
широкой просторной лестницы, ведущей из холла
первого этажа во второй, нет покойных ступеней,
застеленных дородной дорожкой, не говоря уж о
темных лакированных перилах с изящной бороздкой
по сторонам. Мы, заходя в квартиру, открываем
резную, как бы дубовую дверь, а они обыкновенную
стальную, обтянутую для самого поверхностного
приличия невесть каким кожзаменителем.
Что ж, и в этой зажиточной стране, и в этом
обществе всеобщего благосостояния имеются отдельные
не вполне богатые люди. Но и перед ними
открыты все возможности, и они превозмогают
свою судьбу. Отправляются в праздник на острова.
Повосхищаться кусточком, аллеей и гротом.
Благо островов тут рассыпано невероятно щедро.
Как картофеля из дырявого мешка. Эндрю, сын
Мартина от первого брака, в прошлом году переселился в собственный дом на том берегу залива.
Не самый современный дом, не по последнему
слову моды и техники, но очень, очень солидный
и добротный. В зимнее время залив покрыт льдом.
Можно пройти на ту сторону пешком. Но кто же сегодня
ходит пешком? Да и зачем идти туда? Вряд ли
эти престижные дома, вряд ли они удобнее нашей
квартиры, не могут они быть удобнее, куда ж еще
удобнее? А ведь удобство-то — главное. Все продумано
и предусмотрено. От простенькой полосатенькой
дорожки, устилающей пол в коридоре, до
миленьких разноцветных: желтеньких, розовеньких
и фиолетовых — лампочек по стене.
Более всего продуманы мы сами. Чудесная семья.
Прекрасные родители и три очаровательных
мальчика. Глянцевитая обложка женского журнала.
Дверь в детскую приоткрыта, и оттуда несутся
звонкие голоса моих сыновей, заливистое тявканье
Лапы и глухие, увесистые удары. Все четверо скачут
по тахте, мальчишки сражаются подушками,
Лапа на лету пытается ухватить — хоть подушку,
хоть чью-нибудь розовую пятку.
Удивительно послушные мальчики: как только
я напоминаю, что пора умываться и завтракать,
старший, Эрик, без возражений отшвыривает
орудие боя и на одной ноге скачет в ванную.
Маленький, Фредерик (дома Фред), не дожидаясь
указаний с моей стороны, лезет застилать постель.
Средний, Хедвиг (Хед), стоит минутку в раздумье:
ванна занята старшим братом, младший препятствует в данный момент уборке постели, что ему
остается? Сверкнул глазенками и ринулся мне под
мышку, обхватил разгоряченными от сна и сражения
ручонками. Светлая головка подсунулась под
рукав халата. Хедушка!.. Кареглазка…
Карие глаза в здешних краях все еще редкость.
Хотя теперь и в северных странах имеются негритянские
кварталы, и белобрысые скандинавки
рожают порой смуглых мулатиков, но это происходит
не на нашей улице. Карие глаза и светлые
волосы — неожиданное и приятное сочетание. У
моей мамы были карие глаза. Но волосы не такие
светлые — волосы у нее были вьющиеся, с рыжинкой.
Под конец от всей ее красы только и осталось,
что эти бронзовые всклокоченные кудри. Целебный
напиток из еловых и пихтовых ветвей не помог. Не
спас… Позднее утверждали, что он вполне разрушительно
действовал и на почки, и на печень. Но тогда
он считался панацеей от авитаминоза. Вселял надежду.
Надежды маленький оркестрик… Последняя
соломинка, через которую тянут отвратительный
смертоносный напиток…
Трехэтажная кровать, по моему скромному
мнению, не самое замечательное изобретение
века. Конечно, благодаря ей в детской остается
много свободного места, но и неудобств предостаточно:
попробуйте, например, поменять простыни,
особенно на среднем уровне, — не знаю,
может, это я такая исключительно неуклюжая, но
всякий раз мой лоб и затылок успевают треснуться об раму верхнего уровня. О том, чтобы присесть
возле своего теплого сладкого сонного малыша, не
может быть и речи. А самое сложное, когда ребенок
болен. И ведь случается, что одновременно болеют
двое. А то и все трое. Санитарный вагон… Впрочем,
у мальчишек свои взгляды на жизнь, им даже нравится
карабкаться вверх-вниз по лесенке. Похоже,
что раскладывание по спальным полочкам не травмирует
их души.
Что-то замечательно вкусненькое благоухает
на столе. Мартин всегда поднимается раньше меня
и создает свои кулинарные изыски. Не забыв объявить,
разумеется, что мы лентяи и лежебоки. Мы
обожаем его хрустящие гренки с сыром и с медом,
пышные вафли и все прочее.
Сегодня я должна быть особенно внимательна к
нему — с вечера он, бедняга, был совершенно убит
подлым бесчестным поступком Ганса Стольсиуса.
Не знаю, что там у них приключилось, но горечь и
обида столь явственно читались на лице моего прямодушного
Мартина, что не заметить их было бы
неприлично. Поначалу в ответ на мои расспросы он
только отнекивался: «Нет, дорогая, все в порядке,
ничего не случилось», но потом не выдержал: самое
отвратительное заключено не в потере денег — да,
вся эта история обернется порядочным убытком
(к убыткам он успел притерпеться!), самое отвратительное
— это осознать вдруг — после стольких
лет знакомства и делового сотрудничества, — что
человек способен так вот бесстыже, бессовестно, преднамеренно тебя подвести, нет, не подвести, а
обвести вокруг пальца!
Возможно, я не стала бы с таким упорством добиваться
причины его дурного настроения, если
б знала, что во всем виноват господин Стольсиус.
Но я почему-то вообразила — и втайне уже успела
слегка тому порадоваться, — что тут с какого-то
боку замешана моя драгоценная невестушка, жена
Эндрю. Как говорится, пустячок, но приятно, если
б между ними пробежала черная кошка. Однако
надежда на семейную распрю не оправдалась, а
услышать, что непорядочной свиньей оказался
Ганс Стольсиус, не такая уж великая находка.
Я целую Мартина в щеку. Минуточку, дорогая,
— он еще не закончил хлопотать у плиты,
еще надо включить однажды уже вскипевший
чайник и вытащить из буфета и водрузить на стол
прозрачные кубышки с вареньем и шоколадной
пастой. Посреди синей клетчатой скатерти вздымается
зеленовато-розовое блюдо с горкой домашних
печений. Мы усаживаемся за стол. Этот
славный викинг — мой муж. Похоже, что вчерашняя
досада за ночь каким-то образом рассеялась.
Огромная кружка черного кофе в правой руке —
до чего же у него изящные, будто высеченные из
мрамора руки! И откуда эта роскошь у крестьянского
парня? Слева от тарелки дожидается газета.
Сегодня кроме газеты имеется и открытка от дочери,
проживающей в Америке — в одном из северных
штатов. Дочка регулярно поздравляет отца с праздниками и желает всех благ ему, а заодно и
нам. Мы с ней никогда не виделись, я знаю лишь,
что ее зовут Мина, что у нее двое детей и с мужем
она рассталась, когда младшей девочке не исполнилось
еще и года. По образованию она историк,
но в настоящее время заведует домом престарелых.
Очевидно, заведовать домом престарелых
в Америке доходнее, нежели на родине отряхать
от хартий пыль веков. А может, имелась какая-то
иная причина для отъезда. Я, разумеется, не намерена
хлопотать о Мининой репатриации.
Мартин долго вертит в руках, читает и перечитывает
открытку, потом передает ее детям, чтобы
они тоже порадовались привету от старшей сестры
и американских племянников, и распахивает наконец
газету. За завтраком он, как правило, ничего не
ест, разве что похрустит задумчиво каким-нибудь
крекером или отщипнет ломтик сыра.
Моя мама почему-то уверяла, что самое главное
для человека поесть утром. На завтрак у нас всегда
была каша. Я обожала пшенную кашу. Особенно
чуть-чуть подгоревшую. Подумать только, с тех
пор, как я покинула пределы России, мне ни разу
не довелось отведать пшенной каши! Мои мальчики
даже вкуса ее не знают. Здесь в принципе не водится
такого блюда. И желудевый кофе тоже неизвестен.
Вкусный и питательный желудевый кофе,
выпьешь утром стакан, и весь день сыт!
Мартин говорит, что во время войны у них тоже
невозможно было достать натуральный кофе, приходилось обходиться эрзацами. «Нет, когда началась
война, стало уже легче, — честно уточняет
он. — Хуже всего было во время кризиса».
Из-под газеты выскальзывает письмо.
— О, дорогая, извини, чуть не забыл! — восклицает
он с искренним раскаяньем. — Это для тебя.
Не от Дениса. От Любы.
«Ниночек, родненький, здравствуй! — Вот уже
пятнадцать лет всякое свое послание ко мне она
начинает этим: „Ниночек, родненький“. Так ей,
наверно, кажется правильным. — Ты уж меня извини,
что не сразу ответила. — Нечего извиняться,
я никогда не отвечаю сразу. — Болела, да и сейчас
еле ползаю — ноги совсем ослабли. Правая пухнет,
левая ломит — такая вот, поверишь ли, тоска зеленая.
За два месяца только и высунулась из дому,
что в поликлинику да разочек к нашим на кладбище
съездила. Спасибо хоть, Амира Георгиевна как
идет в магазин, так и мне, что надо, берет, а то бы
иной день и вовсе без хлеба сидела. Такая вот я
стала…»
Комната Амиры Георгиевны — справа за кухней.
Высокая кровать, геометрически выверенная
пирамида белейших подушек, и сама она — высокая,
сухая, чернобровая. Не особенная любительница
коммунального общения, но нам, детям,
позволяла иногда постоять у себя на пороге.
Подумать только — Люба лет на десять, если не
двенадцать, ее моложе, а вот поди ж ты, как судьба
распорядилась — кто кому ходит в магазин… Нет, сейчас не могу читать — мои на редкость разумные
и сознательные дети ерзают, нервничают, мечтают
бежать на каток. Потом дочитаю, когда вернемся.
— Все в порядке? — интересуется Мартин.
— Наверно, — говорю я.
Конечно, в порядке — в порядке вещей. Что делать?
Годы идут, люди не молодеют. Отчего это к
Любе вяжутся всякие хворобы? Витаминов, что
ли, не хватает? Надо написать, чтобы принимала
поливитамины. И овощей чтобы побольше ела.
Фруктов тоже. «Голубчик мой, Любовь Алексеевна,
ты смотри мне там не разваливайся, — сочиняю я
между делом будущее письмо. — Принимай давай
поливитамины и держи хвост пистолетом…»
Такой у нас с ней стиль общения. В трогательном
ключе. «Маточка Любовь Алексеевна! Что это вы,
маточка…» Маточка-паточка… Гаденькое, в сущности,
словечко. Сам, небось, выдумал. Чтобы подчеркнуть
нашу униженность и оскорбленность.
Мышка вы, маточка, да и вы мышка, любезный
Макар Алексеевич, серые мышки-норушки, угодившие
в помойное ведро, и начхать бы на вас
со всеми вашими нежностями и взаимными утешениями,
однако ж влечет заглянуть иной раз в
вашу пакостную трущобу, в протухшую кухоньку,
где сидите вы там в уголке за занавесочкой
милостивым государем Девушкиным и не смеете
высунуть насморочного носа. Что ж, при всеобщем
насморке и конъюнктивите и собственное
счастье отчетливей, и нечаянный проигрыш не столь убийственен. «Дорогая, поверь, расчет мой
был абсолютно верен, если бы только не делать
мне третьей ставки. Только в этом и заключается
вся досадная ошибка. Но я совершенно на тебя не
сержусь и полностью прощаю. Только ради всего
святого, не забудь: сегодня же немедленно сходи
и попроси в банке авансу две тысячи. И перешли
мне срочно, без отлагательства». Щепетильный человек.
Не просит лишнего. От двух-то тысяч мог бы
и Макару Алексеевичу уделить толику — рублика
три или четыре до ближайшего жалованья. До получки.
Уделил ведь однажды бедной английской
девочке полшиллинга.
Мальчишки с Лапой бегут впереди, мы с Мартином
вышагиваем следом. Небо сделалось совершенно
суконно-потолочным. Кто это, интересно, выдумал
суконные потолки? Зато земля вокруг бела.
Снежинки загустели, палисадники — как подушки
в комнате у Амиры Георгиевны. Я беру Мартина
под руку и прижимаюсь виском к его плечу — тому
самому, через которое перекинуты длиннющие
беговые коньки. Красавец. Супермен. Пусть не самой
первой молодости, но сложен отлично. И куртка,
и пестренькая задорная шапочка. Мы отличная
пара. Отличная пара направляется на каток
со своими очаровательными сыновьями. Коньки
сверкают, несмотря на то что ни единый луч солнца
не в силах пробиться сквозь плотные низкие
тучи.