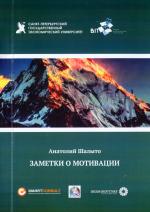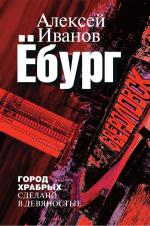- Марк Чангизи. Революция в зрении. — М.: АСТ: Corpus, 2014. — 304 c.
«Революция в зрении» не просто научно-популярная «объяснялка» об устройстве глаза и соответствующих отделов мозга. Описанные факты и явления нужны Марку Чангизи в первую очередь для изложения собственных немыслимых гипотез о зрении, нестандартных вопросов и странных выводов, каждый из которых, однако, аргументирован данными современной науки. Потому что автор исследования не просто антрополог или популяризатор, он — человек, умеющий думать.
Книга построена на простом приеме. Естественные возможности человеческого глаза, например цветовое зрение или бинокулярность, рассматриваются как сверхспособности. Оказывается, мы умеем многое из того, о чем вроде бы только в сказках говорится. Например, видеть насквозь, потому что мы (приматы) — «лиственные» животные, для которых когда-то было жизненно важно по небольшой части предмета уметь угадать целое. Этим объясняется и расположение глаз человека. Ведь если бы они находились по сторонам головы (как у многих насекомых, рыб), позволяя охватывать широкую панораму, то мы видели бы ее только под одним углом зрения. А так — самая настоящая суперспособность! Или предсказание будущего: мы замечаем изменения вокруг быстрее, чем наш мозг получает информацию о них, потому что обладаем умением не «додумать», но именно буквально пред-видеть ситуацию и отреагировать на то, что еще не случилось. Отсюда и наша склонность к оптическим иллюзиям: мозг пытается приписать статичной картинке способность двигаться. Так нам велела эволюция.
Таких гипотез Чангизи генерирует десятки, пытаясь ответить на вопрос «Почему мы видим так, а не иначе?» или, вернее, «Зачем нам видеть именно так?». Особенно увлекательна последняя глава книги. В ней говорится о возникновении алфавитов и о характере начертания букв и иероглифов. Кстати, эту суперспособность владения письмом Чангизи называет спиритизмом. Потому что с помощью букв можно общаться с мертвецами. И рассказывает анекдот о первобытных соседях, которых мы (тоже первобытные) решили поразить невиданной «светской забавой» — чтением. Далее мы узнаем, как именно обозначают в разных странах лягушачье кваканье, как соотносятся алфавиты с детскими рисунками и иконками на рабочем столе компьютера…
Читать книгу, автор которой не просто знает больше и умеет рассказывать, но щедро разбрасывает перед читателем предположения и доказательства, позволяя подумать вместе, — истинное и редкое удовольствие.
Метка: рецензия
Красивое и гнется
- Осхиль Канстад Юнсен. Полеш открывает музей. — М.: Пешком в историю, 2014. — 32 с.
Фантики от конфет или баночки из-под йогурта, мертвые насекомые или морские ракушки, Лего-человечки или наклейки с Hello Kitty — объектами детских коллекций, как показывает опыт, может быть что угодно. Но о каких бы вещах ни шла речь, они нуждаются в тщательной классификации. Ведь именно классификация и делает весь этот никчемный, на материнский взгляд, мусор коллекцией.
Книга норвежской писательницы и художницы Осхиль Канстад Юнсен «Полеш открывает музей» посвящена именно искусству собирательства и классификации. Она вышла в московском издательстве «Пешком в историю» и стала первой в его новой серии «Идем в музей».
Главный герой книги — Полеш — деревянный чурбанчик, что и следует из его имени, живет в лесу и любит собирать всякие разности. Найденные сокровища он раскладывает на полу в гостиной. (Здесь следует убористо зарисованный разворот, призванный продемонстрировать читателю богатство улова героя: от шишек и сучков до ножниц и носков). Далее Полеш все любовно сортирует по кучкам: у него есть коллекция листьев, коллекция щепок, палок и веток, а есть и вещицы, отнесенные им в группу под названием «Красивое и гнется» (кто бы не хотел заглянуть в эту категорию?).

Однако, несмотря на то, что экспонаты уложены в коробки, а коробки — на стеллажи, места в доме больше нет. Что делать? И Полеш звонит своей бабушке, самой мудрой деревяшке на свете.
История о Полеше — это и книжка-картинка для тех, кто еще не может слушать большие тексты, и кладезь идей для детей постарше, и руководство к действию для тех, кто уже привез с моря или дачи очередную коробку сокровищ. Но главное, это издание — друг всех матерей, потому что герой в ней, пройдя непростой путь от частной коллекции к открытию музея, делает вывод, что занятие это хлопотное и затратное, и приступает к изданию каталога, а оригиналы несет в утиль.
Правда, потом он увлекается современным искусством, но до этого этапа ваш ребенок может и не дойти.
Скороговоры за жизнь
- Гильермо Кабрера Инфанте. Три грустных тигра / Пер. с исп. и коммент. Д. Синицыной. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014. — 576 с.
Вот я читал книги, и теперь у меня глаза больные, к тому же я представляю, как несовершенно устроен мир, и настроение у меня постоянно испорчено <…>
Зачем вам проблемы, как у меня?Андрей Аствацатуров
Куба, даже Гавана, всегда будет являться объектом пристального внимания романтиков, настроенных на волну болеро. Местом, известным шумными карнавалами и вечеринками, где легко встретить как начинающую певичку, так и Звезду, полноголосую и полнотелую. Не перестанет называться и родиной революции, оплотом социалистического режима, от которого бежал разочаровавшийся в нем писатель Гильермо Кабрера Инфанте. Его экспериментальный метароман «Три грустных тигра», созданный в 1967 году, — еще один шаг на пути к познанию латиноамериканской истории и культуры.
По словам потомственного филолога и писателя Андрея Аствацатурова, главная задача литературы заключается в ответственности перед языком. Книга «Три грустных тигра» с ней справляется, существуя по синтаксическим законам созданного специально для романа наречия, которое приправлено гаванскими жаргонизмами и кубинскими диалектами, а также вставными конструкциями, загадками, шарадами, палиндромами и скороговорками. Одна из них и вынесена в заголовок: три грустных тигра едят пшеницу на пшеничном поле* — «трес тристес тигрес…» — свистящая, но вместе с тем по-испански мелодичная.
К прочтению этого романа нужно готовиться заранее, как к знакомству с «Улиссом» Джеймса Джойса, опубликованным на полвека ранее. Претензии из разряда «трудно читать» принимаются и дополняются: «трудно переводить» и «трудно писать». Эти «трудно» — три тигра, на которых и строится проза, способная перевернуть сознание.
Излишне детализированные истории множества второстепенных персонажей путаются в голове, заставляя то и дело оглядываться назад, сопоставлять реплики героев, водить пальцем по слепым — без знаков препинания — строкам, отыскивая конец прямой речи. Фабула книги — фон для языка, а описания латиноамериканского быта — фракции, из которых складывается большая мозаика многоголосой Гаваны.
Три грустных героя (кажется, их несколько больше) — писатель Сильвестре, актер Арсенио Куэ и гениальный поэт Бустрофедон, — не переставая создавать литературные и коммуникативные препятствия всем, кто встречается друзьям на пути (пока смерть не разлучит их), кочуют из бара в бар, слушают музыку, «поводя открытой ладонью вниз на пианиссимо, спускаясь по невидимой, воображаемой музыкальной лестнице», пьют прохладительные напитки и знакомятся с девушками. Последние хоть и прекрасны, но пусты и не способны оценить глубину языка, юмора, аллюзий и «внутренних шуток».
— Вы такие странные.
— Кто это мы?
— Ты и этат твой приятиль. Куэ.
— Почему?
— Нипачиму. Странные и все. Говорите всяка страннае. Делаите все как-та странна. И все адинакава, как два брата прям. Гаварят и гаварят и гаварят. Зачем столька-та?Впрочем, не только они не способны.
Язык, понятный троим, родился из игр, в которых Бустрофедон, Бустрофонема, Бустроморфоза, Бустроморфема все перевирал, и друзья сначала «не различали, в шутку он это или всерьез, да и потом не знали, в шутку ли, подозревали, что всерьез, что он абсолютно серьезен, потому что дело уже не ограничивалось феко с коломом… от готан — танго навыворот — он произвел барум — румба наоборот, и танцуют ее вверх тормашками, вниз головой, вихляя коленками, а не бедрами…»
Случается, разговариваешь с челове-Куэ-м, казалось бы, о понятных вещах, а он смотрит на тебя (ресницы — вверх-вниз) и молчит в ответ, а то и вовсе подключает свои лексические возможности. Тогда очередь затихнуть к тебе переходит. И так — пока не надоест. А после трепанации выяснится, что у тебя, как у Бустрофедона, патология (он бы сказал «потолокия») и что-то давило тебе на мозг, заставляя играть словами, «словом, жить, называя все новыми именами», будто и вправду изобретая новый язык.
А тиграм, действительно, грустно, особенно если знают еще одну версию скороговорки: три грустных тигра поедают три корзины с пшеницей и давятся**. Бывает, и насмерть.
* Три грустных тигра едят пшеницу на пшеничном поле (исп. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal).
** Три грустных тигра поедают три корзины с пшеницей и давятся (исп. Tres tristes tigres tragaron tres tazas de trigo y se atragantaron).
Кино прямого действия
- Карина Добротворская. Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже. — М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной. — 352 с.
Издательство АСТ открыло новую мемуарную серию «На последнем дыхании» автобиографическим романом Карины Добротворской «Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже». Едва попав на полки магазинов, эта книга, посвященная прославленному петербургскому кинокритику и сценаристу Сергею Добротворскому, успела стать бестселлером.
Когда британский филолог Бенджамин Джоуэтт заметил, что нигде не найдешь столько искренних чувств и столько плохого вкуса, как на кладбище, он, конечно, имел в виду надгробные памятники и эпитафии. Однако уже в XX столетии, оказавшемся кроме прочего веком литературных биографий — как никогда интимных и нередко намеренно скандальных — эта печальная шутка обрела новый смысл. Чтобы посвятить несколько месяцев, а то и лет собственной жизни другому человеку — даже совершенно незнакомому и, такова уж специфика жанра, давно покойному — нужно непременно быть влюбленным в его образ. А влюбленность (какую бы гамму эмоций и ощущений каждый из нас ни подразумевал под этим словом), обостряя все прочие чувства, обыкновенно лишает чувства меры. Писать же об ушедших из жизни подлинно близких и любимых без пошлости, сантиментов и эгоистического эксгибиционизма, кажется, и вовсе невозможно.
Карина Добротворская — редкий человек, которому это удалось. Сергей Добротворский, умерший 17 лет назад, был ее первым мужем. «100 писем», по словам автора, поначалу сочинялись из стремления справиться с собственной застывшей болью и преодолеть прошлое; лишь написав половину текста, она решила опубликовать его в виде законченной книги. Как всякая история настоящей любви, «100 писем» оказываются триллером — исполненным чувственности, страсти, боли и горечи повествованием о человеческих слабостях со всем прекрасным и страшным, из чего они состоят и в чем заключаются.
Таланты и слабости — пожалуй, вообще главное, что в нас есть и что нас точнее всего определяет. Тем труднее рассказывать о них (говоря о себе и близких), не увлекаясь ни самобичеванием, ни самоупоением, не впадая в отчаянную откровенность — почти неизбежную, когда и автор, и читатель знают, что у этого любовного рассказа смертельный финал. Сергей Добротворский, ушедший из жизни в 37, предательски мало реализовал свой грандиозный потенциал: будучи блестящим критиком и сценаристом, он мечтал, но так и не решился снять собственное кино. «Мне казалось, что ты недостаточно честолюбив, что ты слишком боишься совершить ошибку, — пишет об этом Карина Добротворская. — Я ждала от тебя большего. И не понимала, что значат твои отчаянные слова, которые продолжают меня жалить: „Мне не нужна твоя правда, мне нужна твоя вера!“»
В другом письме, рассуждая о природе этого страха, она формулирует очень точную и — при всей неординарности самого Добротворского — почти универсальную причину подобного неуспеха: «Я поняла, что бесстрашными бывают только люди без фантазии, которые не могут вообразить последствия своих действий. Твоя фантазия была безграничной. Помноженная на твой безупречный вкус, она парализовала твою творческую волю. Я знаю, ты никогда не произнес бы слово „творческий“, не прикрывшись иронией, но мне уже наплевать, прости <…> Чтобы быть бесстрашным, нужно быть влекомым мощной внутренней силой, сопротивляться которой невозможно. Или обладать менее сложной душевной структурой, чем твоя („Так всех нас в трусов превращает мысль“)».
Как ни велик соблазн перейти после этого трудного самоанализа к мазохистским рассуждениям о том, уравнивает ли всех нас смерть или, напротив, определяет выдающихся, Карина Добротворская его изящно избегает. И сохраняет тем самым не только драматургическую цельность этого автобиографического произведения, но и его совершенно особую магию. Любая попытка передать суть «100 писем» собственными словами (хоть в форме последовательных фактов, хоть в виде отдельных сюжетов и эпизодов) обречена на абсолютный провал — все тут же рассыпается и разлетается буквально «к черту на куски».
Эпистолярный роман — неважно, описывает ли он подлинные или вымышленные события — редко отличается удачным темпоритмом: один (неосознанно любимый автором более других) голос вечно перебивает там остальные. Нарушается задуманная композиция, повествование либо обретает невротический тон, либо невыносимую монотонность. В центре же «100 писем» — гармоничный дуэт: текст полон не только повседневных слов и шуток главного героя, Сергея Добротворского, но и цитат из его блистательных киноведческих статей и рецензий, которые Карина Добротворская нередко приводит в качестве своеобразных «иллюстраций» к собственным сторонним психологическим наблюдениям. Иногда дуэт превращается в ансамбль — к нему присоединяются голоса людей из ближайшего окружения Добротворских. Так «100 писем» оказываются еще и текстом о времени или, если быть точнее, безвременьи, которым обернулись ленинградские 1990-е.
«100 писем» — книга невероятно кинематографичная: не только благодаря своей талантливой, почти сценарно выстроенной фабуле, а еще и по той причине, что оба Добротворских всегда были страстными киноманами. Из текста романа можно узнать немало любопытного о том российском и мировом «кино, которое мы потеряли» и том, которое обрели в эпоху долгожданного доступа к зарубежным лентам. Кроме того, «Письма» еще и своевременно напоминают о нескольких десятках прекрасных фильмов, которые многим наверняка захочется немедленно пересмотреть.
Читателю, имеющему отношение к петербургско-московской кинематографической тусовке и знакомому с большинством героев этого текста, едва ли увидится что-либо неуместно откровенное и/или жестокое в оценках и комментариях, которыми автор сопровождает собственный пересказ ряда сюжетов. Некоторые же участники тех событий, вероятно, с ними не согласятся — ведь у всякого здесь своя правда, но ни у кого нет того особого права на ее озвучивание, что есть у Карины Добротворской. Тем важнее ремарка, предваряющая финальные «титры»: «Писать эту книгу было больно. Многим ее было (будет) больно читать. Моя благодарность этим людям — это одновременно моя просьба о прощении».
Что ж, справедливости ради, читать «100 писем» будет больно каждому, даже самому далекому от их персонажей человеку, но этот болевой шок оказывает в итоге поистине живительное воздействие. Ведь роман Карины Добротворской — это прежде всего признание в любви, а уж только потом эпитафия. Да такая, что с ней бы жить и жить.
Тот, чье имя нельзя называть
- Тимур Вермеш. Он снова здесь / Пер. с немецкого А. Чередниченко. — М.: ACT: Corpus, 2014. — 380 с.
Первое желание после приобретения книги — купить для нее суперобложку, которая скрыла бы характерную челку и усы. Угадываемый силуэт Адольфа Гитлера, казалось, должен вызывать гнев в общественном транспорте. Однако скоро книгу можно было не только не прятать, но и смело выставлять напоказ. Прохожие словно не замечали, что он снова здесь.
Роман немецкого журналиста Тимура Вермеша «Он снова здесь» предлагает смоделировать ситуацию второго пришествия главного злодея XX века. Как и петербургские пенсионеры, современные немцы не признали в потертом временем соотечественнике рейхсканцлера Германии. Очнувшегося на задворках Берлина в 2011 году Адольфа Гитлера принимают за комедийного актера, исполняющего роль 24 часа 7 дней в неделю.
Повествование ведется от первого лица, поэтому читатель невольно смотрит на современный мир глазами Гитлера. Тот на удивление быстро оценил ситуацию, овладел компьютером и мобильным телефоном и стал придумывать план по созданию нового вермахта. Удобное амплуа актера исключало лишние расспросы. Появившегося из ниоткуда фюрера взяло под опеку местное телевидение. Громкие речи руководство и зрители восприняли как ловко придуманные монологи на потеху публике. С первой встречи Гитлер вызывает симпатию. Собеседники ловят каждую фразу, а кто-то уже робко вытягивает руку во вполне определенном жесте.
«— Как у вас нет паспорта? Никакого удостоверения? Неужели это возможно?
— Мне он никогда не требовался.
— Вы были за границей?
— Конечно. В Польше, Франции, Венгрии…
— Ладно, это все внутри ЕС…
— Еще в Советском Союзе.
— И вы въехали туда без паспорта?
Я ненадолго задумался.
— Не могу припомнить, чтобы кто-то у меня о нем спрашивал, — чистосердечно ответил я.
— Странно. А как же Америка? Вам ведь пятьдесят шесть лет, и вы что, ни разу не были в Америке?
— Я всерьез собирался, — недовольно ответил я. — Но меня, к сожалению, остановили».Вермеш не боится остроумно писать на тему, в которой вряд ли уместен юмор. Читателя, наблюдающего за приключениями Адольфа Гитлера, подстерегает и другая опасность. С каждой новой страницей в книге растет количество карандашных пометок. Механически растаскивая на цитаты приглянувшиеся мысли и изречения, внезапно осознаешь, кому они принадлежат.
Диктатор обличает минусы современной политики, слабость власти, ее уничижительные попытки заигрывания с народом. «В легкой атлетике совершенный бросок копья — превосходное зрелище. А теперь представьте себе, что выходит кто-то вроде Геринга или матроны-канцлерши, которые, кстати, по комплекции похожи как две капли воды. И кому захочется такое видеть?.. Как только политик снимает рубашку, его политике конец». Гитлер уверен, что и семьдесят лет назад, и сейчас Германии необходим сильный руководитель. Вряд ли какой-либо коренной немец станет ему возражать.
Вермеш заставляет не только прислушиваться к герою, но и симпатизировать ему. Современный мир, по мнению фюрера, полон глупости. Взять хотя бы телевидение. Переключая с канала на канал, Гитлер попадает то на кулинарные передачи («Провидение дало немецкому народу такую великолепную, грандиозную возможность пропаганды, а ее растрачивают на производство луковых колечек»), то на новости («Казалось, будто получаешь информацию из сердца сумасшедшего дома»), то на бесконечные сериалы («Всех этих убогих следует скопом засунуть в трудовой лагерь»). «Да, да», — согласно кивает читатель. Он рад, что их мысли сходятся. Старый новый герой нашего времени иронизирует по делу и начинает вызывать еще большее доверие.
То, что Гитлер похож не на истеричного правителя, а на Чарли Чаплина из фильма «Великий диктатор», вполне вписывается в современную картину мира. В ней английские дети думают, что фюрер был тренером футбольной команды, а Аушвиц — название парка развлечений. С другой стороны, недавний соцопрос показал, что большинство австрийцев считают систему правления в 1930-е годы подходящей для общества, а 42 % опрошенных полагают, что «при Гитлере не все было плохо».
В мире, где к фюреру относятся как к полузабытой мифической фигуре, ничто не мешает снова использовать те же пути. Тимур Вермеш дает Гитлеру полноправно властвовать на протяжении почти всего повествования, увлекать за собой читателя, заставляя добропорядочных немцев слушать его речи пусть и в рамках юмористической передачи. Автор словно проверяет, могут ли дети снова пойти за крысоловом. И сомневаться в успехе опыта не приходится.
Во французской комедии «Имя» герой забавы ради говорит друзьям, что хочет назвать сына Адольфом. Те недоумевают и возмущаются, доводя себя практически до истерики. «В мире знают только одного Адольфа», — заявляют они. Тимур Вермеш показывает, что любая шутка легко оборачивается правдой. Возможно, стоит быть осторожнее, столь часто рассуждая о Том, чье имя нельзя называть.
О нейромедиаторах — шутя
- Ася Казанцева. Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости. — М.: АСТ, Corpus, 2014. – 320 c.
«Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости» — это книга о том, что происходит в нашем мозгу, когда мы курим и пьем, испытываем влечение и занимаемся сексом, когда мы счастливы или тоскуем. Ее автор Ася Казанцева часто напоминает читателям, что она не ученый, а журналист, популяризатор науки; она, однако, не только закончила биофак СПбГУ, но и стажировалась в Израиле, так что в нейробиологии ориентируется свободно.
В книге строго соблюдены границы научно-популярного жанра: говорить понятно, об интересном и специальным языком, сочетающим увлекательность и точность. О научных проблемах, как правило, пишет человек, который не является специалистом, но умеет их понять и внятно описать. В отличие от России, за рубежом такой литературы много, и читают ее хорошо. Появление подобных книг в нашей стране — это вопрос времени.
Автору исследования «Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости» удалось точно скопировать не только этот жанровый замес (просто, нескучно, умеренно глубоко, без ошибок), но и тон — непринужденный и в нужных местах разбавленный легким юмором. Правильно выбрана и тема, вернее, несколько тем. В книге говорится о зависимостях, сексе и депрессии, то есть, о вопросах, которые в наше время считаются определяющими в человеческой жизни и потому волнуют многих.
Ася Казанцева сразу предупреждает: если вы и так в курсе обсуждаемых моментов и много знаете о выбранном для разговора предмете, вам будет неинтересно в сотый раз читать о нейромедиаторах и влиянии ароматов на влечение. Автор явно скромничает. Даже если вам уже приходилось сталкиваться с этими фактами, чтение вас все равно увлечет живыми историями и отличными формулировками.
«Когда я, в отчаянии от недельного перекапывания первоисточников, так и не достигнув иллюзии понимания, пошла жаловаться на свою никчемность самому прекрасному психиатру-наркологу России Павлу Бесчастнову, он подлил мне пива и сообщил, что он и сам толком ничего не понимает».
У научно-популярной литературы все же есть один серьезный недостаток. В таких книгах говорится только о том, что априори привлекает читателя. Между тем читатель — чистый лист; он далеко не всегда способен понять, что ему в принципе может быть интересно. Поэтому ввести в его мыслительный оборот неочевидные темы было бы неплохо. Например, о коллективном поведении, о чудесных способностях мозга к адаптации, о сне и о снах. А также о том, что не приходит в голову, поскольку он еще об этом не знает.
Другими словами, все, что описано Асей Казанцевой интересно, но в книге слишком многого нет. Может, создать новую, дополненную версию?
Тиккун. Теория Девушки
- Тиккун. Теория Девушки. Предварительные материалы / Перевод с фр. Степана Михайленко. — М.: Гилея, 2014. — 130 с.
Семеро студентов Сорбонны, неудовлетворенные результатами очередной стачки с руководством университета, выученные постструктуралистской философией, в процессе кухонных диспутов пришли к изучению феномена современных властных отношений и включенности в них обычного человека. Этой инициативной группой было выпущено всего несколько номеров альманаха «Тиккун», каждый из которых может быть воспринят как манифест. Большая часть материалов связана единой тематической (иногда и сюжетной) линией, с кульминационной вершиной формирующей отношение к современному человеку (и обществу, его окружающему). Однако в пределах текстов альманаха, достаточно хаотичных и фрагментарных, близких к практикам сюрреалистического письма и логике дада, концептуального события не происходит — завершение мысли осуществляется уже в условиях внежурнальной деятельности редакторов и авторов издания.
«Тиккун» — процесс исправления мира, потерявшего свою гармонию. Это понятие связано с еврейским мистицизмом, каббалой, которой увлекался редсовет альманаха (об этом нет ни слова в переведенной «Теории Девушки»). Мистическая экзальтация, капиталистический эскапизм левого толка (в предисловиях и комментариях открыто заявляется о большом интересе к Вальтеру Беньямину и Джорджо Агамбену) служат необходимым контекстом для концептуализации субъекта. В процессе критики, таким образом, «Тиккун» прибегает к разным аргументам: от цитат и интерпретации современной философии и эссеистичного (часто буквально коллажного) изложения собственной доктрины до реального проживания стратегий не-отчуждения.
Кто это, Девушка? Это условная, бесполая модель гражданина, созданная рыночным обществом. Это субъект, сознание которого ограничено системой товарообмена, знанием о собственной меновой стоимости; лишенный личной, «голой» жизни (Агамбен) вне общественных отношений, погруженный в Спектакль (Дебор) тотального отчуждения экономикой всех сфер человеческой деятельности.Формула предмета описания — Девушка — своеобразная катахреза, вызывающая самые отъявленные гротескные свойства слова. В отличие от типичного использования данной риторической фигуры историческим авангардом (1910–1920-е), когда в текст вкраплялась игра этимологического и контекстного значения (сравните с «красными чернилами»), здесь мы имеем дело с издевательским семантическим неологизмом, искусственно встроенным в готовое слово, постоянно апеллирующим к устоявшемуся его значению. Читателю очень сложно свыкнуться с мыслью о том, что Девушка заявляется вне гендерных корреляций, тем более что в течение текста разговоры о сексуальности, женственности и «натренированных» вторичных половых признаках ведутся беспрестанно. Прагматика гротеска, игра на самых явных медийных чувствах (влечении, желании, удовольствии), тем не менее подчиняющаяся правилам критики капитализма, — одна из современных форм рефлексии, тождественная мышлению художников позднего авангарда.
Другая важная поэтическая составляющая «теории Девушки» — присутствие художественных цитат из ограниченного набора текстов, сравнение Девушки с некоторыми женскими образами, обозначенными в самом начале и затем контрапунктом оформляющими единство книги. Это холостячка из одноименного романа Виктора Маргерита (1922), Альбертина из «Пленницы» Марселя Пруста (1923) и Фердидурка, главная героиня повести Витольда Гомбровича (1937).
Механизм проявления социально-философского концепта с помощью художественных образов не нов. Переводя сравнения на почву русской литературы, удобно будет назвать Девушку — Татьяной, которая стала Ставрогиным. Но в данном случае интересна механика вкрапления художественных цитат в аналитический текст. Художественный текст — не просто иллюстрация. Пассажи из Пруста граничат с заголовками из глянцевых журналов, перемежаясь с постструктуралистской терминологией и желтой публицистикой.
Стилистическая разноголосица, превращающая суть сообщения в непрекращающееся испытание на прочность, в конце которого каждый невольно свыкнется с мыслью, что и он — Девушка, вызывает некоторое замешательство. Точно так же, как автор беллетристики заставляет наивного читателя представлять себя в качестве героя произведения, «Тиккун» обязует верить в свою идею. Переведенный номер альманаха — не только манифест группы философов, это перформативный художественный акт, равно воздействующий и призывающий к действию.
И только в диалоге «автор — читатель» критический цикл представляется полным. Калейдоскоп субъективности вращается не только вокруг профессиональной идентификации (если говорить о конкретном случае «Тиккуна»), но и циркулирует в условиях художественной коммуникации, пересекая границу вымысла и реальности.
Основано на реальных событиях
- Анатолий Шалыто. Заметки о мотивации. — СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014. — 286 с.
Cпециалист по автоматному программированию профессор Анатолий Шалыто на протяжении нескольких лет писал мотивирующие к творчеству заметки, которые благодаря неподдельному к ним интересу и сарафанному радио разошлись невероятным количеством копий и выдержали ряд переизданий. Короткие, пронумерованные на данный момент до 2018-й позиции зарисовки самим автором адресовывались скорее молодым людям, нежели барышням. «Для женщин, — считает Шалыто, — характерны мотивы, отличающиеся от рассматриваемых».
Надо сказать, не совсем. А для современных женщин — совсем не.
Обладая харизмой, Анатолий Шалыто с энтузиазмом и ответственностью взялся вести за собой стаю еще не оперившихся, как правило, социопатичных, но талантливых юношей-технарей, по преимуществу программистов. Профессор готов в любую минуту вырвать из груди сердце, чтобы осветить отрокам меркнущий в рейтинговости и имиджевости «работы за деньги и на дядю» путь к научным открытиям и достижениям, которые могут перевернуть мир.
В отличие от имеющихся мотивационных трудов, например Дэйла Карнеги, разработавшего собственную концепцию бесконфликтного и успешного общения, «Заметки…» Шалыто не ставят перед собой задачи «заговаривания» аудитории. Их лейтмотивом можно считать указанную на первой странице реплику Мишеля де Монтеня: «Если я цитирую других, то лишь для того, чтобы лучше выразить свою собственную мысль». Представляющие собой лирические размышления с вкрапленными в них высказываниями многих, иногда даже не столько великих людей, сколько сумевших грамотно выразиться в нужном месте в нужное время, сюжеты направлены на вдохновение читателей.
«Заметки…» также не похожи ни на какие иные популярные сборники разрозненных правил, афоризмов и цитат, объединенных лишь темой, поскольку являют собой мастерски сплетенные в единый текст истории. В них есть место и личному опыту, и недоумению, и юмору (Шалыто охотно пользуется эмотиконами!), но не журению, которого всегда ждешь от ученых мужей того самого поколения.
15. Мой опыт подсказывает, что если успешному в профессии молодому человеку позвонить в половине одиннадцатого утра в будний день (я, как неудачник ☺, как минимум час уже на работе), то можно услышать или понять следующее: я его разбудил, он уже встал, он собирается на работу, он уже выходит, он туда едет, он не берет трубку, так как играет в футбол, он находится на конференции (при этом в трубке слышен плач его ребенка) и т. д. и т. п. Это связано с тем, что у них отсутствует «зуд» каждое утро, как можно раньше, начать делать что-то очень важное для себя. Они, видимо, не боятся проспать свою жизнь, так как по большому счету, ею не дорожат, и не имеют «жизненного смысла». В корпорации про таких говорят: «Кто спит — тот не живет»…
Коллекция зарисовок обо всем на свете становится настольной книгой, которую необходимо открывать по утрам, чтобы заразиться желанием творить на целый день. Девушки и вовсе могут использовать «Заметки о мотивации» в качестве книги для гаданий, в которую в крещенский вечерок заглядываешь, выбирая случайную страницу, а потом томно вздыхаешь, раздумывая, как применить выпавшее предсказание в жизни.
416. «В фильме „Пролетая над гнездом кукушки“ герой Николсона убеждает обитателей психбольницы, что оторвет от пола каменный умывальник. У него это не получилось. И все начинают над ним подтрунивать, а он говорит: „По крайней мере, я попробовал“. Я вдруг понял, что в этом и состоит смысл жизни. Нельзя говорить: „не получится“. Ты обязан попробовать, это единственное, ради чего стоит жить» (В. Познер). И помните, что обычно, как писал Сергей Довлатов, «рожденный ползать летать… не хочет!»
Заметки (наверняка, неожиданно для автора) зажили самостоятельно: начали размножаться, дополняться, менять порядковые номера, обрастать мифами и чудесными историями. Они устремились в университеты и в люди, разумеется.
Моего сборника ситуация под кодовым названием «Из рук в руки» тоже не миновала. Читала я книгу в переполненной электричке по пути с дачи домой. Шептала сестре на ухо особенно понравившиеся моменты и хохотала, прикрывая рот ладонью. Напротив сидели три дачницы-старушки, одна из которых, обращаясь ко мне, спросила: «Что это вы такое интересное читаете?» Затем последовало множество вопросов о том, кто автор, как ко мне попала эта книга и можно ли ее где-то купить. Заинтересовавшаяся женщина оказалась преподавательницей из университета Бонч-Бруевича. Пришлось мне сборник заметок отдать.
Каждому до сих пор не овладевшему ценным чаще полученным напрямую от автора экземпляром «Заметок о мотивации» можно только пожелать «бороться и искать, найти и не сдаваться». Ведь он точно есть, а значит, вы сумеете его заполучить.
На птичьем языке
- Андрей Волос. Из жизни одноглавого: Роман с попугаем. — М.: ОГИ, 2014. — 240 с.
Как все это понять? Да так и понять, что не понять ни шиша,
Не разобрать ни бельмеса.Павел Белицкий «22 июня»
Владельцы животных — известные выдумщики. Стоит вам встретиться с другом-кошатником и завести беседы за жизнь, как довольно скоро человек начнет рассуждать о капиталистическом обществе на примере своего Барсика. Сверхспособности, стратегическое мышление, колонизаторские интенции — все эти качества, приписанные животным, давно вошли в обиход и совершенно не поражают даже в контексте литературы. Но так повелось, что на примере антропоморфных персонажей в шерсти или перьях легче прозревать действительность, свидетельство чему — неустаревающие басни из школьной программы и притчевые романы (яркий образчик современности — «Путь Мури» Ильи Бояшова).
Однако роль Соломона Богдановича, попугая неопределенной породы (с легкой руки художника книги приобретшего вид ары), оставляет балансировать «Из жизни одноглавого» на границе названных жанров. Насквозь сатирическая, эта повесть как будто содержит зловещий намек и сдавленное обещание: «Ужо тебе!»
Пернатый герой-рассказчик проводит дни в московской библиотеке, примечательной, пожалуй, лишь тем, что она находится в пределах Садового кольца. Местоположение капища разума не дает покоя коммерсантам — торговый центр, на их взгляд, здесь смотрелся бы лучше. Путем кадровых перестановок на смену скончавшемуся директору Калабарову приходит некий Виктор Сергеевич Милосадов, полковник и старый службист. Работая под прикрытием, он обаятельно дурит голову женскому трудовому коллективу библиотеки и реализует данный сверху план по расчистке площади под строительство ТРЦ «Одиссея».
Преградами на пути диверсанта становятся две непоборимые (и равно надуманные) вещи: любовь и полтергейст. Рассуждения о характере первой едва ли стоят читательского времени. Вторая же привлекательна своей фантасмагорией. Упокоившийся в гробу директор Калабаров в течение ряда ночей является главному герою и загадочным тоном раскрывает интригу произведения. Наделенный именем легендарного мудреца, Соломон Богданович тем не менее не считывает знаки судьбы, оставляя читателей в скуке обмахиваться книгой: разрешение конфликта не кажется внезапным, а всплески руками и оханья персонажей выглядят откровенным фарсом.
То, что воспринимать всерьез новую повесть Андрея Волоса совершенно невыносимо, не означает отсутствие в ней второго дна. В конце концов, бунт Соломона Богдановича против чиновнического произвола, выраженный в бомбометании птичьих фекалий и последующей попытки бегства, вполне можно соотнести с позицией автора:
— Вы хотите сказать, что все мои мечтания напрасны? — холодно спросил я. — Вы хотите сказать, что сейчас, когда я решил вырваться на свободу, у меня не получится? Мне казалось, вы и без лишних слов меня понимаете! Избавиться от гадкого ощущения поднадзорности! От вечной оскорбленности, какую не может не порождать в душе честной птицы деятельность этого государства! Я не могу ничего сделать с этим — корпорация заткнула все дырки, пережала все артерии, задавила все живое! Единственное, что могло бы поправить дело, это их собственная воля, их собственный стыд и ужас при взгляде на дела рук их! Но нет у них ни стыда, ни ужаса, и сделать ничего нельзя! Да только я — я не хочу в этом участвовать, и я могу уйти!
Следуя методу иносказания именитого баснописца, Андрей Волос, блистательный стилист, изобретает собственный птичий язык, на котором не опасно излагать гражданскую позицию. Болтовня Соломона Богдановича остается последним проявлением свободы. Ведь, в сущности, кто в нее вслушивается? Попугай в отличие от известной гордой птицы всего лишь одноглавый и скипетром с державой не наделен.
Лучше вы к нам!
- Алексей Иванов. Ёбург. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 573 с.
«Ёбург» — это шестисотстраничная летопись одного областного центра. «Декамерон» по-уральски. Книга с «говорящим» названием: каждая страница вслед за обложкой кричит читателю «Ё! Йоу!» Разве что «чувак» не добавляет.
Язык Алексея Иванова умело мимикрирует и под речь четырнадцатилетнего подростка с «Уралмаша», и под тексты репортажей Телевизионного Агентства Урала, и под слова научного сотрудника Уральского федерального университета. Иванов освоил мастерство конвергенции на высшем уровне: его книгу станут читать все, везде и всегда — от мала до велика, от южных морей до полярного края, от заката до рассвета.
Несмотря на нон-фикшн-ориентацию, по событийной насыщенности «Ёбург» мало чем отличается от фикциональных произведений Иванова — будь то вездесущий «Географ глобус пропил» или роман «Золото бунта». Мы имеем дело с документальной прозой, написанной не просто историком, антропологом и архивным работником, но художником.
«Уралоцентризм» и «екатеринбургоцентризм» неизбежны после прочтения этой книги. Оказывается, что жизнь — она не только в Москве и Петербурге. Она там, где есть благоприятная политическая и культурная среда, в городах, которые сами строят свою судьбу, у которых есть свое лицо. В масштабной перспективе «Ёбург» позволяет осмыслять и переосмыслять жизнь регионов, отвлекает внимание от привычных «столичных» стереотипов. Это не только учебник по истории, но и по политической и культурной географии. «Ёбург» — это сочинение о любви к родине.
Здесь, как и в книге для школьников, некоторые абзацы отчеркнуты: не хватает разве что восклицательного знака и подписи на полях «Это важно!». Правда, что и почему важно — неясно: то ли Иванов жаждет заключить в рамку бытие новомодного Екатеринбурга, то ли стремится продемонстрировать действительность — невольный «взгляд в будущее», который не нарушает логику повествования. Как и любому настоящем учебнику (особенно многопрофильному и многофункциональному), этой книге приходится подчинять самое себя определенной концепции, основанной на авторском взгляде на историю, на его толковании произошедших (и происходящих) событий. Но порой — в зависимости от бэкграунда читателя — видны торчащие из этой концепции «уши». Иванов настойчиво притягивает за них свою стройную концепцию: «Ёбург как переходный возраст города Свердловска-Екатеринбурга».
Так, в главе «Обгорелые жирафы» Иванов пишет об уличной художественной среде и о трех ее героях: о «панке-скоморохе» Старике Букашкине, о герое улиц Спартаке и о нынешнем лауреате премии Сергея Курехина Тимофее Раде. Заявленный в заглавии герой-Спартак удостаивается лишь одного абзаца, а все остальное внимание уделено Букашкину и Раде. Но их истории не до конца встраиваются в замысел автора: например, о политнаправленных акциях стрит-артиста Ради Иванов вообще предпочитает молчать; по-видимому, аполитичность и политизированность совсем сложно подвести под общий знаменатель: добрые клоуны оказались бы противопоставлены отчаянным самураям. И если эти герои так разительно отличаются, то насколько выдержаны остальные сравнения? Многое в книге Иванова так ладно складывается и прикладывается друг к другу, что скептическое стремление усомниться не проходит.
Впрочем, несмотря на шаткость каких-то элементов этой конструкции, все же в основной своей массе она вызывает доверие (в том числе благодаря громадному таланту убеждения Алексея Иванова и подкупающей простоте его стиля). Доверие основывается и на внелитературных факторах. На своем сайте Иванов пишет: «Дополнения или замечания по темам, заявленным в новеллах „Ёбурга“, автор просит присылать ему на сайт (ivanproduction.ru) для уточнения текста в следующих изданиях».
Вокруг высотки под названием «Ёбург» до сих пор стоят леса. Писатель оставляет за собой право менять историю. Все-таки Иванов — историк, и он наверняка знает, по каким законам создаются летописи. Эта книга не только о Ёбурге, его предшественнике Свердловске и преемнике Екатеринбурге; эта книга — шире — об Урале; эта книга — сам Урал.
Знаете, как там говорят? 100 % Урал.
100 % Ёбург.