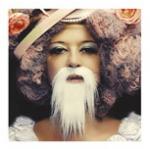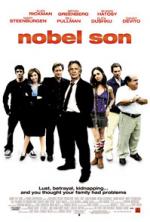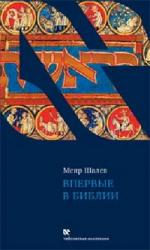Глава из книги Ирины Хакамады «Дао жизни: Мастер-класс от убежденного индивидуалиста»
О книге Ирины Хакамады «Дао жизни: Мастер-класс от убежденного индивидуалиста»
Критерии успеха
Средний класс в больших городах живет, дышит, любит и горюет, сконцентрировавшись на одном божественном желании индивидуалиста. Имя бога язычника эпохи потребления — Успех. Успех мотивирует, активизирует и вдохновляет. Отсутствие рядом света божества огорчает, закомплексовывает и в конце концов убивает. Поклонение божеству Успеха стало жизненной философией целого поколения прагматичных, тренированных МВА и коучами молодых людей.
Критерии успеха кристально чисты и понятны. Это:
- деньги;
- профессия;
- место в социальной иерархии;
- и — о, наконец! — слава.
Долгое время последовательность критериев оставалась неизменной. Но потом явление тотального заболевания пиаром изменило ее:
- слава (чего бы это ни стоило);
- деньги;
- социальный статус;
- профессия (что то туманное, едва различимое).
Все выглядит вполне гладко. Тогда почему же возникает чувство неуверенности, откуда берутся проблемы повышения самооценки, куча комплексов, дефицит секса и любви и вообще глобальная усталость? Откуда — несмотря на выученные схемы и владение компьютером лучше, чем ручкой, — столько ошибок и неумение предугадывать глобальные и частные изменения? Почему все с таким трудом, с надрывом, не взлетая подобно орлу на мощных крыльях, а словно карабкаясь на Эверест? Почему, когда, потратив годы, доходят до вершины, радости хватает на считаные мгновения?
Я думаю, что причина кроется в нас самих. Общепринятый успех, словно чужое лицо или маска, заглотнул нашу личность, как акула, даже не подавившись.
Чужое лицо отнимает энергию, не развивает интуицию, не сохраняет в нас ощущение самого себя. Божество, порожденное новой эпохой, ухмыляется у нас за спиной, так как кризисы, смена правил игры и информации несут какой то другой порядок, нам недоступный. Чтобы познать его, необходимо остановиться и почувствовать себя, а нам некогда…
Так что делать?
Я думаю — снять маску, стать самими собой и выработать свои приоритетные критерии успеха. Я успешен, если:
- творчески самореализован и чувствую себя счастливым;
- меня окружают комфортные в общении люди, то есть я сам создаю себе позитивную коммуникативную среду;
- у меня есть ровно столько денег, сколько нужно, чтобы обеспечить мне душевное равновесие и достойное качество жизни;
- у меня есть признание моего успеха со стороны людей,
которых я уважаю.
Вот и все, довольно просто. Именно такая последовательность помогает овладеть art de vivre — искусством жить. Именно это искусство позволило мне вовремя и добровольно менять профессии — от доцента до предпринимателя, политика и творческого фрилансера — и снова и снова находить себя.
Да, конечно, за самодостаточность и независимость придется чем то заплатить. Бесплатным бывает только сыр в мышеловке. Придется отказаться от части денег, славы, высокого статуса, усилить риски. Но счастье, поверьте мне, того стоит.
Аrt de vivre — величайшее искусство быть успешным прежде всего в собственных глазах, а уж потом в глазах общества.
Контролируемый пофигизм и принципы успеха
Итак, как найти баланс между душой, жаждущей свободы, и стандартами успеха, навязанными системой общественных амбиций? Как не шарахаться от обидных определений типа лузер, аутсайдер, маргинал, а делать то, что хочешь? Но при этом обеспечивать себе не выживание, а адекватное качество жизни. Как поймать рыбу по Дэвиду Линчу, а не угробить свою жизнь в погоне за 130 метровой яхтой, с которой уже и рыбу то ловить не хочется?
Главные принципы:
- Контролируемый пофигизм, то есть позитивное равнодушие к фетишам внешнего. Успех любой ценой в качестве цели грозит плохой ориентацией во времени и пространстве. Стандартный Успех — ничто, это всего лишь инструмент продвижения к мечте. Деньги, слава, руководящая должность — если они не приближают вас к мечте, то не стоят затрат времени. Пофиг все, что искушает вашу душу, но плодит вокруг кучу карьеристов и никчемных приживал. Зато контролируемый, то есть просчитанный пофигизм, освобождая душу, обеспечивает онлайн-связь c миром и позволяет улавливать ваш восходящий поток. И тогда не надо пыхтеть и потеть, разрывая сердечную мышцу на пути к цели. Один взмах, и вы летите…
- Принцип относительного равнодушия к цели. Путь к ней один, но дорог много. Не получилось устроиться в эту компанию, получится в другую. Перед решающей схваткой лучше просчитать все варианты, в том числе и наихудшие, и страх проиграть уйдет. Победит желание быть счастливым.
- Принцип удержания баланса между разумом и душой, между холодным расчетом и «хочу». Счастлив тот, кто умеет быть прагматиком, но не убивает мечту и свое «я» ради карьеры.
Я 15 лет выживала в политике и сохраняла энергию только потому, что любила себя и уважала свои ценности больше, чем очередной министерский пост. При этом в определенных рамках шла на компромиссы, понимая правила игры. - Принцип «открытого разума». Стать любознательным, открытым миру и людям, что позволит уловить смыслы и знаки вашей судьбы. В замкнутой камере карьерной жизни сигналов не услышать и знаков не заметить. Вот пример правильно настроенного уха и быстрого реагирования. Случайно на одной из встреч с партийной молодежью я услышала совет: «У вас такой опыт, вы бы хоть как нибудь его передавали, книгу написали или что то вроде того…»
Через месяц я приступила к написанию учебника «Sex в большой политике».
Инструменты успеха
- Главный и абсолютный ключ к нашему успеху — мечта. Нет ничего более сложного, чем простота мечты. Не так просто отыскать мечту в куче соблазнов. Все равно что иголку, надо извлечь ее из стога сена в виде люксовых тачек, сумок «Биркин», квартир и навороченных часов. Мечту, дающую энергию жизни не только вам, но и миру. Мечту, выходящую за рамки всех «не могу» и «невозможно», прямо как в детстве.
Моя мечта стать президентом России казалась безрассудной, но ее огонь позволил жить и творить и в политике, и вне ее. Цель сделать страну уютной и счастливой помогла найти себя, не обменивая душу на деньги и статусы. Так что ищите мечту в паузах между работой, и тогда работа вскоре исчезнет, превратившись в творчество.
- Спешить медленно. Зависть, спешка, жадность приводят к суете и тяжким ошибкам. Умение держать паузу, приходить в себя, восстанавливать душевное равновесие приближает к цели, даже если вы нарушаете график и выпадаете из потока. Вовремя прерывать поток дел — это искусство останавливать время, чтобы вырабатывать решения с помощью бодрого духа, а не уставшего тела. Если нет решения — это не значит, что его нет, это значит, что у вас нет сил его услышать.
- Профессионализм это все, да не все. Иногда умеренный дилетантизм помогает снять искусственные барьеры в голове. Не бойтесь быть дебютантом, главное — непрерывно учиться, но не коллекционируя дипломы, а учиться по жизни. Иногда классический роман или фильм Тарковского, Бергмана, или беседа с интересным человеком научит большему, чем факультет психологии МГУ. Дифференцируйте знания — узкий профессионал не выживет в эпоху перемен.
- Коммуникация — 95% нашего успеха. Летает тот, кто слушает и слышит, кто изучает среду и налаживает контакты, кто правильно задает вопросы и получает знания и связи легко и бесплатно. Лучший тот, кто, храня себя, умеет пожать руку и выразить свое уважение.
Вывод: успех — не цель, а образ мышления. И этот образ можно создать, и он станет реальностью. В успехе тоже есть этика — этика уважения к себе, к своему душевному равновесию. Никто не сможет задавить вас более успешно, чем вы сами.
Искусство быть успешным — это искусство слышать себя, слышать биение своего сердца лучше любого кардиолога. А дальше? Дальше действовать, понимая, что другие люди ничем не хуже вас. По большому счету…
Как повысить самооценку
Действительно, а как следовать всем принципам, которые я так бодро изложила, если по природе своей вы не очень то верите в себя? Как быть, что называется, equipped mentally — быть психологически готовым к собственному успеху и действительно не «прогнуться под изменчивый мир»?
Путь к стабильному успеху, особенно в ситуации кризиса, как личного, так и общественного, — самооценка со знаком +. Не со знаком !, что означает неадекватность, а со спокойным +. Я успешно заваливала свои будущие достижения, недооценивая себя, в частном бизнесе и, наоборот, прорывалась в политике, когда была в себе уверена.
Итак, эффективная самооценка — путь к успеху. Можете мне поверить, так как этот путь я прошла до конца, ощущая себя до 30 лет гадким утенком и только после 40 обретя наконец веру в то, что я какой-никакой, пусть не белый, но лебедь.
Так какими же приемами я пользовалась? Пожалуйста!
Первое: мир таков, каков ты сам. Все надо искать в себе. Неприятности и обломы — повод вычислить свои ошибки и не повторять их. Умный тот, кто учится на своих ошибках, гений тот, кто действительно на них учится. (На чужих, к сожалению, не учится никто.)
Второе: на обиженных воду возят. Обиделись, все про себя высказали и… отпустили и простили. Не будет болеть спина, да и энергия веры в себя сохранится. Не собирайте негатив вокруг себя, он притянет еще больше негатива. Коллекционируйте, пусть в мелких формах, позитив и любуйтесь им каждый день.
Третье: избегайте слов и выражений типа «Я так и знала, (знал)», «Так будет всегда», «Ничего не выйдет», «Все ясно, понятно» и так далее. Откройте уши и ждите чуда. Чудо не терпит обобщений, оно крайне индивидуально и случается там, где его уважают.
Четвертое: поставив перед собой большую цель, двигайтесь к ней маленькими шажками. Главное — двигаться… По Р. Брэнсону, становитесь человеком «когда», а не человеком «если». Глаза боятся, а руки делают. Женщины меня поймут… Оценивайте успехи по скромным достижениям.
Пятое: ищите оценку своей деятельности среди единомышленников, а не в чужой среде. Не выходите за рамки своего контекста. Мне часто предъявляют претензии, что мои книги и мастер-классы рассчитаны только на средний класс. Да, действительно, справедливо. Я несу свой опыт своей среде. Как только выйду за ее границы и начну заигрывать с фермерами и рабочими — все станет ложью.
Шестое: если критика, пусть даже выданная в жесткой форме, справедлива и развивает ваш потенциал, не надо воспринимать ее в штыки или обрастать комплексами. Если же критика уничтожает вашу личность и унижает человеческое достоинство, «бейте» наотмашь. Это тот случай, когда риск оправдан.
Седьмое и последнее: никому ничего не доказывайте! Меньше получите агрессивных наездов и не будете терять время на опустошающие споры. Больше слушайте и коллекционируйте идеи. Быть оптимистом — это искусство не создавать себе на пустом месте лишних врагов. Их и так достаточно.
Ну что? Вы стали человеком «стакан наполовину полон»?
Уверена, что да, а если еще и поработать?!
Как избавиться от перегрузки и не заболеть прокрастинацией
С эффективной самооценкой жить становится легче, а главное — столько всего хочется успеть! Современный молодой человек (или девушка) не отнимает от уха телефон и потребляет пищу, смачно приправляя ее деловыми переговорами. Точнее, наоборот — пытается провести бизнес-раунд, бездумно зажевывая его, в зависимости от доходов, японской лапшой или сибасом на гриле. Результат — гастрит и дикая перегрузка, требующая срочной перезагрузки. Человек, устав от бесконечного бега, останавливается и… не перезагружается, а впадает в прокрастинацию, а значит, летит в пропасть нереализованных планов. Все успел, проанализировал и понял, что ничего по пути не успел. Парадокс делового хомо сапиенс. Итак, быть или не быть, успеть или не успеть или к черту все послать?
Давайте разбираться по порядку: пойдем от «все на потом» к «все сейчас и сразу».
Прокрастинация — чудесное иностранное слово, модное определение нашей неорганизованности и лени. Прокрастинация — состояние откладывания на потом серьезных дел при 100 процентной занятости всем остальным. Откладывание, запаздывание, неначинание под предлогом загруженности, пусть даже абсолютной чепухой.
Причины «заболевания» могут быть разными, и зависят они от типа людей:
- Те, кто боится риска и ответственности при решении серьезных вопросов. Проще суетиться по мелочам и делать вид, что проблемы нет.
- Люди «если». Прожектерство — то, что уже было упомянуто ранее. Если бы, да я бы, а так…
- Адреналиновые наркоманы, гордо считающие себя антикризисными лидерами. Пока не грохнет, делать ничего не буду, а потом, как студент, все — в последнюю минуту.
Прокрастинация, на мой взгляд, существует в двух формах. Причем обе они не уступают друг другу в масштабах охвата населения:
- Бытовая — откладывание текущих дел.
- Глобальная — откладывание жизненно важных решений.
Вторая форма, конечно, тяжелее. Фактически люди откладывают на потом жизнь: смену работы, профессии, места жительства, разрешение личных конфликтов. Несмотря на понимание того, что так дальше жить нельзя, страх перемен побеждает желание стать счастливым. Лучше болото, только бы не ломать привычный ход вещей… Или пусть кто то сделает это за меня. Но подобная ситуация требует отдельного рассмотрения, позже, в других главах.
Перейдем к первой, бытовой, обломовщине. Мы бесконечно долго идем к врачу (моя проблема), не сдерживаем обещание отправиться с ребенком на каток, не оформляем документов, движимые естественным чувством ненависти к бюрократии, и спохватываемся, что визы нет, когда уже праздники на носу… Лицо гаишника постоянно вызывает у нас щемящую тоску из за непройденного техосмотра или отсутствия страховки. Ну и так далее… Перечень может быть длиною в жизнь. После подписания контракта на эту книгу я купила 10 тетрадей и 10 ручек (пишу традиционным методом, так как клавиатура компьютера почему то подавляет вдохновение), положила тетрадь на стол и решила написать план. С момента принятия чашки кофе и написания плана прошло… как вы думаете, сколько? Месяц! Зато приступив, не могу остановиться. Что же делать? Как преодолеть психологический барьер на пути свершений?
Кто то мне написал: «SOS! Помогите! Третий год не могу докрасить стену в квартире. Три покрасил, а четвертую не успел, и вот — три года, а стена все не крашена».
Ну что тут скажешь? Двинемся от простого к сложному, от приятных к самым неприятным вещам. Можно замучить себя стеной, а можно предложить раскрасить ее на любой манер друзьям или детям на ваш день рождения, как, впрочем, и совместить поход на каток с общением с друзьями. Точно так же закупка хозтоваров в ИКЕА, чашка кофе и ланч с подругой — более приятное дело, чем трата воскресного дня на вовлечение упирающегося мужа в домашнее хозяйство. А вот приведение всей семьей в порядок библиотеки или фотоальбомов может стать креативным домашним праздником.
Теперь о неприятном.
Документы, визиты к врачам и прочие духу противные дела необходимо распределить на одну-две недели, перемежая их с обычными делами. Зафиксировать все это в двухнедельном графике по дням и часам. Затем записать эти дни и часы на бумажках-напоминалках и повесить их на холодильник, компьютер, в туалете, в ванной комнате на зеркало. Чистите зубы и читаете, и вспоминаете… Если жить в графике, то откладываемые поступки совершатся по инерции. Вы, словно поезд, встаете на рельсы и проезжаете все станции на своем пути. Я уже упоминала, что ненавижу ходить к докторам. Пауза может длиться больше года до тех пор, пока я не выберу день и время и не впишу его в график на следующую неделю. И о чудо! Я наконец доезжаю до станции — кабинета врача.
Главный ваш враг в борьбе с прокрастинацией — имитационная занятость:
- гулянье по Всемирной сети;
- зависание в ЖЖ;
- тусовочно-гламурное мелькание;
- телевизор;
- кино (мой случай).
Отказываться от всего этого не надо. Быть рабом своих развлекательных привычек — прекрасная отдушина, это и есть свобода жить как хочется. Просто все виды «зависания» необходимо ограничить по времени — ну, например, не более двух часов — и расписать вперемежку с делами.
Итак, искусство борьбы с прокрастинацией заключается в том, чтобы сохранять баланс между:
- не делай сегодня того, что можно отложить. Решай проблемы по мере поступления;
- не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.
Ключ — в планировании жизни на короткий период: максимум две недели, минимум одна. Планировать на больший срок — бесполезно, даже вредно. Замучаете себя своим перфекционизмом и не сможете просчитывать ситуацию, ведь эпоха перемен не предполагает неизменных условий существования.
А теперь переходим к тайм-менеджменту. Как встать на рельсы своего графика и оставаться свободным?
Тайминг — оперативное расписание жизни
Французы едят по часам. Нет ланча в строго определенное время — нет дела. Американцы — трудоголики. Но в пятницу летом уже с пяти вечера на гольф-полях.
Мы — не гедонисты и не трудоголики. Мы — не свободные, а разболтанные. Живем одним днем, звонки не возвращаем, данное слово легко забираем, везде и всегда опаздываем, гуляем безответственно, живем неспокойно. Такая страна — повышенного риска. Может, мы и не виноваты, но с этим надо что то делать. Один астролог мне как то сказала, что секрет моего успеха — в сочетании дисциплины и свободного духа. Красивая фраза. Вот мой рецепт успеха:
- У меня есть график на каждый день. Этот график учитывает все мои профессиональные и личные дела, развлечения, давно откладываемые мероприятия (см. прокрастинация). В нем расписаны время и место (у меня нет офиса) с учетом минимального передвижения, пробок и физического состояния клиента (т.?е. меня). Поэтому я не опаздываю, а если и делаю это, то специально (см. «Sex в большой политике» и «Success (успех) в большом городе»).
- Удовольствия, хобби, семья — что называется, все включено. Даже когда я работала министром в правительстве, фитнес-клуб был строго два раза в неделю, и он фиксировался у меня в графике наравне со встречей с премьер-министром.
- Повестка дня и недели выстроена с выделением приоритетов. Что самое важное, менее важное и т.?д. Хобби, дети, спорт, свидание, стрижка — в таком же почете, как и работа. Они почти на равных. А вот тусовка, мелькание по телевидению — как получится. Поход в кино, опера и т.?д. — все включается в график.
Главное — не уступать в оптимизации, придерживаясь принципа: все можно успеть! Я так живу последние 15 лет и успеваю. Дисциплина и свобода — лозунг современного человека. Долой трудоголиков, да здравствует просвещенный профессионализм жизни!
На этой оптимистичной ноте можно перейти к теме перезагрузки, то есть избавления от перегруза.
Перезагрузка
У тайм-менеджмента есть и другая сторона — хочу все сразу и сейчас. Трудоголизм изводит дух и тело, постепенно превращая большой мир в тоннель, пусть даже и со светом в конце. Бесконечная занятость убивает душу. Невозможно постоянно качать мышцы, как интеллектуальные, так и биологические. Мозг устает, а личность становится зависимой от привычного. Все нестандартное приводит в состояние ступора, инерция подавляет и побеждает. В этот момент полезно вспомнить упомянутый «контролируемый пофигизм». Как же все таки снимать перегрузку и давать себе отдых вне зависимости от отпуска или уик-энда? Ведь даже совершенный компьютер «зависает», и для перезагрузки его надо выключать из сети.
Полное выключение рассмотрим позже, в главе о жизни. А сейчас попробуем разобраться в текущей разгрузке.
Во времена моей одиссеи в федеральном правительстве я рисковала умереть от своей дисциплинированности, пытаясь выполнять все поручения двух вице-премьеров, аппарата правительства и премьер-министра. Указания сыпались как снег на голову. Их масса соответствовала массе бессмысленностей, порожденных отсутствием конкуренции и профессиональной необходимости получать прибыль. Это я поняла очень быстро, но легче от глубокой мысли о судьбах бюрократии не стало.
Помощь пришла от одного сердобольного коллеги. Секретик бюрократической разгрузки оказался предельно прост и потому гениален: все поручения, изложенные на бумажном носителе (электронного правительства в 1997 году не существовало), кладешь в ящик стола, лучше нижний. Если поручение приходит повторно, можно приступать к действиям, а если по его поводу в третий раз звонят по телефону — надо срочно выполнять. Восемьдесят процентов всех дел благополучно отпало.
Не забудьте! В госучреждениях надо выполнять не все поручения. Расслабьтесь и оставайтесь профессионалом, а не суетливым отличником.
Теперь перейдем к частному бизнесу, где текущая разгрузка дается сложнее, особенно, если вы руководитель.
До недавнего времени звезды бизнеса, отрываясь только в пятницу поздно вечером (в два часа ночи в центре тусовочной Москвы — пробки!), все остальное время руководили всеми и вся до изнеможения, не имея отпуска годами. Но постепенно ситуация стала меняться. Руководители-собственники начали искать на рынке топ-менеджеров экстра-класса. Хедхантеры радостно потирали руки. Наконец то пошел спрос на менеджеров, так как собственникам захотелось плавать, ездить в Африку и Тибет, рисовать, танцевать танго, смотреть артхаусное кино и в театре получать удовольствие, а не только «выгуливать жену» на пафосные премьеры. Книги, посвященные тому, как тратить на бизнес минимум времени, а на удовольствие — максимум, стали бестселлерами.
Наемные менеджеры тоже, в свою очередь, стали задумываться не о сумме доходов, а о качестве жизни и не только после пятидесяти, а уже около тридцати. Стали пытаться регулировать свой график, исходя из времени-затрат, и получилось!
Каким образом? Человек дает себе установку:
- Я не хочу всех денег на свете, я хочу их ровно столько, чтобы
управление ими не отнимало у меня удовольствия жить. - Я окружаю себя профессионалами, способными самостоятельно принимать решения и нести за них профессиональную ответственность.
- Я распределяю ответственность и риски по горизонтали и вертикали.
- Я создаю систему мониторинга эффективности работы компании и людей.
Цель: минимум затрат личного времени и максимум прибыли!
Вот такой парадокс.
Эта модель хороша в постоянном режиме. Есть другая, ею пользуются многие фрилансеры (игроки на фондовых и валютных рынках, финансовые консультанты): два-три месяца поработал, столько же — креативный отдых (путешествия, спорт, философия, медитация, хобби).
А что делать, если вы наемный менеджер среднего звена? Начальников над вами — тьма, а подчиненных — ноль.
Первое правило: подписывая контракт, вы оцениваете соответствие должности и графика не только вашим амбициям, но и вашему стилю жизни. Перед тем как согласиться на полный или неограниченный рабочий день, оцените ваши жизненные приоритеты: необходимость заниматься спортом два раза в неделю, проводить отпуск с ребенком в летнее время, посещать занятия живописью, танцами и так далее. Театр, книги, музыка, кино — все можно успеть при правильном управлении временем (см. выше). Но есть занятия, связанные с необходимостью согласования с другими людьми. Вы же не голливудская звезда, чтобы иметь домашнего тренера, массажиста, диетолога, повара, учителя танцев, учителя музыки и так далее. Доходы не те! Так что выбирайте. Если главное — деньги и профессия, это одна история, если качество жизни — другая: тогда пытайтесь умерить амбиции и ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ НА БЕРЕГУ. Включайте все, что можно, в свой контракт или обговаривайте устно с начальством.
Второе правило: постоянно следите за эффективностью своей работы. Поставленную задачу можно решить, просидев на работе до ночи, а можно организовать процесс таким образом, чтобы спокойно уходить домой в запланированное время. Главное — не результат любой ценой, а результат с минимальными затратами времени:
результат + min времени = ваш спортивный клуб!
Помните об этом.
Третье правило: люди, желающие перезагружаться качественно и системно, ищут и находят работу с соответствующим ритмом. Кем быть — работником корпорации или фрилансером? Важный вопрос. Протестируйте себя и не сдавайте позиции. Об этом поговорим в следующей главе,
так как вопрос напрямую связан с темой «Лидерство».
Как перезагрузиться прямо на рабочем месте, чтобы
не допустить «закипания» мозга?
- Закрыть глаза и отключиться хотя бы на две—пять минут.
- Попросить начальство повесить на стенку дартс и периодически кидать дротики в мишень. Переключает сознание очень хорошо.
- Пять—десять минут послушать в наушниках музыку с вашего мобильного телефона.
- Выйти на пять минут на улицу и «продышаться» другим пространством.
- Не пропускать обед и ланч. Не обсуждать сплетни, не ввязываться в споры, а поесть в одиночестве или с очень спокойным коллегой. Обходить стороной шумных «говорунов» — они загрузят ваш мозг окончательно, впрочем, так же, как и кислотные меланхолики. Любите себя и используйте ланч для потребления не только хлеба насущного, но и космической энергии. Как ни странно, даже в Большом городе она присутствует везде, главное — понять, где она прячется.
И последнее: если наступает горячее время, когда вопросы и задания сыпятся со всех сторон и вас дергают, доводя до истерики, — не истерите! Повторяем упражнение:
- глубокий вдох, закрыли глаза, выдохнули, успокоились (2 минуты);
- прикинули очередность выполнения дел в соответствии с приоритетами (2 минуты);
- методично, шаг за шагом, сделали все, ну или не все… Все, что можно, отложили на попозже.
Вспоминаю, как вице-премьер А. Жуков в бытность свою депутатом и председателем бюджетного комитета в разгар принятия бюджета, когда всех лихорадило, спокойно играл в шахматы и все успевал!
Вот так бережем свой хард-диск и приближаемся… ну, конечно, к ЛИДЕРСТВУ!