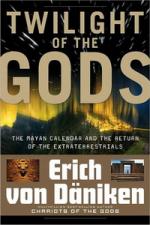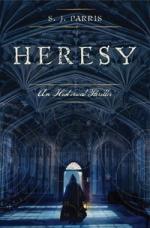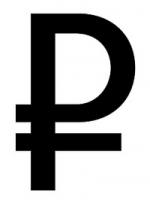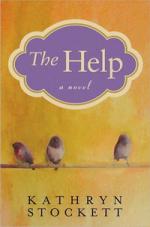Глава из романа
О книге Кэтрин Стокетт «Прислуга»
Мэй Мобли родилась ранним воскресным утром в августе 1960. Церковное дитя, как говорится. Я белых детишек нянчу, вот что, а еще готовлю и прибираюсь в доме. За свою жизнь уже семнадцать деток вынянчила. Я умею укладывать их спать, успокаивать и сажать на горшок поутру, пока мамочка еще нежится в постели.
И отродясь я не видала ребенка, который орал бы, как Мэй Мобли Лифолт. Когда я первый раз переступила порог, она аж заходилась вся, красная — видать, животик болит — и бутылочку отшвыривала, как гнилую репу. Мисс Лифолт, та в ужасе глядела на собственное дитя: «Что я не так делаю? Почему никак не могу прекратить это?»
Это? Первый намек был: что-то здесь не так. И я взяла этого розового вопящего младенца на руки. Покачала на коленях, чтобы газики отошли, и пары минут не прошло, как Малышка затихла и заулыбалась мне. Но мисс Лифолт, она за весь день так и не взяла на руки своего ребеночка. Я много видала женщин, что впадали в тоску после родов. Вот и подумала, что это тот самый случай.
Теперь насчет мисс Лифолт: она не только хмурая вечно, она еще и худющая, что твой скелет. Ножки у нее такие тощие, будто отросли только на прошлой неделе. Двадцать три года, а долговязая, как четырнадцатилетний пацан. Даже каштановые волосы — и те тонюсенькие, да редкие. Она их пробует начесывать, но это ж просто смех. А лицо у нее точь-в-точь, как у красного чертика, что на жестянке с коричными конфетками — острый подбородок и все. У нее все тело, вообще-то, состоит из острых выступов и углов, неудивительно, что не может утешить ребеночка. Детки любят толстых. Чтобы зарыться мордашкой вам в подмышку и заснуть. Уж я-то знаю.
К тому времени, как ей годик исполнился, Мэй Мобли от меня ни на шаг не отходила. Пробьет, бывало, пять часов, а она вцепится в мои башмаки, волочится по полу и кричит, будто я ухожу навеки. А Мисс Лифолт прищурится злобно, вроде я делаю что дурное, и отдирает рыдающую крошку от моих ног. Я так думаю, вы сильно рискуете, когда допускаете чужого человека воспитывать свое дитя.
Сейчас Мэй Мобли два годика уже. У нее большущие карие глаза и кудряшки цвета меда. Дело чуть портит лысинка на затылке. А когда она сердится, между бровок у нее морщинка, как у мамы. Они вообще похожи, вот только Мэй Мобли пухленькая. Королевой красоты она не будет. Думаю, мисс Лифолт это беспокоит, но для меня Мэй Мобли особенный ребенок.
Я потеряла своего дорогого мальчика, Трилора, незадолго до того, как начала работать у мисс Лифолт. Ему было двадцать четыре. Чудесный возраст, вся жизнь впереди.
У него была своя квартирка на Фолей-стрит. Встречался с хорошей девушкой, Франсес, я ждала, что они поженятся, но он неторопливый был в таких вещах. Не потому, что искал чего получше, а просто очень был рассудительный. Он очки носил и все время читал. Даже начал писать книжку, про то, каково это быть цветным и работать в Миссисипи. Боже правый, как я им гордилась! Но как-то он работал допоздна на фабрике Сканлон-Тейлор, грузил мешки, щепки все время протыкали перчатки. Он был слишком маленький для этого дела, слишком хрупкий, но ему очень нужна была работа. Устал. Шел дождь. Он поскользнулся на мостках и упал прямо на дорогу. Водитель тягача его не заметил и раздавил ему легкие, прежде чем мальчик успел двинуться. Когда я все узнала, он был уже мертв.
В тот день мой мир почернел. Воздух стал черным, и солнце — черным. Я лежала на кровати и смотрела на черный потолок. Минни приходила каждый день проверить, дышу ли я еще, кормила меня, чтоб не померла. Три месяца прошло, прежде чем я глянула в окно, посмотреть, там ли еще весь остальной мир. Как же я удивилась, что мир не рухнул оттого, что мой мальчик погиб. Через пять месяцев после похорон я заставила себя встать с кровати. Надела белую униформу, повесила на шею маленький золотой крестик и отправилась с визитом к мисс Лифолт, потому что та только-только родила малышку-дочь. Но вскоре я заметила, что кое-что во мне изменилось. Горькое зерно поселилось внутри. И я больше не принимаю жизнь так покорно.
— Приведи дом в порядок, а потом приготовь салат из цыпленка, — приказывает мисс Лифолт.
Сегодня у нее бридж. Каждую четвертую среду месяца. Я уже все приготовила — утром сделала салат из цыпленка, а скатерти выгладила еще вчера. Мисс Лифолт это видела. Но ей двадцать три, и ей нравится слышать свой голос, когда она указывает мне, что делать.
Она уже в голубом платье, что я гладила утром, у которого шестьдесят пять складок на талии, таких тонких, что мне пришлось нацепить очки, чтобы их разгладить. Я мало что в жизни ненавижу, кроме себя, но про это платье ничего доброго сказать не могу.
— И проследи, чтобы Мэй Мобли к нам не входила, строго-настрого. Я на нее очень сердита — разорвала мою лучшую бумагу на пять тысяч кусочков, а мне нужно написать пятнадцать благодарственных писем для Молодежной Лиги…
Я приготовила всякую всячину для ее подружек. Достала красивые бокалы, разложила столовое серебро. Мисс Лифолт не ставит маленький карточный столик, как другие дамы. У нас сидят за обеденным столом. Стелется скатерть, чтобы скрыть большую царапину в форме буквы «л», на комоде ваза с красными цветами прикрывает обшарпанность полировки. Мисс Лифолт, она любит, чтобы все было изящно, когда устраивает прием. Может, старается изобразить, какой у нее солидный дом. Они ведь не слишком богаты, я знаю. Богатые-то так из кожи вон не лезут.
Я работала в молодых семьях, но, так думаю, это самый маленький домишко из тех, где я нянчила деток. Вот к примеру. Их с мистером Лифолтом спальня приличного размера, но комната Малышки совсем крохотная. Столовая — она же и гостиная. Ванных комнат только две, что облегчает жизнь, потому что в тех домах, где я работала прежде, бывало по пять и шесть. Целый день уходил только на то, чтоб отмыть туалеты. Мисс Лифолт платит девяносто пять центов в час, мне уж много лет так мало не платили. Но после смерти Трилора я согласна была на все. Домовладелец не мог больше ждать. Да и хотя домик маленький, мисс Лифолт старается сделать его уютным. Она неплохо управляется со швейной машинкой. Если не может купить что-то новое, просто берет синюю, к примеру, материю и шьет.
В дверь звонят, я иду открывать.
— Привет, Эйбилин, — говорит мисс Скитер (Skeeter (амер.) — комарик, москит), она из тех, что разговаривают с прислугой. — Как поживаете?
— Здрасьте, мисс Скитер. Все хорошо. Боже, ну и жара на улице.
Мисс Скитер очень высокая и худая. Волосы у нее светлые и короткие, она круглый год делает завивку. Ей года двадцать три или около того, как мисс Лифолт и остальным. Она кладет сумочку на стул, делает такое движение, будто почесывается под одеждой. На ней белая кружевная блузка, застегнутая, как у монашки, туфли на плоской подошве, думаю, чтоб не казаться выше. Синяя юбка с вырезом на талии. Мисс Скитер всегда выглядит так, словно кто-то ей подсказывает, что носить.
Слышу, как подъехали мисс Хилли и ее мама, мисс Уолтер, они сигналят у тротуара. Мисс Хилли живет в десяти футах, но всегда приезжает на машине. Открываю ей дверь, она проходит мимо, а я думаю, что пора бы разбудить Мэй Мобли.
Вхожу в детскую, а Мэй Мобли улыбается и тянет ко мне пухленькие ручонки.
— Уже проснулась, Малышка? А что же меня не позвала?
Она смеется и выплясывает веселую джигу, дожидаясь, пока я достану ее из кроватки. Обнимаю ее изо всех сил. Думаю, когда я ухожу домой, ей не так уж много достается объятий. Частенько прихожу на работу, а она ревет в своей кроватке, а мисс Лифолт стрекочет на своей машинке, недовольно закатывая глаза, как будто это бездомная кошка за окном орет. Мисс Лифолт, она всегда хорошо одета. Всегда накрашена, у нее есть гараж, двухкамерный холодильник, который даже делает лед. Если встретите ее в бакалейной лавке, ни за что не подумаете, что она может вот так уйти и оставить ребеночка плакать в колыбельке. Но прислуга всегда все знает.
Сегодня хороший день. Девчушка смеется.
Я говорю:
— Эйбилин.
А она мне:
— Эйбии.
Я:
— Любит.
И она повторяет:
— Любит.
Я ей:
— Мэй Мобли.
Она мне лепечет:
— Эйбиии.
А потом хохочет и хохочет. Так ее забавляет, что она разговаривает, скажу вам, да и пора бы уж, возраст подошел. Трилор тоже до двух лет не разговаривал. Но зато к тому времени, как пошел в третий класс, он говорил лучше, чем президент Соединенных Штатов, приходил домой и выдавал всякие слова, навроде объединение и парламентский. Когда он перешел в среднюю школу, мы играли в такую игру: я давала ему простое слово, а он придумывал замысловатое название. Я, к примеру, говорила «домашняя кошка», а он — «животное из семейства кошачьих домашнего размера», я говорила «миксер», а он — «вращающаяся ротонда». Как-то раз я сказала «Криско» (Консервированный жир-разрыхлитель для выпечки, на основе хлопкового масла.). Он почесал голову. Поверить не мог, что я выиграла таким простым словом, как «Криско». Это стало у нас секретной шуткой, означало что-то, что вы никак не можете ни описать, ни приспособить к делу, как бы ни старались. Папашу его мы начали называть «Криско», потому что невозможно представить себе мужика, сбежавшего из семьи. Вдобавок он самый подлый неплательщик на свете.
Я перенесла Мэй Мобли в кухню, усадила в высокий стульчик, думая о двух поручениях, которые надо закончить сегодня, пока мисс Лифолт не разгневалась: отобрать негодные салфетки и привести в порядок серебро в буфете. Боже правый, похоже, придется заняться этим, пока дамы в гостиной.
Несу в столовую блюдо с фаршированными яйцами под майонезом. Мисс Лифолт сидит во главе стола, слева от нее мисс Хилли Холбрук и матушка мисс Хилли, мисс Уолтер, с которой мисс Хилли обращается вовсе без уважения. А справа от мисс Лифолт — мисс Скитер.
Обношу гостей, начиная с мисс Уолтер, как самой старшей. В доме тепло, но она набросила на плечи толстый коричневый свитер. Старушка берет яйцо с блюда и едва не роняет его, потому что руки дрожат. Я перехожу к мисс Хилли, та улыбается и берет сразу два. У мисс Хилли круглое лицо и темно-каштановые волосы, собранные в «улей». Кожа у нее оливкового цвета, в веснушках и родинках. Носит она чаще всего шотландку. И задница у нее тяжеловата. Сегодня, по случаю жары, она в красном свободном платье без рукавов. Она из тех женщин, что одеваются, как маленькие девочки, с подходящими шляпками и прочим. Не больно-то она мне нравится.
Перехожу к мисс Скитер, но она, наморщив носик, отказывается: «Нет, спасибо». Потому что не ест яйца. Я все время твержу мисс Лифолт, что у нее тут бридж-клуб, а она все равно заставляет меня готовить эти яйца. Боится разочаровать мисс Хилли.
Наконец, добираюсь до мисс Лифолт. Она хозяйка, поэтому получает свою закуску последней. И тут же мисс Хилли говорит: «Если вы не возражаете…» — и подхватывает еще парочку яичек, что меня вовсе не удивляет.
— Угадайте, кого я встретила в салоне красоты? — обращается к дамам мисс Хилли.
— И кого же? — интересуется мисс Лифолт.
— Селию Фут. И знаете, что она спросила? Не может ли она помочь с Праздником в этом году.
— Отлично, — замечает мисс Скитер. — Нам это пригодится.
— Не все так плохо, обойдемся без нее. Я ей так и сказала: «Селия, чтобы участвовать, вы должны быть членом Лиги или активно сочувствующей». Что она себе думает? Что Лига Джексона открыта для всех?
— А разве мы в этом году не привлекаем не членов? Праздник ведь предстоит грандиозный? — удивляется мисс Скитер.
— Ну, да, — говорит мисс Хилли. — Но ей я об этом сообщать не собиралась.
— Поверить не могу, что Джонни женился на такой вульгарной девице, — говорит мисс Лифолт, а мисс Хилли кивает. И начинает сдавать карты.
А я раскладываю салат и сэндвичи с ветчиной и невольно слушаю их болтовню. Эти дамы обсуждают только три темы: дети, тряпки и подружки. Заслышав слово «Кеннеди», я понимаю, что речь идет не о политике. Они обсуждают, что было надето на мисс Джеки, когда ее показывали по телевизору.
Когда я подхожу к мисс Уолтер, та берет только половинку сэндвича.
— Мама, — резко кричит на нее мисс Хилли. — Возьми еще. Ты тощая, как телеграфный столб. — Мисс Хилли смотрит на остальных. — Я ей все время твержу, если эта Минни не умеет готовить, надо уволить ее, и дело с концом.
Я тут же навострила уши. Она говорит о прислуге. А Минни моя лучшая подруга.
— Минни прекрасно готовит, — возражает мисс Уолтер. — Просто я не так голодна, как бывала прежде.
Минни, поди, лучшая стряпуха в округе Хиндс, а может, и во всем штате Миссисипи. Осенью будет Праздник Молодежной Лиги, и они попросили ее испечь десять тортов с карамелью для аукциона. Она, пожалуй, самая известная из прислуги в нашем штате. Проблема в том, что Минни не может держать рот на замке. Уж слишком она любит дерзить. То нагрубит белому менеджеру в бакалее, то с мужем поскандалит, и вечно дерзит белым дамам, у которых служит. У мисс Уолтер она задержалась так долго только потому, что та глуха, как тетерев.
— Я считаю, что ты недоедаешь, мама, — не унимается мисс Хилли. — Эта Минни плохо тебя кормит, чтобы прикарманить последние ценности, что остались.
Она отодвигает стул:
— Пойду припудрю носик. Вот увидите, мама умрет от голода.
Когда мисс Хилли уходит, мисс Уолтер бормочет себе под нос:
— Держу пари, ты только обрадуешься.
Все делают вид, будто ничего не слышали. Надо бы позвонить сегодня вечерком Минни, рассказать, что тут заявляла мисс Хилли.
В кухне Малышка сидит в своем стульчике, вся мордашка перемазана черничным соком. Я вхожу, и она тут же начинает улыбаться. Она не шумит, не беспокоится, когда остается одна, но я ужас как не люблю оставлять ее надолго. Знаю, что она глаз не сводит с двери, пока я не вернусь.
Глажу ее по пушистой головке и снова выхожу — подать холодный чай. Мисс Хилли уже сидит на своем месте, вся скривилась — опять чем-то недовольна.
— О, Хилли, тебе лучше было бы воспользоваться гостевой ванной комнатой, — говорит мисс Лифолт, перебирая карты. — В задней части дома Эйбилин убирает только после обеда.
Хилли вздергивает подбородок. А потом издает свое многозначительное «А-ха-мм». Она так вроде откашливается, привлекает к себе внимание, а остальные невольно подчиняются.
— Но гостевой ванной пользуется прислуга, — замечает мисс Хилли.
Сначала все молчат. Потом мисс Уолтер кивает, будто все стало понятно:
— Она расстроена, что негритоска пользуется той же ванной комнатой, что и мы.
Боже, только не это дерьмо снова. Они все уставились на меня, глядят, как я перебираю серебро на комоде, и я понимаю, что пора уходить. Но прежде чем я положила на место последнюю ложку, мисс Лифолт распоряжается:
— Принеси еще чаю, Эйбилин.
Подчиняюсь, хотя чашки у них полны до краев.
Я с минуту слоняюсь по кухне, хотя делать мне там уже нечего. Надо бы вернуться в столовую, закончить с серебром. И салфетки нужно разобрать обязательно сегодня, но они в комоде, что стоит в холле, как раз напротив стола, где они сидят. Я не намерена торчать тут допоздна только потому, что мисс Лифолт играет в карты.
Жду еще несколько минут, протирая столы. Даю Малышке еще кусочек ветчины, и она с радостью все съедает. В конце концов, выскальзываю в холл, мысленно молясь, чтоб меня никто не заметил.
Они сидят, все четверо — в одной руке сигарета, в другой — карты.
— Элизабет, если бы у тебя был выбор, — слышу голос мисс Хилли. — Неужели ты не предпочла бы, чтобы они делали свои дела вне дома?
Я тихонечко выдвигаю ящик комода, волнуясь больше, чтоб мисс Лифолт меня не заметила, чем прислушиваясь к тому, что они говорят. Эти разговоры для меня не новость. Повсюду в городе есть туалеты для цветных, и во многих домах тоже. Но тут я вижу, что мисс Скитер меня заметила, и замираю — ох, не было бы у меня неприятностей.
— Черви, — объявляет мисс Уолтер.
— Не знаю, — мисс Лифолт хмурится, разглядывая свои карты. — Рэйли только начинает дело, а до уплаты налогов еще шесть месяцев… обстоятельства у нас сейчас сложные.
Мисс Хилли говорит медленно, аккуратно, словно торт глазурью покрывает:
— Ты должна сказать Рэйли, что каждый пенни, который он потратит на эту ванную, он с лихвой возместит при продаже дома, — и кивает, словно сама с собой соглашается. — Ну что это за дома они строят, без уборной для прислуги? Это же просто опасно. Всем известно, что у них совсем другие заболевания, не такие, как у нас. Удваиваю.
Достаю стопку салфеток. Не знаю, почему, но отчего-то очень хочу услышать, что мисс Лифолт на это скажет. Она же мой босс. Каждый, поди, хотел бы знать, что его босс о нем думает.
— Было бы неплохо, — говорит мисс Лифолт, затягиваясь сигареткой. — Если бы она не пользовалась туалетом в доме. Три пики.
— Вот поэтому я и выдвинула Инициативу Обеспечения Домашней Прислуги Отдельными Санузлами, — объявила мисс Хилли. — Как средство профилактики заболеваний.
Удивительно, но горло у меня сжалось. Стыдно, я ведь давным-давно научилась подавлять чувства.
Мисс Скитер явно озадачена:
— Инициативу… что это такое?
— Закон, согласно которому в каждом белом доме должна быть отдельная уборная для цветной прислуги. Я даже уведомила об этом главного хирурга Миссисипи в надежде, что он одобрит идею. Я — пас.
Мисс Скитер, она мрачно посмотрела на мисс Хилли. Положила карты рубашкой вверх и небрежно так говорит:
— Может, мы просто построим отдельную ванную для тебя, Хилли.
Господи, вот тут-то все по-настоящему затихли.
Мисс Хилли говорит:
— Не думаю, что тебе следует шутить по поводу расовой проблемы. По крайней мере, если хочешь остаться на посту редактора Лиги, Скитер Фелан.
Мисс Скитер усмехнулась, но видно было, что ей совсем не смешно.
— Ты что… намерена вышвырнуть меня вон? За несогласие с тобой?
Мисс Хилли приподняла бровь:
— Я сделаю то, что должна, для защиты нашего города. Твой ход, мама.
Я ушла в кухню и не показывалась оттуда, пока не услышала, что за мисс Хилли закрылась дверь.
Убедившись, что мисс Хилли ушла, я посадила Мэй Мобли в манеж, вынесла мусорное ведро на улицу, потому что мусоровоз должен сегодня приехать. Мисс Хилли и ее сумасшедшая мамаша едва не наехали на меня своей машиной, а потом радостно прокричали, что, мол, извиняются. Я вернулась в дом, радуясь, что ноги не переломали.
Когда я вошла в кухню, мисс Скитер уже была там. Прислонилась к столу, лицо серьезное, даже серьезнее, чем обычно.
— Привет, мисс Скитер. Угостить вас чем-нибудь?
Она глянула, как мисс Лифолт разговаривает с мисс Хилли через окошко машины.
— Нет, я просто… жду.
Я вытираю поднос, украдкой бросаю взгляд на нее, она все еще с тревогой смотрит в окно. Она не похожа на других белых дам, высокая такая. И скулы у нее очень высокие. Голубые глаза всегда опущены, и потому вид у нее застенчивый. В кухне тихо, только радио на столике работает, церковная станция. Шла бы она отсюда, что ли.
— Это проповедь отца Грина передают? — спрашивает.
— Да, мэм.
Мисс Скитер чуть улыбается:
— Как это напоминает мне мою нянюшку.
— О, я знакома с Константайн, — говорю я.
Мисс Скитер отворачивается от окна, смотрит на меня:
— Она меня вырастила, знаете?
Я киваю, жалея, что вообще открыла рот. Уж слишком много знаю об этом деле.
— Я пыталась раздобыть адрес ее семьи в Чикаго, — продолжает она. — Но никто не мог ничего сообщить.
— Я тоже ничего не знаю, мэм.
Мисс Скитер опять переводит взгляд за окно, на «бьюик» мисс Хилли, едва заметно качает головой:
— Эйбилин, говорят, что… То есть, Хилли говорит…
Я беру кофейную чашечку, принимаюсь протирать ее.
— А вы никогда не хотели… изменить это все?
И я не сдержалась. Посмотрела на нее. Потому как в жизни не слыхала более глупого вопроса. Она так сморщилась, прямо с отвращением, вроде как насыпала в кофе соли вместо сахару.
Я опять занялась посудой, так что она не видела, как я закатила глаза:
— О нет, мэм, все замечательно.
— Но эти разговоры, насчет уборной… — и замолкает на этом самом слове, потому как в кухню входит мисс Лифолт.
— Привет, Скитер, — она довольно странно глядит на нас обеих. — Простите, я… вам помешала?
Мы, наверное, обе подумали, не слышала ли она чего.
— Я должна бежать, — говорит тут мисс Скитер. — До завтра, Элизабет
Открывает черный ход, оглядывается:
— Спасибо за обед, Эйбилин, — и уходит.
Я иду в столовую и принимаюсь убирать со стола. Как я и думала, мисс Лифолт появляется следом, со своей печальной улыбочкой. Голову склонила так, будто о чем спросить хочет. Она не любит, чтоб я с ее подружками разговоры разговаривала, когда ее поблизости нет, никогда она этого не любила. Вечно хотела знать, кто что говорит. Я прошла в кухню, чуть ее не задев. Посадила Малышку в высокий стульчик и начала духовку чистить.
Мисс Лифолт опять за мной, углядела банку «Криско», повертела и поставила. Малышка тянет ручонки к маме, но та открывает буфет и делает вид, будто не замечает. Потом захлопывает дверцу, открывает другую. В конце концов, останавливается. Я себе стою на четвереньках. Голову засунула в духовку, будто хочу газом отравиться.
— Вы с мисс Скитер, кажется, говорили о чем-то очень серьезном.
— Нет, мэм, она просто… спрашивала, не нужна ли мне какая поношенная одежда, — отвечаю я, словно из колодца. Руки все в жирной саже. И пахнет тут, как в подмышке. Вскорости и пот побежал по носу, и каждый раз, как стираю его, оставляю на лице грязное пятно. Должно быть, здесь, в духовке, самое гадкое место на свете. Когда внутри, непонятно, то ли ты ее чистишь, то ли тебя сейчас поджарят. Сегодня вечером мне чудится, что я застряну в духовке, а в это время включится газ. Но не вынимаю головы из этой жуткой дыры, потому что готова оказаться где угодно, лишь бы не отвечать на вопросы мисс Лифолт про беседу с мисс Скитер. Про то, что она спрашивала, не хочу ли я изменить жизнь.
Мисс Лифолт подождала-подождала, а потом фыркнула да и вышла. Видать, присматривает, где пристроить новую ванную для меня, для цветных.
Купить книгу на Озоне