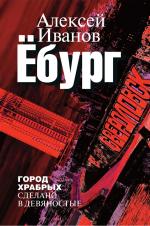- Максим Осипов. Волною морскою. — М.: АСТ: CORPUS, 2014. — 288 с.
Польский друг
История начинается не с анекдота: анекдот разрушает, уничтожает ее. «Как Ока? — Ко-ко-ко». Конец, смех. Истории надо расширяться, двигаться.
Вот девочка прилетает в большой западноевропейский город. В одной руке — сумка, в другой — скрипичный футляр. Молодой пограничник спрашивает о цели приезда. Долго рассказывать: надо кое-кому поиграть, один инструмент попробовать… Девочка плохо знает язык, отвечает коротко:
— Тут у меня друг.
Пограничник разглядывает ее паспорт: надо же, почти сверстники, он думал — ей лет пятнадцать. А почему виза польская? Он пустит ее — Евросоюз, Шенгенское соглашение, — но она должна объяснить.
Польскую визу получить легче любой другой. После небольшой паузы девочка говорит:
— В Польше у меня тоже друг.
Пограничник широко улыбается. Ничего, главное, что пустил.
Это уже начало истории.
Девочка учится музыке лет с шести, как все — со старшего дошкольного возраста, теперь она на четвертом курсе консерватории. Ее профессору сильно за восемьдесят, всю свою жизнь она посвятила тому, чтобы скрипка звучала чисто и выразительно. В целом свете не сыщешь педагога славней.
— Слушай себя, — говорит профессор. Это в сущности все, что она говорит. — Что с тобой делать, а?.. Подумаешь, она любит музыку. Вот и слушай ее на пластинках. Ну, что ты стоишь? Играй уже.
Выдерживают не все, но в общем выдерживают. Один и тот же прием приходится повторять годами, пока она вдруг не скажет: была б ты не такой бестолковой… Значит, вышло и будет теперь выходить всегда.
На сегодня закончили. Девочка укладывает скрипку в футляр.
— Скажи, — неожиданно спрашивает профессор, — а на каком инструменте ты в детстве хотела играть?
Странный вопрос. На скрипке конечно же.
Профессор как будто удивлена:
— И как это началось?
Так, объясняет девочка, на старой квартире скрипка была, восьмушка, даже без струн, и вот она повертелась с ней перед зеркалом…
Профессор произносит в задумчивости:
— Значит, твоя мечта сбылась?..
Что это было — вопрос или утверждение? И кого она вообразила себе в тот момент — не эту ли свою ученицу лет через шестьдесят? Или что-нибудь вспомнила?
Мы рассматриваем фотографии тысяча девятьсот тридцать четвертого года. На них будущему профессору десять лет. Те же правильные черты, отстраненность, спокойствие. Программка: детский концерт — Лева, Яша, она. Если бы снимки были лучшего качества, то слева на шее у каждого из детей мы бы заметили пятнышко, по нему можно опознать скрипача.
Следом еще фотографии, из эвакуации, и снова Лева, Яша, с взрослыми уже программами, еще — Катя и Додик, так и написано. «Значит, твоя мечта сбылась…» — тоже, конечно, история, но развернуть ее не получится, не нарушив чего-то главного, чего словами не передашь.
«Одной любви музы´ка уступает», так сказано. Уступает ли?
Вернемся к польскому другу: вскоре он опять помог девочке.
Из Европы она привезла себе редкой красоты бусы, и на вопрос одной из приятельниц (именно так, нет у нее настоящих подруг) ответила, сама не зная зачем:
— Польский друг подарил.
Приятельница тоже скрипачка, многословная, бурная — пожалуй что чересчур. Иногда, впрочем, ей удаются яркие образы:
— Открываешь окно, а там… военный! — Так она передает свои ощущения от какой-то радостной модуляции.
Замуж тут собралась, удивила профессора:
— Замуж? Она же еще не сыграла Сибелиуса!
Пришлось приятельнице к другому преподавателю перевестись.
— Рада за тебя, подруга, — отзывается она по поводу бус. — Думала, так и будешь одна-одинешенька, как полярный кролик.
Так польский друг стал приобретать кое-какое существование. А вскоре выручил, как говорится, по-взрослому.
Найти скрипку — такую, чтобы она разговаривала твоим голосом, — всегда случай. У этой, внезапно встреченной, про которую вдруг поняла, что с ней уже не расстанется, звучание яркое и вместе с тем благородное. Не писклявое даже на самом верху. Итальянская, по крайней мере наполовину, среди скрипок тоже встречаются полукровки: низ от одной, верх от другой.
Нестарая — так, сто с чем-то лет. Добрый человек подарил, сильно немолодой. Много всего любопытного остается за скобками, но ни девочка и уж ни мы тем более никогда не узнаем подробностей. Человек добрый и обеспеченный и с больной совестью, а у кого из добрых людей она не больна? Подарил с условием, что она никому не станет рассказывать.
Приятельнице тоже понравилась скрипка.
— Сколько? Для смеха скажи.
Девочка пожимает плечами: какой уж тут смех?
— Опять польский друг подарил? Да-а, страшно с такой по улице.
— А с ребенком не страшно по улице? — Приятельница уже родила.
— Никогда не любила поляков, — признается она. — Зря, получается?
Получается, зря.
— Гордые они, с гонором.
Девочка друга в обиду не даст.
— Это не гонор, — отвечает она, — это честь.
— Он приезжает хоть?
— Ничего, если я не буду тебе отвечать?
Приятельница все про себя рассказывает — и про мужа, теперь уже бывшего, и про того или тех, с кем встречается. Какие там тайны? — подумаешь, ерунда!
— Как зовут его, можно узнать? — Обиделась: — И целуйся с ним, и пожалуйста.
Так о польском друге становится известно в консерватории. Щедрый, со вкусом, есть чему позавидовать. «В тихом омуте черти водятся», говорят про девочку люди опытные. Но они ошибаются: в этом омуте нет никаких чертей.
Окончание консерватории — дело хлопотное. Хочется для экзамена по ансамблю выучить что-нибудь необычное. Девочка слушает музыку для разных составов, вот — трио с валторной, может — его? Спрашивает у валторниста с курса, считается, лучшего:
— Знаешь такую музыку?
— Нет.
— А хочешь сыграть?
Валторнист прислушивается к себе.
— Нет.
На госэкзамене пришлось обойтись без валторн.
Теперь, когда консерватория позади, нам вместе с девочкой надо переместиться в будущее. Не только слушать, смотреть, записывать, но и угадывать, воображать. Можно ли, например, было предвидеть будущее детей с той фотографии тридцать четвертого? Вероятно, да. Потому что, во-первых, случайностей нет, а во-вторых, судьба — одна из составляющих личности, ее часть.
Конечно, многие внешние обстоятельства угадать нельзя. Пусть случайностей нет, но неопределеность, и очень большая, имеется. Например: сохранится ли наша сегодняшняя страна? Ее предшественница при всей своей мощи оказалась недолговечнее обыкновенной скрипки, для которой семьдесят лет — считай, ничего, несерьезный возраст, семидесятилетние инструменты выглядят совершенно новыми, ни одной трещины, мастера даже их пририсовывают иногда. Теперь нам кажется, что стране нынешней, наследнице той, в которой выросли Лева с Яшей и Катя с Додиком, не уготована длинная жизнь, трещинам на теле ее нет числа, и она распадется, рассыплется, хотя, возможно, получится и не так. Не надо выдумывать, пусть история сама развивает себя.
Или вот: новая техника. Зачем уделять внимание вещам, которые обновляются столь стремительно? Лева с Яшей прожили жизнь, ничего не узнав о компьютерах и, говоря откровенно, вряд ли хотели бы знать. До совершенства всем этим штукам еще далеко, имеет ли смысл разбираться в том, как они устроены? Опять-таки: на чем станут люди перемещаться лет через тридцать, к окончанию нашей истории? С помощью каких устройств будут переговариваться, на чем слушать музыку? Не хочется фантазировать, да и не все ли равно?
Кое в чем мы, однако, уверены. Смычки будут по-прежнему обматывать серебряной канителью или китовым усом, в колодки — вставлять перламутр, а на детских скрипках, восьмушках и четвертушках, не перестанут появляться тонкие дорожки соли, от слез: дети играют и плачут, не останавливаясь, не прекращая играть.
На серьезные вещи — на политику, экономику — музыка влиять не начнет, а если и поучаствует в них, то по касательной, косвенно. Выяснилось ведь недавно, что, когда дети находились в эвакуации, производитель роялей «Стейнвей» договорился с американским командованием, и оно разбомбило «Бехштейн», конкурента, разнесло его в пыль, до последней клавиши. Наивно себе представлять мировую историю как соперничество фортепианных фабрик, тем более что ни «Ямаха», ни «Красный октябрь» ни в чем таком не замешаны.
Зато приблизительно в те же дни рябое низкорослое существо отпустит шуточку в адрес германского друга, бывшего: у него, скажет он, — Геббельс, а у меня — Гилельс. Чувства, которые вызывает эта острота, убеждают нас в ее подлинности, в том, что именно он ее произнес.
Впрочем, за этой политикой мы уклонились от главной темы — отношений девочки с польским другом. Рывками и с повторами история идет вперед.Поездки, поездки — на фестивали, на конкурсы: не жизнь, а сплошной рев турбин, стук колес, вряд ли за следующие десять-пятнадцать лет возникнут новые виды транспорта. После тридцати двух уже не играют на конкурсах, но появляются первые ученики. Разумеется, будет всякое, человеческое, как в любом деле, но не они решают — не интриги, скандалы и закулисные договоренности. В чем разница между скрипачом, который, стоя перед оркестром, исполняет концерт Сибелиуса, и теми, кто ему сидя аккомпанирует? — они тоже умеют этот концерт играть. Уровень притязаний, личности? Говорят: судьба — но это ведь все равно как ничего не сказать.
По возрасту вовсе не девочка, она сохранит, закрепит что-то детское в своем облике. Артисту необходима поза — слово нелестное для профессии, зато точное. Хирургу, учителю, даже военному — им тоже требуются, как угодно: молодцеватость, индивидуальное отношение, — а уж артисту без позы не обойтись. И большая удача, если твоя фигура, тонкая, чуть угловатая, и детское выражение лица соответствуют тому, что ты делаешь, если в тебе самой от игры возникают и радость, и свежесть, и удивление.
Итак, она музыкант — прекрасно наученный, с маленькой тайной, о наличии польского друга, кажется, знают все. И даже если у нее появятся дети и муж — должны появиться, куда же без них? — хотя при такой сосредоточенности на игре, на штрихах, интонации, можно и правда остаться одной — так вот, даже им она не раскроет тайну. Улыбнется, не станет рассказывать, да никто и не спросит ее ни о чем.
Дача, дом на Оке. Примерно месяц в году это большая река. По утрам она ходит смотреть на разлив: на желтоватую воду, на торчащие из воды прутики. Удивительно, с каким постоянством ежегодно воспроизводится эта жалкая красота.
— Как Ока? — спрашивает приятельница, только проснулась. Позаниматься приехала, у нее осложнения: конкурс надо сыграть в оркестр, чтоб не выперли. — Может, для смеха вспомнить Сибелиуса?
Очень вышла из формы с окончания консерватории. Кладет инструмент:
— А давай выпишем Рому с Виталиком, как ты думаешь? Шашлычков поедим, поговорим за жизнь.
Можешь с Ромой меня положить, а можешь с Виталиком. Тебе кто больше нравится?
Очень заманчиво, но, увы. Должен явиться один человек…
— Польский друг? Я смотрю, это серьезно у вас.
Да уж, серьезнее некуда.
— Надо, выходит, и мне отчаливать. Не хочется твоему счастью мешать.
— Доброе у тебя сердце, — скажет она приятельнице на прощание.
— А ума нет совсем, — засмеется та.
Приятельница уедет, а она в тот день будет смотреть на весеннее небо и на деревья. Поиграет не много, но хорошо: навыки, приобретенные в ранней молодости, не теряются.
Еще, конечно, умение слушать себя.
Предложения, аналогичные этому, с шашлычками, с Ромой-Виталиком, часто к ней поступают в поездках — там легко образуются связи, которые трудно потом развязать. Но не в одних лишь делах практических выручает ее польский друг. И не то что она забудет, что он — только выдумка для приятельниц, пограничников, или, скажем, заинтересуется польской культурой как-то особенно, или станет учить язык: поляки, которых ей придется встречать, и правда окажутся с гонором. Да и виза польская давным-давно кончится. Евросоюз, Шенгенское соглашение — кто знает, что с этим Евросоюзом произойдет?
Человек разумный не верит фантазиям, но то, о чем говорят десятилетиями, тем более шепотом, приобретает важнейшее свойство — быть. Так легенды — семейные и общенациональные — начинают если не исцелять, то, во всяком случае, утешать. Лет с сорока (ее лет) польский друг станет ей иногда сниться, а верней — грезиться. Ни имени, ни голоса, ни лица, так — что-то неопределимо-приятное. Утром, незадолго до пробуждения. Если польский друг появляется накануне важных концертов, значит, все пройдет хорошо.
С годами количество этих самых концертов несколько снизится, зато станет больше учеников. Педагогический дар у нее не такой мощный, как у профессора, да и детей она предпочитает хвалить.
И хотя в похвалах ее есть оттенки, и очень существенные, слез в ее классе проливается меньше, чем во времена Кати и Додика. Все равно какой-то уровень влажности неизбежен, даже необходим.
К окончанию нашей истории музыкальный мир вряд ли сильно расширится. С миром взрослым, миром производительных сил и производственных отношений, музыка будет вести все то же параллельное существование. Немолодая уже женщина, она опять прилетает в западноевропейский город — тот, с которого все началось. Фестиваль камерной музыки, очень привлекательный вид музицирования и для участников, и для слушателей: уютный зал, всегда полный, программа отличная — счастье, когда зовут в такие места.
Сохранятся ли через тридцать лет бумажные ноты? — и без них много всего надо везти с собой: скрипку, смычки, канифоль, струны, одежду концертную. Польский друг не объявлялся давно, но размышлять о нем некогда, на сцену приходится выходить каждый день. Все играется с одной репетиции, максимум с двух, без ущерба для качества — настолько высок уровень исполнителей. Утром порепетировать, днем отдохнуть, вечером посмотреть на партнеров, одного или нескольких, кивнуть: с Богом, вытереть руки платком перед самым выходом — и сыграть.
Дело идет к развязке, последний день. Трио с валторной, то самое, наконец-то она сыграет его, да еще заключительным номером. И валторнист изумительный, так говорят — она его раньше не слышала.
Что-то он, однако, опаздывает на репетицию. Они с пианистом, рыжим стареющим мальчиком, давно ей знакомым, посматривают свои партии, ждут. Наконец дверь отворяет некто с альтом: их разве не предупредили? — все сдвинулось. — А валторнист? — Съел вчера что-то несвежее, но к концерту поправится. Валторнисты любят поесть, им это требуется для вдохновения, для дыхания.
Альтист улыбается. Его вызвали только с утра, но он эту музыку знает, всегда мечтал поиграть в их компании, надеется никого не разочаровать. Впрочем, он и нужен только для репетиции. Высокий, немножко седой — ладно, не время разглядывать, уже задержались на час.
Начинают играть. Очень скоро оказывается, что эту музыку она себе представляла именно так. С конца первой части в ней поднимается радость, особенная, из каких-то неизвестных отделов души, ничего похожего прежде не было. Надо следить за музыкой, не за радостью, слушать себя и других, но радость присутствует и растет.
Музыка имеет дело с едва различимыми длительностями. Ритм, даже не ритм — метр, биение пульса, самое трудное — добиться того, чтобы был одинаковый пульс. Остальное — громче-тише, штрихи — поправить было бы проще, но и тут ничего поправлять не требуется: хорошо у них получается, прямо-таки пугающе хорошо.
В звуке альта много страсти, тепла, желания поговорить о важном, о главном, узнать про нее, о себе рассказать. Скрипка ему отвечает:
— Смотри на деревья и небо и меньше думай о важном, — приблизительно так.Доиграли, выдохнули. Пианист подает голос:
— Там, где трели, я не очень мешал?
Нет, он вообще не мешал.
— Между прочим, у меня в этом месте соло. Можно, наверное, повторить?
Они переглядываются — альт и она: можно, но мы не станем этого делать, лучше уже не получится.
Немец польского происхождения. Всю свою жизнь он провел в этом городе. И ее видел, девочкой на прослушивании в школе музыки, он тогда тоже на скрипке играл. Подойти не решился. Дела у него обстояли неважно, пока не перешел на альт. Теперь в здешнем оркестре работает. Здесь приличный оркестр. А играла она замечательно, чисто и выразительно, он всю программу ее может назвать.
Метка: АСТ
Захар Прилепин. Обитель
- Захар Прилепин. Обитель. — М.: АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2014. — 746 с.
ОТ АВТОРА
Говорили, что в молодости прадед был шумливый и злой. В наших краях есть хорошее слово, определяющее такой характер: взгальный. До самой старости у него имелась странность: если мимо нашего дома шла отбившаяся от стада корова с колокольцем на шее, прадед иной раз мог забыть любое дело и резво отправиться на улицу, схватив второпях что попало — свой кривой посох из рябиновой палки, сапог, старый чугунок. С порога, ужасно ругаясь, бросал вослед корове вещь, оказавшуюся в его кривых пальцах. Мог и пробежаться за напуганной скотиной, обещая кары земные и ей, и её хозяевам.
«Бешеный чёрт!» — говорила про него бабушка. Она произносила это как «бешаный чорт!». Непривычное для слуха «а» в первом слове и гулкое «о» во втором завораживали.
«А» было похоже на бесноватый, почти треугольный, будто бы вздёрнутый вверх прадедов глаз, которым он в раздражении таращился, — причём второй глаз был сощурен. Что до «чорта» — то когда прадед кашлял и чихал, он, казалось, произносил это слово: «Ааа… чорт! Ааа… чорт! Чорт! Чорт!» Можно было предположить, что прадед видит чёрта перед собой и кричит на него, прогоняя. Или, с кашлем, выплёвывает каждый раз по одному чёрту, забравшемуся внутрь.
По слогам, вослед за бабушкой, повторяя «бе-ша-ный чорт!» — я вслушивался в свой шёпот: в знакомых словах вдруг образовались сквозняки из прошлого, где прадед был совсем другой: юный, дурной и бешеный.
Бабушка вспоминала: когда она, выйдя замуж за деда, пришла в дом, прадед страшно колотил «маманю» — её свекровь, мою прабабку. Причём свекровь была статна, сильна, сурова, выше прадеда на голову и шире в плечах — но боялась и слушалась его беспрекословно.
Чтоб ударить жену, прадеду приходилось вставать на лавку. Оттуда он требовал, чтоб она подошла, хватал её за волосы и бил с размаху маленьким жестоким кулаком в ухо.Звали его Захар Петрович.
«Чей это парень?» — «А Захара Петрова».
Прадед был бородат. Борода его была словно бы чеченская, чуть курчавая, не вся ещё седая — хотя редкие волосы на голове прадеда были белым-белы, невесомы, пушисты. Если из старой подушки к голове прадеда налипал птичий пух — его было сразу и не различить.
Пух снимал кто-нибудь из нас, безбоязненных детей — ни бабушка, ни дед, ни мой отец головы прадеда не касались никогда. И если даже по-доброму шутили о нём — то лишь в его отсутствие.
Ростом он был невысок, в четырнадцать я уже перерос его, хотя, конечно же, к тому времени Захар Петров ссутулился, сильно хромал и понемногу врастал в землю — ему было то ли восемьдесят восемь, то ли восемьдесят девять: в паспорте был записан один год, родился он в другом, то ли раньше даты в документе, то ли, напротив, позже — со временем и сам запамятовал.
Бабушка рассказывала, что прадед стал добрее, когда ему перевалило за шестьдесят, — но только к детям. Души не чаял во внуках, кормил их, тешил, мыл — по деревенским меркам всё это было диковато. Спали они все по очереди с ним на печке, под его огромным кудрявым пахучим тулупом.
Мы наезжали в родовой дом погостить — и лет, кажется, в шесть мне тоже несколько раз выпадало это счастье: ядрёный, шерстяной, дремучий тулуп — я помню его дух и поныне.
Сам тулуп был как древнее предание — искренне верилось: его носили и не могли износить семь поколений — весь наш род грелся и согревался в этой шерсти; им же укрывали только что, в зиму, рождённых телятей и поросяток, переносимых в избу, чтоб не перемёрзли в сарае; в огромных рукавах вполне могло годами жить тихое домашнее мышиное семейство, и, если долго копошиться в тулупьих залежах и закоулках, можно было найти махорку, которую прадед прадеда не докурил век назад, ленту из венчального наряда бабушки моей бабушки, сахариный обкусок, потерянный моим отцом, который он в своё голодное послевоенное детство разыскивал три дня и не нашёл.
А я нашёл и съел вперемешку с махоркой.
Когда прадед умер, тулуп выбросили — чего бы я тут ни плёл, а был он старьё старьём и пах ужасно.
Девяностолетие Захара Петрова мы праздновали на всякий случай три года подряд.
Прадед сидел, на первый неумный взгляд преисполненный значения, а на самом деле весёлый и чуть лукавый: как я вас обманул — дожил до девяноста и заставил всех собраться.
Выпивал он, как и все наши, наравне с молодыми до самой старости и, когда за полночь — а праздник начинался в полдень — чувствовал, что хватит, медленно поднимался из-за стола и, отмахнувшись от бросившейся помочь бабки, шёл к своей лежанке, ни на кого не глядя.
Пока прадед выходил, все оставшиеся за столом молчали и не шевелились.
«Как генералиссимус идёт…» — сказал, помню, мой крёстный отец и родной дядька, убитый на следующий год в дурацкой драке.
То, что прадед три года сидел в лагере на Соловках, я узнал ещё ребёнком. Для меня это было почти то же самое, как если бы он ходил за зипунами в Персию при Алексее Тишайшем или добирался с бритым Святославом до Тмутаракани.Об этом особенно не распространялись, но, с другой стороны, прадед нет-нет да и вспоминал то про Эйхманиса, то про взводного Крапина, то про поэта Афанасьева.
Долгое время я думал, что Мстислав Бурцев и Кучерава — однополчане прадеда, и только потом догадался, что это всё лагерники.
Когда мне в руки попали соловецкие фотографии, удивительным образом я сразу узнал и Эйхманиса, и Бурцева, и Афанасьева.
Они воспринимались мной почти как близкая, хоть и нехорошая порой, родня.
Думая об этом сейчас, я понимаю, как короток путь до истории — она рядом. Я прикасался к прадеду, прадед воочию видел святых и бесов.
Эйхманиса он всегда называл «Фёдор Иванович», было слышно, что к нему прадед относится с чувством трудного уважения. Я иногда пытаюсь представить, как убили этого красивого и неглупого человека — основателя концлагерей в Советской России.
Лично мне прадед ничего про соловецкую жизнь не рассказывал, хотя за общим столом иной раз, обращаясь исключительно ко взрослым мужчинам, преимущественно к моему отцу, прадед что-то такое вскользь говорил, каждый раз словно заканчивая какую-то историю, о которой шла речь чуть раньше — к примеру, год назад, или десять лет, или сорок.
Помню, мать, немного бахвалясь перед стариками, проверяла, как там дела с французским у моей старшей сестры, а прадед вдруг напомнил отцу — который, похоже, слышал эту историю, — как случайно получил наряд по ягоды, а в лесу неожиданно встретил Фёдора Ивановича и тот заговорил по-французски с одним из заключённых.
Прадед быстро, в двух-трёх фразах, хриплым и обширным своим голосом набрасывал какую-то картинку из прошлого — и она получалась очень внятной и зримой. Причём вид прадеда, его морщины, его борода, пух на его голове, его смешок — напоминавший звук, когда железной ложкой шкрябают по сковороде, — всё это играло не меньшее, а большее значение, чем сама речь.
Ещё были истории про баланы в октябрьской ледяной воде, про огромные и смешные соловецкие веники, про перебитых чаек и собаку по кличке Блэк.
Своего чёрного беспородного щенка я тоже назвал Блэк.
Щенок, играясь, задушил одного летнего цыплака, потом другого и перья раскидал на крыльце, следом третьего… в общем, однажды прадед схватил щенка, вприпрыжку гонявшего по двору последнего курёнка, за хвост и с размаху ударил об угол каменного нашего дома. В первый удар щенок ужасно взвизгнул, а после второго — смолк.
Руки прадеда до девяноста лет обладали если не силой, то цепкостью. Лубяная соловецкая закалка тащила его здоровье через весь век. Лица прадеда я не помню, только разве что бороду и в ней рот наискосок, жующий что-то, — зато руки, едва закрою глаза, сразу вижу: с кривыми иссиня-чёрными пальцами, в курчавом грязном волосе. Прадеда и посадили за то, что он зверски избил уполномоченного. Потом его ещё раз чудом не посадили, когда он собственноручно перебил домашнюю скотину, которую собирались обобществлять.
Когда я смотрю, особенно в нетрезвом виде, на свои руки, то с некоторым страхом обнаруживаю, как с каждым годом из них прорастают скрученные, с седыми латунными ногтями пальцы прадеда.
Штаны прадед называл шкерами, бритву — мойкой, карты — святцами, про меня, когда я ленился и полёживал с книжкой, сказал как-то: «…О, лежит ненаряженный…» — но без злобы, в шутку, даже как бы одобряя.
Так, как он, больше никто не разговаривал ни в семье, ни во всей деревне.
Какие-то истории прадеда дед передавал по-своему, отец мой — в новом пересказе, крёстный — на третий лад. Бабушка же всегда говорила про лагерную жизнь прадеда с жалостливой и бабьей точки зрения, иногда будто бы вступающей в противоречие с мужским взглядом.
Однако ж общая картина понемногу начала складываться.
Про Галю и Артёма рассказал отец, когда мне было лет пятнадцать, — тогда как раз наступила эпоха разоблачений и покаянного юродства. Отец к слову и вкратце набросал этот сюжет, необычайно меня поразивший уже тогда.
Бабушка тоже знала эту историю.
Я всё никак не могу представить, как и когда прадед поведал это всё отцу — он вообще был немногословен; но вот рассказал всё-таки.
Позднее, сводя в одну картину все рассказы и сверяя это с тем, как было на самом деле, согласно обнаруженным в архивах отчётам, докладным запискам и рапортам, я заметил, что у прадеда ряд событий слился воедино и какие-то вещи случились подряд — в то время как они были растянуты на год, а то и на три.
С другой стороны, что есть истина, как не то, что помнится.
Истина — то, что помнится.
Прадед умер, когда я был на Кавказе — свободный, весёлый, камуфлированный.
Следом понемногу ушла в землю почти вся наша огромная семья, только внуки и правнуки остались — одни, без взрослых.
Приходится делать вид, что взрослые теперь мы, хотя я никаких разительных отличий между собой четырнадцатилетним и нынешним так и не обнаружил.
Разве что у меня вырос сын четырнадцати лет.
Так случилось, что, пока все мои старики умирали, я всё время находился где-то далеко — и ни разу не попадал на похороны.
Иногда я думаю, что мои родные живы — иначе куда они все подевались?
Несколько раз мне снилось, как я возвращаюсь в свою деревню и пытаюсь разыскать тулуп прадеда, лажу, сдирая руки, по каким-то кустам, тревожно и бессмысленно брожу вдоль берега реки, у холодной и грязной воды, потом оказываюсь в сарае: старые грабли, старые косы, ржавое железо — всё это случайно валится на меня, мне больно; дальше почему-то я забираюсь на сеновал, копаюсь там, задыхаясь от пыли, и кашляю: «Чорт! Чорт! Чорт!»
Ничего не нахожу.
Павел Крусанов. Царь головы
- Павел Крусанов. Царь головы. М.: АСТ, 2014.
Часть первая. О необычайном
СОБАКА КУСАЕТ ДОЖДЬ
Самурай без меча подобен самураю
с мечом. Только он без меча.Японское наблюдение
Палимый солнцем, скромно
украшенный бледными августовскими цветами
луг незаметно перешёл в кочковатую чавкающую
болотину (здесь говорили «болота»), поросшую дюжей — по грудь, а то и в рост человека — осокой
и каким-то мелколистым, пучками торчащим быльём с тонкими сочными стеблями. Над осокой,
кое-где уже опушённой первыми перелётными
паутинками, изредка поднимались густые шапки
лозы. Берег протоки, змеящейся, выделывавшей
колена, тут и там тёмной зеленью помечали заросли камыша (здесь говорили «троста»), подсказывая направление очередного извива. Позади
осталась получасовая дорога по одичавшему, уже
практически непроезжему просёлку через сырое
низинное чернолесье, заброшенную деревню
Струга и девственные некошеные луга. Теперь
наконец дошли — Селецкая протока была целью,
ради которой пустились в путь.— Пётр Ляксеич, пригнитесь, — тихо сказал
Пал Палыч, сам уже пригнувшийся и державший ружьё наизготовку (здесь якали, вместо
«что» говорили «кого», подрезали глагольные
окончания и чудили с падежными: «по голове дярётся», «кого говоришь?», «Мурка приде и тябе поцарапае», «пошёл к сястры», однако Пал Палыч
после армейской службы учился в техникуме на
ветеринара, поэтому чистоту местного говора во
всей полноте не сберёг).Пал Палыч вытягивал над осокой шею, осторожно ступая по тугим кочкам и пытаясь раз-
глядеть, нет ли на показавшейся за камышом
заводи, отороченной листьями кувшинок, уток.
Утки были. Они заметили не успевшего пригнуться Петра Алексеевича и, забив крылами,
с кряком поднялись в воздух. Сначала две, и тут
же из водяной прибрежной гущины — третья.
Пал Палыч медлил, давая возможность гостю
выстрелить первым, верхняя губа его слегка подрагивала, как у кота, смотрящего через оконное
стекло на воробьёв.От неожиданности Пётр Алексеевич замешкался, не собравшись толком, выстрелил в наброс раз и другой. Мимо. Пал Палыч стрелять не
стал — поздно, даже тройкой крякушу было уже
не достать.— Выцеливаете плохо, — определил он причину неудачи. — Вядёте как надо, с упряждением, а перед выстрелом ствол у вас встаёт. А ня надо так. Утка — ня ваш брат, ждать ня будет. Захоти даже, ей под мушку на месте ня растопыриться.
— Знаю, — вздохнул Пётр Алексеевич. — В теории всё знаю. Практики маловато.
— А ня бяда. Я сперва, как ружьё в руки взял,
палил, точно дитё, — и в ворону, и в сороку,
и в сокола´. Руку набивал. Тяперь и ня думаю,
как целить, глаз сам знает.Промаху Пётр Алексеевич совсем не огорчился — он ходил на охоту не за добычей, а за впечатлениями. К тому же бить уток с подхода и на
взлёте без собаки ему ещё не доводилось. Без собаки — как? Кто из воды подаст, кто отыщет
подранка? Одно дело с лодки, тихо подгребая
вдоль берега и спугивая уток из травы или с потаённых в камышах загубин. Либо осенью, когда
утки уже собрались в стаи, в зорьку на озере,
разбросав по воде чучела (здесь говорили «болваны´»), загнав лодку в камыши и там крякая, караулить птицу на пролёте. С лодки и добычу на
воде подберёшь, а тут как же?.. Об этом он утром
спросил Пал Палыча. «А ничего, — ответил тот. —
Жопу замочим, а достанем».У приметного куста лозы договорились разойтись: Пал Палыч пойдёт вдоль протоки направо, Пётр Алексеевич — налево. Прогуляются каждый в свою сторону на пару километров,
потом к этому кусту вернутся. Подтянув закреплённые на поясном ремне лямки болотников,
Пётр Алексеевич отправился в отведённые ему
угодья. Идти по болоту было трудно — подсекала
шаг кустистая осока, приходилось работать
всем корпусом и, точно цапля, задирать ноги,
стараясь не споткнуться о кочки и вместе с тем
не дать сапогу увязнуть в разверзающейся
между ними чёрной грязи. Ружьё мешало балансировать руками, ножны «ерша», подвешенные за петлю на ремень, бились о ляжку и норовили залезть в голенище болотного сапога.
Впрочем, это было уже не голенище, это было
ляжище. У самого берега осоку местами сменяла какая-то зелёно-бурая мясистая трава, напоминавшая небольшие пучки агавы, и почва
под ногами начинала колебаться — болотная
топь обращалась в трясину, готовую в любой
момент провалиться под сапогом. Эта ходуном
ходящая зыбь либо просто обрывалась в воду,
либо переходила в островки торчащего из протоки гладкого камыша.Будучи не промысловиком, а ловцом впечатлений, выбиравшимся из города на охоту три-
четыре раза в году, Пётр Алексеевич заводить
собаку не спешил — всё смотрел да примеривался. Пал Палыч же, местный Нимврод, на утку
ходил только с гостями (дело знал и шёл за добычей весело, но считал утиную охоту едва ли не
баловством, да и жена его, Нина, не любила возиться с неощипанной птицей), а лаек держал
для другого дела — на зайца, кабана, косулю, лося. Раньше у него были в заводе и норные собаки, но после того, как две из них погибли, когда
он, не расслышав подземный лай, вовремя не
успел отрыть их из барсучьего хода, Пал Палыч
норную охоту оставил. Полагал — до поры.Двух лаек (местных мешанцев), кобеля и суку,
Пал Палыч взял щенками и натаскивал на зверя
сам, третью по кличке Гарун ему привёз из Петербурга знакомый зоологический профессор.
Родители Гаруна были медалистами, но попал
щенок в случайные руки и до двух лет жил на
положении комнатной собачонки в городской
квартире у хозяев, не имевших представления
об охоте и собачьей выучке. Когда они поняли,
что не правы, решили отдать питомца тому, кто
сможет составить его охотничье счастье. Да и не
городская порода — лайка. Зоологический профессор о том узнал, пса забрал и привёз давно
подумывавшему о породистой собаке Пал Палычу — по-приятельски, в дар. И вот уже четыре
месяца Пал Палыч пытался поставить Гаруна на
охоту — по собственному выражению, «разбудить в нём ро´ду».С профессором Пал Палыча познакомил Пётр
Алексеевич, приехав как-то с ним и его сеттером
в эти места погонять серых куропаток, поэтому
теперь он чувствовал себя обязанным о судьбе Гаруна справляться. На селе охотник бестолковую
собаку задарма кормить не будет — выведет в лес
и шлёпнет, дело обычное. Гаруну, чёрному с белой
грудью красавцу, такой судьбы Пётр Алексеевич
не желал, хотя суровость местных нравов не судил. А опасаться было чего — до двух лет пёс
практически не знал, что такое поле и что такое
лес, как ходить по ним с хозяином, как брать
след, зачем дано ему верхнее чутьё и что это за
дело — гнать и облаивать зверя.Зато Гарун кусал дождь. Трусящая с небес морось его не волновала. А вот ливень дразнил не
на шутку — он с клацаньем хватал ускользающую добычу, не понимал, как удалось ей увернуться от его зубов, лаял на белые струи и не
мог успокоиться.Срезая по болоту излучины, то отходя, то приближаясь к берегу петляющей протоки, Пётр
Алексеевич перебирался от плёса к плёсу и из-за
кустов лозы и камыша осторожно высматривал
на открытой, почти неподвижной воде уток.
В ближайшем рукаве с чистой заводью никого
не было. Утирая с лица пот, отправился дальше,
но до следующего плёса дойти не успел, видимо,
услышав Петра Алексеевича издали, четыре утки слетели на таком расстоянии, что стрелять
было бесполезно. Пётр Алексеевич пригнулся
и скрылся в траве, следя за утками — не сядут
ли на воду где-нибудь поблизости. Но нет, описав дугу, утки ушли вдаль, на озеро. В той стороне, куда отправился Пал Палыч, ударил дублет.
Пётр Алексеевич обернулся и снова присел в густую осоку — поднятые выстрелами на его край
летели две утки. Он затаился, припав к ружью, —
утки метрах в пятнадцати над землёй, одна впереди, вторая чуть в стороне и сзади, шли прямо
на него. Внутри расходящимся жаром вспыхнула кровь — ловчий азарт ударил в сердце.Пётр Алексеевич один за другим спустил курки, когда цель была едва ли не над головой.
Дважды громыхнуло. Тугая волна покатилась по
лугу к лесу и отразилась от стены деревьев глухим отзвуком. Сбил только одну — первым выстрелом. Вторая, вильнув, ушла. Утка упала
практически в руки, шагах в четырёх. Быстро
перезарядив ружьё, Пётр Алексеевич подскочил
к замеченному месту — знал, если сразу не углядишь, куда ухнула птица, потом можно искать
в заросшем кочкарнике до вечера. Добивать не
пришлось — дробь попала в шею и голову, о чём
свидетельствовал выбитый кровавый глаз и кровь
на зобу. Это был крупный упитанный селезень,
он ещё не перелинял, зелёное переливчатое перо
на шее едва показалось, но уже лоснилось атласным блеском. Добрый селезень, про такого Пал
Палыч сказал бы: «Он лятит, а с него жир капает». Хотя обычно так он говорил про северных
гусей, на пролёт которых звал гостей в октябре.Приторочив добычу за шею к патронташу петлёй кожаного шнурка, повеселевший Пётр Алексеевич двинулся по болоту дальше. А тут и солнце ушло за облако, перестав наконец безбожно
припекать и взблескивать на воде, слепя высматривающий птицу глаз.Часа через полтора, ругая себя за то, что оставил в машине бутылку с водой, Пётр Алексеевич,
дважды уже провалившись одной ногой в чавкающую жижу по бедро, возвращался к кусту лозы, возле которого они с Пал Палычем разошлись
в разные стороны. Он устал и уже не следил (не
было сил) за тем, чтобы одолевать топь без лишнего шума. На его патронташе по-прежнему висела только одна утка. Трижды ему подворачивался верный случай: два раза он промазал — выбил пару перьев из хвоста и только, — а третий…
Третьим был чирок, в которого он, подкравшись
за камышами к плёсу, всадил заряд, но подранок ушёл в крепь на другом берегу протоки —
без собаки его было никак не взять, даже если
решишь замочить жопу. Пётр Алексеевич не
стал и пробовать.Солнце, то сияя на небе, то скрываясь за облака, прошло уже изрядный путь и перевалило
зенит. Лёгкий ветер, накатывавший тёплыми
волнами, колыхал осоку и ветви лозы. Лес за лугом, из которого пришли охотники, подернулся
прозрачной сизоватой дымкой. Небо выглядело
ярче блёклого луга, прибрежная маслянистая зелень и играющие на глади заводи блики тоже
выигрывали у него в цвете. Слепней на болоте
отчего-то не было; время от времени, когда набегала облачная тень, на разгорячённого Петра
Алексеевича налетал комар, но в целом, благодаря ясному дню, кровососы не свирепствовали.
Вокруг стояла белёсая полуденная тишина с приглушённым, то спадающим, то нарастающим
шорохом ветра в тальнике и паутинным шелестом трав в качестве рабочего фона. Такой эфирный прибой…
Вариации на тему жирафов и слонов
- Макс Фрай. Ветры, ангелы и люди. — М.: АСТ, 2014. — 416 с.
Самому любимому жирафу на свете
Скептически настроенным относительно творчества сэра Макса Фрая читателям не рекомендуется знакомиться с рецензией на опубликованный этой весной сборник малой прозы «Ветры, ангелы и люди». Критики они не увидят. Перейти на сторону интеллектуалов, выступающих против якобы попсовиков-затейников, в наши неспокойные дни мечтает каждый возомнивший себя специалистом. Слоны тоже, кажется, были не прочь.
Знакомство с Фраем началось с добровольно-принудительного прочтения рассказа «Две горсти гороха, одна морского песка» об удивительной дружбе двух детей, которую они, в отличие от многих не сумевших, сохранили на всю жизнь. (Быть может, именно эти двое стали еще и героями новеллы «Ничего не говори».) Лед тронулся, точнее — был растоплен трогательностью и добротой автора и персонажа.
Затем тонким намеком на то, что «умы» ошибаются, фыркая в сторону книг Фрая, последовал «Innuendo». «Во-первых, делать журнал, за который не стыдно, по нашим временам немыслимая роскошь, — говорит уставшая, засыпающая Кэт. — Все равно что к Маргарите на свидания бегать, ни единой души Мефистофелю так и не продав. А во-вторых, там же натурально заповедник гоблинов. В смысле, совершенно прекрасных придурков — таких же как я, только еще хуже. В смысле, круче. Не знаю, как до сих пор я без них жила». Понять и принять, примерив историю на себя, — даже приятно!
Особенность рыжеволосой художницы Светланы Мартынчик, скрывающейся под маской добряка Макса Фрая, заключается в том, что именно ей удивительно идет эта роль. Роль странной доброй феи с двумя хвостиками на голове из пугающей современной сказки, в которой слоны невероятно тонкокожи и ранимы, а искренние жирафы никогда-не-поздно-проницательны.
Истории сборника действительно о ветрах, которые дуют, являются предвестниками перемен и заставляют забыть о том, что человек не летает. О невидимых за плечами ангелах. Многие глупо оборачиваются посмотреть, чтобы удостовериться, что не одиноки, — а там никого. Расстраиваются, бегут, рвут волосы на голове, не понимая, что ангелы всегда рядом, просто — за спиной. И о людях, каждому из которых в рассказах Фрая дается надежда спасение.
Может, человек был прославленным пианистом и повредил руку, или так и не научился кататься на велосипеде, или не сумел принять гибель лучшего друга, а возможно, человек просто когда-то был. Если и доведет автор своего героя до полного душевного истощения (исключительно в образовательных целях!), то сам и вытащит из пропасти, избавит от тоски. Рыжеволосые помощники есть практически в каждой зарисовке: то они напрашиваются в попутчики, то переводят с земного языка на небесный и обратно.
У героев «огненной» прозы пальто — всегда одно на двоих, воспоминания — тоже, говорить — не надо (понятно без слов!), жизнь – вечная — разумеется. Они спотыкаются и падают из раза в раз, но опираясь на дружеское плечо, идут и идут, отражаясь в зеркальном небе государства Лейн.
Читать рассказы лучше пятнично-субботним вечером, с упоением проговаривая про себя каждую фразу и запивая словечки сладким чаем. Философия прозы не глубока, но трогательна; простота — святая. Иногда Фрай заигрывается, поминая то черта, то ангела через запятую. Прощаешь. Как ребенку, не знакомому с утратой и спокойно произносящему слово «смерть». До времени.
По мотивам произведений Макса Фрая можно составить энциклопедию заклинаний на все случаи жизни. Стать звездами на небе и сохранить дружбу навек, оказывается, не так-то сложно: «Две горсти гороха, одна морского песка, щепотка пыли из-под кровати, где спишь, шестеренка из часов…» — всего не раскрою.
А вот чтобы, например, жирафа избавить от бессонницы, например, слон должен шептать в темноте под негромкую музыку (наушники, без сомнения, одни на двоих!) следующие слова: «Озеро впадает в море, море впадает в небо, небо впадает в ночь, ночь впадает в ветер, а ветер дует, где хочет, кто оседлал его, будет владеть всем миром — до самого утра».
— Спишь? — обязательно включить подсветку на плеере и направить в глаза (иначе неясно).
— Еще нет!
— Озеро впадает в море, море впадает в небо… А теперь?И так далее — пока не уснет.
Совсем другие люди
- Евгений Водолазкин. Совсем другое время. — М.: АСТ, 2013. — 477 с.
Сборник «Совсем другое время» Евгения Водолазкина — как альбом со старыми фотографиями: листаешь страницы, что-то пропускаешь, но потом все равно возвращаешься. Первым идет роман «Соловьев и Ларионов», затем повесть «Близкие друзья», а напоследок — рассказы о детстве, прадеде-белогвардейце и ленинградском духе, сформировавшемся в блокаду и плотно осевшем на островах.
Повесть «Близкие друзья», где по-ремарковски сопереживаешь героям, пусть у одного из них и нашита на рукаве свастика, рассказывает о закадычных приятелях детства. В тройственном союзе кто-то, как правило, оказывается в стороне, и годы войны служат не единственной помехой. Но дружба Ханса, Ральфа и Эрнестины свидетельствует о том, что третий не всегда лишний. Спустя 63 года после Сталинградской битвы Ральф возвращается в Россию, чтобы снова проделать путь, который в годы войны сопровождался потерями и обретением. По мере чтения повести отношение к герою меняется: перестают мучить сомнения в том, стоит ли принимать близко к сердцу трагедии противника. Потому что на самом деле повесть — о любви, которая прочнее зданий, разрушенных бомбежками.
Первые страницы романа «Соловьев и Ларионов» перелистываешь с темпом Обломова, не подозревая, что к концу произведение окажется почти историческим акунинским детективом. Обилие ссылок и сносок делает его похожим на скрупулезный труд по подготовке диссертации. На это и был сделан акцент. Иногда сноски указывают на конкретные источники (роман Даниила Гранина «Иду на грозу»), а порой — на плод воображения автора (А.Я. Петров-Похабник «Юродство генерала»). Это превращает текст, написанный мелким шрифтом, в отдельный сюжет.
Подросток Соловьев переезжает с точки на карте под названием «715-й километр» в Петербург. Там молодой историк с подходящей фамилией меняет свой «голубоглазый романтизм» на склонность к точности и достоверным знаниям. В качестве предмета исследования ему подсовывают биографию генерала Ларионова. Отвоевавший свое белогвардеец спустя двадцать лет после воссоединения с павшей армией начинает влиять на судьбу ученого, заставляя его отправиться то в Ялту, то в родное поселение. Генерал, как и Ральф из повести, вопреки историческим событиям, остается жив. И докладчики на конференциях, перебивая другу друга, пытаются объяснить, почему же ему это удалось.
Крым встречает Соловьева припекающим солнцем, кислым вином и авантюрами. Герой академичного текста успевает совершить кражу со взломом, побороть шторм и повернуть линию жизни к соседнему дому из детства, где когда-то жила Лиза Ларионова. Связь фамилий и воспоминаний вдруг переплетает все пути-дороги, и под конец Соловьев занимается поисками уже совсем не для кандидатской работы.
Любовная линия в романе, кажется, намеренно написана в стиле мечтательного аспиранта, который только-только окунулся в омут вседозволенности. Чувства у Соловьева вспыхивают самые разные. Детская любовь к библиотекарше с уверенным «женюсь», стойкая и трогательная — к родной станции «715-й километр». Не обошлось и без курортно-командировочного романа. Однако наиболее ярким образом остается юношеская любовь — Лиза, которую он затем потерял из виду, но не из мыслей. Призрак прошлого, неустанно следуя за Соловьевым, постоянно соперничает с реальными женщинами. Наконец историк и сам понимает, что это единственное, ради чего стоит бороться и искать, найти и не сдаваться.
Белое движение описано Евгением Водолазкиным так, словно автор сам с остатками армии отступал к побережью по застывшему заливу Сиваш. Запорошенные снегом, с потухшим взглядом, солдаты идут вереницей, механически переставляют ноги. На оставленных позициях так же заметает красных, повисших на заграждениях из колючей проволоки. Над всем действием словно парит на лошади генерал, скорбя по тем и другим, по тому, что происходит с его страной.
Рассказ об отплывающих из Ялтинского порта кораблях напоминает фильм «Служили два товарища». «Набережная опустела довольно быстро. Там остались лишь брошенные при эвакуации лошади. С некоторых даже не успели снять седла. Никому не нужные лошади разбредались по окрестным улицам». Кажется, одна из них должна была кинуться вслед за кораблем, где уже тянулся к кобуре герой Высоцкого.
Образ Ларионова собирательный. «У генерала много предшественников. Среди них мой прадед, который был директором гимназии в Питере, а потом пошел добровольцем в Белую армию, хотя был совершенно мирным человеком. Видимо, похабство советского времени он предвидел уже тогда. Когда Белую армию разбили, прадед бежал на Украину, где преподавал математику в школе, а на собраниях выступал как ветеран гражданской войны. Просто он не говорил, с какой стороны», — рассказал Евгений Водолазкин на встрече с читателями. Сыграл роль в образе Ларионова и Александр Суворов. Это частичное воплощение идеи автора написать роман о полководце как о юродивом, в котором сочеталось огромное благочестие и стремление к эпатажным поступкам.
В роман заползли описания жаркого Крыма, знакомых подворотен Петербурга и даже довлатовские диалоги.
«— Письма Достоевского из Германии шли пять дней, — проинформировал собеседника Соловьев.
— Достоевский был гений, — возразил заведующий».
В итоге действие оборачивается маскарадом, грандиозным по масштабу и задумке. Открывшиеся тайны переворачивают события в романе, а было ли это на самом деле, остается загадкой истории. Во всяком случае, сноски мелким шрифтом дают утвердительный ответ.
Евгений Чижов. Перевод с подстрочника
- Евгений Чижов. Перевод с подстрочника. – М.: АСТ, 2013. – 512 с.
Поэзия — это власть.
О. Мандельштам (в разговоре)Тугульды — ульды*
Восточное выражение
* Жил — умер (тюркск.).Часть первая
В купе было душно, с нижней полки доносился стариковский храп, он отчаялся уснуть и безнадёжно ворочался, подолгу глядя в окно, где над уносящимися тёмными пространствами парила полная луна, и в памяти снова и снова возникал подстрочник стихов, которые ему предстояло перевести: «…Истошно крича, надрываясь, сбивая ритм чугунного сердца, скрипя железными сухожилиями, поезд летит по тоннелю, прорытому в глухой ночи, к сияющей в далёком конце раскалённой луне». Олег так и этак поворачивал длинную негнущуюся фразу, пытаясь вместить её в размер, и думал о том, что автору этих строк, кажется, тоже случалось переживать бессонную ночь в вагоне. Он, правда, путешествовал не в тесном купе, как его переводчик (один из десятков, разбросанных по всему миру… Сколько их ломает этой ночью голову над его стихами?), и даже не в кондиционированном СВ. У него, как и Олег Печигин, не переносившего самолётов, был для дальних поездок собственный специально оборудованный поезд.
Днём пейзаж за окном был таким однообразным, что казалось, поезд часами движется на месте. Серо-зелёную плоскость степи, на протяжении многих километров огороженную зачем-то колючей проволокой, изредка нарушали похожие на игрушечные городки мусульманские кладбища, гораздо более яркие, чем настоящие города и посёлки, тусклые от пыли. Смуглые люди на переездах и перронах небольших станций выглядели так, точно простояли всю жизнь под палящим солнцем в ожидании поезда, который остановится у их платформы, но ни один ни разу не остановился, и всё-таки они не уходили, глядя прищуренными глазами на очередной проходящий состав с привычной обречённостью, прикованные к месту остатками неистребимой надежды. Однажды Олег увидел посреди пустой степи одинокого человека, изо всех сил махавшего на ходу руками. Олег наблюдал за ним, пока тот не исчез из вида, но так и не смог понять, зачем он это делал: подавал знаки кому-то невидимому или стремился привлечь к себе внимание пассажиров поезда, чтобы остаться в их памяти?
В купе только старик коштыр с нижней полки неотрывно смотрел в окно, чему-то постоянно улыбаясь, точно пустота пространства, его количество или само по себе движение поезда, отбрасывающее назад эти бесконечные степи, доставляло ему удовольствие. Глядя на него, Олег вспомнил, какой радостью был в детстве первый летний выезд из города на дачу, долгое путешествие на электричке, когда он намертво прилипал к окну (чем дальше они ехали на юг, тем больше всплывало в сознании давно забытое, точно по мере того, как становилось всё теплее, оттаивали глубокие слои памяти), — возможно, в таком же блаженстве пребывал сейчас седой морщинистый коштыр, аккуратно поставивший под стол пару сапог, обутых в калоши. Поддерживать это состояние помогал ему напиток из резко пахнувшего спирта в заткнутой самодельной пробкой бутылке и кефира, смешиваемый в железной кружке. Сделав несколько глотков, он включал погромче заунывную, под стать проплывающим пейзажам, музыку по радио, и начинал тихонько подпевать отдающим в нос голосом, мерно раскачиваясь в такт, как, должно быть, раскачивался между верблюжьих горбов его предок во главе каравана, идущего по Великому шёлковому пути. Заметив любопытство Олега к напитку, старик предложил ему попробовать. Печигин сперва отказался, потом решил рискнуть, подумав, что, войдя во вкус питья, он, может быть, поймёт, чему улыбается глядящий в окно старик, что он там видит такого, что бескрайняя тусклая равнина ему не надоедает. И действительно, Олегу скоро сделалось уютно в тесном купе, радиомузыка вместе со стуком колёс укачивали его, а пыль на грязном окне всё отчётливее обретала в косых солнечных лучах объёмы и формы, полупрозрачные и сияющие. Оставалось ещё немного прищуриться, изменить угол зрения, и он схватил бы их ускользающий рисунок, разгадал их секрет и постиг бы связь между улыбкой старика и уносящейся пустотой степи, но тут в животе у него так взбурлило, что он едва успел добежать до туалета. Этим не кончилось, до вечера его пронесло ещё трижды, и только к ночи, когда он уже был вконец измочален и опустошён, желудок успокоился. После этого он смотрел на старика совсем другими глазами, уверенный, что органы пищеварения, а скорее всего, и прочие внутренности устроены у того абсолютно иначе, поэтому гадать, чему он улыбался, глядя в окно, бесполезно. Может, у него и зрение иное, и в проплывающей мимо степи он видит то, чего Печигину вовек не различить…
Столь же безрезультатным оказалось наблюдение и за двумя другими соседями по купе. (Попутчики были первыми коштырами, которых он мог рассматривать без помех, тем более что заняться ему всё равно было нечем: от бессонной ночи у него болела голова и заставить себя засесть за перевод он не мог.) Женщина лет тридцати пяти бесконечно шила из лоскутов, которых у неё был с собой целый баул, покрывало и была так поглощена своим занятием, точно больше ничего в целом мире для неё не существовало. Она была красива тяжёлой восточной красотой, с тёмными глазами на загорелом лице и заметным следом полустёртой линии, соединявшей над переносицей густые брови, но держалась так, что Олегу казалось невозможным вообразить даже самую отдалённую степень близости с ней. Не то чтобы она совсем не замечала его и второго мужчину в купе, она даже предложила им свою еду («Кушайте! Почему не кушаете?!»), но при этом они, похоже, были ей не интереснее чемоданов и сумок на полках для ручной клади. На свой счёт, по крайней мере, Печигин был уверен. За всю дорогу он ни разу не встретился с ней взглядом, не соприкоснулся в тесноте, не почувствовал ни малейшего с её стороны любопытства. Правда, ближе к концу пути он заподозрил, что, возможно, ошибается, принимая за безразличие очень хорошо скрытое внимание — чтобы так последовательно избегать любого прикосновения, нужно постоянно быть начеку, всё время помнить о тех, кто заперт вместе с тобой в коробке купе. Но даже если это и было так, никаких подтверждений Олегу заметить не удалось. Женщина почти не поднимала глаз от своего шитья, и оставалось предположить, что она держит спутников в поле наблюдения какого-то неизвестного Печигину органа восприятия.
Третьим был мужчина под сорок со скуластым смуглым лицом, словно составленным из одних прямых углов. В движениях его тоже присутствовала заметная прямоугольность, и, когда он поворачивался на своей верхней полке, казалось, только из-за стука колёс не слышно скрипа этих углов, притирающихся друг к другу. Он почти всё время читал книгу на неизвестном Олегу языке и ни разу не сказал ему ни слова, из чего Печигин сделал вывод, что он, скорее всего, вообще не говорит по-русски. С соплеменниками мужчина изредка общался короткими фразами, звучавшими на слух Олега так, точно они были записаны на плёнку, прокрученную в обратную сторону. Старик и женщина что-то ему отвечали, и уже на второй день пути между всеми тремя установилось такое полное понимание, словно они выросли в одном селе. Каждый был занят своим делом, никто никому не мешал и не навязывался, места всем хватало. А непричастный к этому дорожному уюту Печигин спрашивал себя, не едет ли он в края, где иногда возникавшее раньше ощущение, будто всё, что есть у него общего с окружающими, ограничивается поверхностным видовым сходством, станет неоспоримым фактом.
На третий день степи кончились, пошли пески. Их мёртвое жёлтое море медленно закручивалось муторным водоворотом, вращавшимся со скоростью движения поезда. Кое¬где над барханами, как мачты затонувших среди песчаных волн кораблей, торчали геодезические вышки. Вдалеке, мельче мух на скатерти стола, иногда появлялись и исчезали верблюды. Привыкший к городу, Олег с удивлением смотрел на этот оцепеневший под солнцем простор, не предназначенный для человека. С лица подолгу глядевшего в окно старого коштыра незаметно сползла улыбка: пустыня была не шуткой. Он по-прежнему смешивал себе по нескольку раз в день свой жуткий напиток из спирта с кефиром, но спирта, показалось Олегу, наливал теперь больше. Может быть, поэтому между ними завязался наконец разговор.
— Много… — сказал старик как будто с гордостью за пустыню, — много песка!
Олег кивнул. Старик заговорил о водохранилище, вырытом среди пустыни по прямому распоряжению президента (Народного Вожатого — так он его назвал). Оно было недавно закончено и теперь открыто для всех. Сам старик там не был, но видел по телевизору.
— Очень большое! Настоящее море!
По нему даже плавали яхты, включая новую трёхпалубную яхту самого Народного Вожатого — её тоже показали по телевизору. Со временем старик собирался непременно поехать на водохранилище, вода в котором, уверяли, целебная, потому что заполняется из источников, бьющих чуть ли не из самого центра Земли. Оставалось скопить денег на поездку. (Дорогу в Москву и обратно ему оплатил сын, водивший в русской столице маршрутку.) Олег спросил, сколько старик получает. Оказалось, что его пенсия в пересчёте на доллары не дотягивает до тридцати, поэтому он ещё торгует козинаками и семечками возле рынка и в хорошие дни имеет до доллара за день. Об этом приработке старик говорил, хвастаясь: мол, не каждому так удаётся. Нужных документов для торговли у него не было, поэтому милиция его то и дело прогоняла.
— Пустяки всё. Мне денег много не надо. Это молодым рестораны нужны, а я сухофруктами питаюсь — они, знаешь, какие сытные? С утра пожевал и до вечера есть не хочешь. Их пастухи с собой берут, когда на целый день со стадами уходят. И полезные. А от масла и сметаны вред один. Свет, газ, вода и соль у нас, спасибо Народному Вожатому, бесплатные, так что у меня остаётся ещё.
— Я читал, что у вас предприятия закрываются, производство по всей стране стоит и работы нигде нет.
— Работы нет для тех, кто работать не хочет. У нас в районе работы сколько угодно — бери землю в аренду, обрабатывай. Только тяжело это, нынешние молодые к такому не привыкли.
— Они, я слышал, в другие страны на заработки едут: кто в Россию, кто в Казахстан, самые ловкие — в Европу.
— Пусть себе едут, на то они и молодые… На мир поглядеть хотят. Никто ж их не держит.
— А ещё я слышал, что прошлой зимой у вас были такие холода, что десятки людей насмерть замёрзли.
— Да, — старик кивнул, по-прежнему пристально глядя в окно на пески, — Аллах холодную зиму дал, давно такой не было. Но чтобы кто-то замёрз, я не слышал. Сгоревшие были. Разведут на полу костёр греться — и уснут возле него. Дом дотла и сгорит. Было.
— Ещё у нас сообщали, будто ваш президент давно болеет, пошли даже слухи, что он уже умер, но это скрывается.
Старик замотал головой с такой уверенностью, точно президент в принципе не мог умереть, был бессмертен.— Болел, да, но потом Народный Вожатый совершил паломничество по нашим святым местам. Все святые места объехал, и всем поклонился, и после этого выздоровел.
— А стихи его вы читали?
Старик оторвался от созерцания пустыни и впервые остановившимся взглядом поглядел на Печигина.
— Может быть, по радио слышали? Вы вообще знаете, что ваш Народный Вожатый — ещё и поэт, чьи книги выходят огромными тиражами и продаются, мне рассказывали, в каждом киоске?
— Конечно, — торопливо закивал старик, — Народный Вожатый — великий поэт!
— У меня договор на перевод его стихов на русский. Его заключил со мной Тимур Касымов — вы его, возможно, знаете. Может быть, я даже буду с ним встречаться — то есть не с Тимуром, с ним-то само собой, а с вашим президентом. По крайней мере, Тимур обещал, что постарается устроить мне встречу.
Олег говорил, обращаясь к старику, но рассчитывая при этом привлечь внимание занятой шитьём женщины. И она действительно оторвалась от своего рукоделья.
— Касымов — это тот, который по телевизору?
— Да, он работает на телевидении, часто выступает с комментариями. Я-то сам, конечно, не видел, но он мне рассказывал, что почти каждый день в эфире.
— А я его ещё в газете читал, — сказал старик и засомневался: — А может, это брат его был… На рынке в конце дня много газет остаётся валяться, я подбираю и читаю.
— Вполне возможно, что это был Тимур. Он много публикуется.
— Вы с ним знакомы, да?
В голосе женщины слышалось скрытое волнение. «Достаточно знакомства с человеком из телевизора, — разочарованно подумал Олег, — и от её безразличия и недоступности ничего не осталось».
— С детства. Учились вместе.
— И он хотел, чтобы вы переводили стихи Народного Вожатого?
— Ну да, он почему-то уверен, что у меня это должно получиться…
Женщина снова опустила глаза к шитью, её пальцы сделали пару стежков, потом застыли. Мимо плыла пустыня: плоские крыши низких строений в оазисе, старый мотоцикл с коляской возле колодца, с канистрой вместо пассажира, буровая вышка, пересохшее русло реки, мелкий сухой кустарник и опять пески, пески…
— Это, наверное, очень сложно — переводить стихи…
— Проще, чем писать собственные. И гораздо лучше оплачивается. Бывает, правда, попадаются твёрдые орешки, бьёшься над ними, бьёшься — всё попусту. Но зарабатывать ведь как¬то надо, а больше я ничего не умею, одними сухофруктами питаться пока не научился. Стихи вашего Вожатого, например, не из лёгких. Хотите, прочту что¬нибудь?
— Конечно.
Женщина отложила в сторону шитьё, сложила руки и приготовилась слушать, сразу став похожа на усердную школьницу с первой парты. Старик сделал большой глоток из кружки, поросший белым пухом кадык заходил вверх-вниз. Олег порылся в папке с подстрочниками.
— Здесь где-то было как раз про пустыню. Вот, нашёл.
Пустыня, ты — зевок Аллаха.
Ты была создана им в тот день,
когда Всемогущий пресытился разнообразием мира форм,
выражений и лиц — цветов и галактик, рыб и людей,
горных хребтов и червей, облаков и деревьев, когда
у него зарябило в глазах от их
смеха, печали, отчаянья, радости, страха, безумия, и он
взалкал простейшего: первоматерии без
формы, такой, какова она есть, и тогда сотворил
это неисчислимое множество горячего песка,
пересыпаемого ладонями горизонтов
из пустого в порожнее и обратно в пустое.
Небо, глядя тебе в лицо, каменеет, бледнеет.
Солнце стоит неподвижно, извергаясь, как вскрытый нарыв.
Ветер играет с тобой, как ребёнок с дремлющим львом,
дитя в необъятной песочнице, насыпающее барханы и снова
ровняющее их, оставляя следы на тебе, как и брюхо гюрзы или эфы.
Но они исчезают быстрее теней облаков.
Сквозь городской шум, гвалт новостей, голоса друзей,
визги и тявканье врагов, сквозь нестройную музыку жизни,
в дальнем громе, перекатывающемся за горизонтом,
я слышу твой глухой львиный рык, от которого дрожит воздух.
Ты ширишься у меня под сердцем, днём и ночью
чувствую жаркое дыханье твоей ненасытной пасти,
из века в век пожиравшей города с их царями, крепости с их гарнизонами,
караваны, гружённые коврами, драгоценностями, пряностями, шелками,
караваны, гружённые неподъёмной тоской,
вереницы верблюдов, несущих упорство надежды,
с каждым шагом увязая всё глубже во времени.
Каждый шаг тяжелее предыдущего, пот заливает глаза.
Ты — дахр. Всем, всем, всем
твой горячий песок забил оскаленные мёртвые рты.
Все жуют эту пресную пищу смерти, сухой паёк времени.
В твоей лунной безлюдной ночи слышен скрип песка на зубах.
Луна глядит на тебя, как слепой смотрит в зеркало.
Лишь она тебя знает, заливая своим нежным светом.
Ты ширишься, перерастаешь себя, твоя
неподвижность обманчива, твой центр
ненаходим, твоя форма изменчива.
Ночью мы с тобой остаёмся один на один, ты и я под голой луной,
под которой тень человека достоверней его самого.
Слухом сердца слышу оглушительный
гул твоей тишины. Глазами сердца подолгу
гляжу в твоё ночное лицо, лишённое черт. Ты ширишься
как раковая опухоль под сердцем моей страны.
Но тебя нельзя удалить, не вырезав вместе и душу.
Закончив, Печигин посмотрел на слушателей. Лицо женщины было непроницаемо-внимательным, старый коштыр глядел на него без удивления, но выжидательно. Похоже, побывав в Москве, он ничему больше не удивлялся; Олег был для него существом иной природы, от которого можно было ждать всего. Убедившись, что чтение завершилось, он вновь принялся молча смешивать в кружке своё питьё.
— Ну что? Как вам? По-моему, хорошие стихи.
А в оригинале, с рифмами и соблюдением размера, наверняка ещё лучше.
— Конечно, — с готовностью согласился старик, — гораздо лучше!
Он подошёл, когда Печигин стоял у окна в коридоре, где было не так душно. Встал рядом, но спиной к стеклу. На его словно из одних прямых углов составленном тёмном лице блестели в косом вечернем свете крупные капли пота. Минуты три он молчал, а когда Олег уже собрался возвращаться в купе, заговорил на чистом русском, без всякого акцента:
— Всё, что вы читали и слышали о нашей стране, — только часть правды. В действительности всё гораздо хуже. Я думаю, вам полезно это знать. Прошлой зимой, например, в холода вымерли не десятки, а сотни людей. В горах, где нет ни электричества, ни отопления, замерзали целые кишлаки. Старик ничего об этом не знает, потому что по телевизору или в газетах об этом не было ни слова. Все средства информации под железным контролем власти, в них нет ничего, кроме славословий Гулимову и новой эпохе, начатой его правлением. Разрушенное гражданской войной хозяйство не восстановлено, дехкане живут впроголодь, не только молодые, но вообще все, кто может, уезжают из страны. Гулимов открывает тюрьмы и выпускает на свободу тысячи уголовников, народ ликует по поводу амнистии, а он это делает затем, чтобы освободить камеры для противников режима. Видите блеск — вон там, на горизонте, — повернувшись к окну, он показал на мреющее сверкание вдали, между песками и небом. — Это соляные озёра. Точно такие же, только ещё больше, есть по ту сторону границы, на нашей территории. В них с вертолётов сбрасывают расстрелянных. Соль разъедает тела, и от них не остаётся ничего. Ни следа. Особенно много их скинули туда после последнего покушения на президента. Вода в этих озёрах должна была выйти из берегов. Да, я думаю, вам нужно это знать. Я, извините, не представился, меня зовут Алишер. Отец, учитель литературы, назвал в честь поэта. В России обычно говорят Алик или Александр.
Он произносил всё это ровным тоном, спокойно, но лицо его кривилось, точно составлявшие его прямые углы теснили и давили друг друга. Похоже было, что он борется с головной или зубной болью.
— У вас ничего не болит?
— Зубы. Буду благодарен за таблетку анальгина, если найдётся.
Печигин сходил в купе за анальгином.
Стюарт Исакофф. Громкая история фортепиано
- Стюарт Исакофф. Громкая история фортепиано. От Моцарта до современного джаза со всеми остановками. — Москва: АСТ: CORPUS, 2014. — 480 с.
Громкая история фортепиано
От Моцарта до современного джаза со всеми остановками
Глава 1
На пересечении традиций
Даже когда его уже толком не слушалось собственное тело, Оскар Питерсон (1925–2007) все равно считал фортепиано чем-то вроде спасательного круга. Главный спутник жизни, инструмент будоражил его юношеские мечты, гарантировал ему место в учебниках музыкальной истории, помогал в борьбе за расовое равноправие. Теперь, в возрасте 81 года, он, конечно, уже выглядел измученным. На сцену нью-йоркского клуба Birdland Питерсон выкатился в инвалидном кресле, после чего с видимым трудом перенес свою массивную фигуру на фортепианный стульчик — инсульт почти парализовал его ноги и левую руку.
Однако, как только клавиатура рояля оказалась в досягаемости — даже еще не усевшись удобно перед инструментом, — Питерсон взмахнул правой рукой и взял пригоршню нот; по этому сигналу басист, барабанщик и гитарист заиграли первую композицию. И зазвучал тот самый, сразу узнаваемый звук. Питерсон — этот всамделишный музыкальный колосс, опирающийся на великие традиции прошлого, но по-своему их преломляющий, — по-прежнему знал, как его достичь.
На протяжении многих десятилетий исполнительское мастерство и музыкальное чутье Питерсона вызывали у остальных такой же благоговейный трепет, какой сам музыкант испытывал по отношению к своему кумиру, покойному Арту Татуму. Однажды он сравнил Татума со львом: зверем, которого ты боишься до смерти и тем не менее не можешь избежать соблазна подойти поближе, чтобы услышать, как он рычит (сходные чувства Татум вызывал и у легенд академической музыки вроде Сергея Рахманинова и Владимира Горовица, однажды сходивших на его концерт). Из-за этого вернуться после болезни к полноценной концертной деятельности Питерсону было непросто.
Стиль Питерсона всегда характеризовался скоростными, изящными, несколько «приблюзованными» мелодическими линиями, которые разбегались по клавиатуре длинными хитросплетенными фразами, образуя своего рода эпическое повествование.
С другой стороны, не менее важен для него был и резкий, пылкий, отрывистый ритм. Качества, за которые его ценили, — непринужденная гибкость исполнения и четкость часового механизма — не были просто особенностями его манеры, они лежали в основе всей его творческой выразительности. Для их адекватного воплощения требовалась помимо прочего очень хорошая физическая форма.
Тем вечером 2006 года на одном из концертов тура, который окажется для Питерсона последним, порой были заметны проблески величия, не сломленного возрастом и болезнью. Но было понятно, каких усилий ему все это стоит. Впрочем, это не так уж и важно: в конце концов, игра на фортепиано была для него занятием столь же естественным, как дыхание или еда. «Это мое лекарство», — сказал Питерсон после концерта, кивнув в сторону рояля, и легкая улыбка тронула его почти неподвижные губы. Но на самом деле в ярчайшие моменты его выступления гигантский блестящий черный «Безендорфер»1, занимавший едва ли не всю сцену в Birdland, пожалуй, означал нечто еще большее — не только спасательный круг для одного пианиста, но центр вселенной для всех собравшихся.
Подобную роль фортепиано играло последние 300 с лишним лет, заманивая меломанов то в парижские салоны послушать меланхоличные шопеновские импровизации, то в венские концертные залы оценить яростные, разрывающие струны экзерсисы Бетховена. Оно было в центре внимания на гарлемских концертах-квартирниках, где лабухи что есть силы колотили кулаками по клавишам из слоновой кости, стремясь перещеголять друг друга, и оно же дарило утешение одиноким старателям во время калифорнийской золотой лихорадки, когда блудный европейский виртуоз Анри Герц играл свои вариации на тему Oh Susannah. Фортепиано покорило даже сибирских крестьян, не слышавших ни единой классической ноты, пока русский маэстро Святослав Рихтер не приехал с гастролями в этот суровый край. И оно по-прежнему приводит в восторг толпы слушателей в концертных залах, клубах и на стадионах по всему миру.
Но фортепиано не просто инструмент. Как говорил Оливер Уэнделл Холмс, это «чудесный ящик», внутри которого не только струны с молоточками, но и надежды, желания и разочарования. Его звук переменчив, как человеческое настроение: фортепиано в равной степени могло быть атрибутом рафинированного викторианского дома и грязного, убогого новоорлеанского борделя. Оцените разброс чувств — от эйфории до тревоги и даже ужаса, — которые пианист испытывает в процессе освоения инструмента. Вот как описывала это нобелевский лауреат Эльфрида Елинек в своем романе «Пианистка»: «Она собирается со всеми силами, напрягает крылья и бросается вперед, прямо на клавиши, которые стремительно несутся ей навстречу, как земля летит навстречу терпящему катастрофу самолету. Те ноты, которые она не в состоянии взять с первого захода, она просто пропускает. Эта утонченная месте ее ничего не смыслящим в музыке мучительницам вызывает в ней слегка щекочущее удовлетворение»2.
О жестокости фортепиано. Петр Андершевский
Когда я играю с оркестром, я часто думаю, что никогда больше не буду участвовать в подобном концерте. Слишком много творческих компромиссов! Нет уж, отныне — только сольные выступления. Когда я сталкиваюсь с одиночеством сольных концертов, с героизмом, которого требует этот жанр, и с жестокостью, которую он подразумевает, я думаю, что никогда больше не буду участвовать в подобном. Нет уж, отныне — только записи.
Когда я записываюсь, а потом переслушиваю собственные записи и чувствую, что мог сыграть лучше и что все здесь было против меня — фортепиано, микрофон, даже собственное ощущение свободы, — я думаю: никогда больше не буду записываться. Это самое жестокое. Честно говоря, величайший соблазн — бросить все, лечь навзничь и слушать биение собственного сердца, пока оно наконец не затихнет…
И тем не менее иногда мне совсем не хочется играть, но, взяв последний аккорд, я осознаю: что-то только что родилось. Что-то, находящееся за пределами моего понимания. Как будто это зал вместе со мной что-то создал. Такова жизнь. Отдавая нечто, ты всегда получаешь что-то взамен.
Из фильма Брюно Монсенжона
«Петр Андершевский: беспокойный странник».Как бы то ни было, фортепиано обладает почти мистической силой притяжения, вырабатывая у ценителей его звучания пожизненную зависимость. Это колдовство поистине необъяснимо. Даже технические работники, обслуживающие инструмент, порой кажутся приверженцами какого-то таинственного культа. «Из настройщиков получаются прекрасные мужья, — утверждает персонаж романа Дэниела Мейсона „Настройщик“. — Настройщик умеет слушать, и его прикосновения нежнее, чем у пианиста: только настройщик знает, что у пианино внутри»3.
А внутри у пианино чудо инженерной мысли: конструкция из дерева и чугуна, молоточков и стержней общим весом почти в 1000 фунтов (каждая струна при этом может выдержать вес в 22 тонны — эквивалент пары десятков автомобилей среднего размера), и эта конструкция по велению музыканта шепчет и поет, кричит и бормочет. Звуки фортепиано покрывают весь оркестровый диапазон от самого нижнего до самого верхнего регистра. Оно удивительным образом подходит произведениям любого стиля и любой эпохи — барочным фугам, романтическим фантазиям, импрессионистским скетчам, церковным гимнам, латино-американским монтунос4, джазовым ритмам и рок-н-ролльным риффам. Всю эту музыку фортепиано присваивает себе.
Чудо фортепиано. Менахем Пресслер
Университет Индианы, в котором я преподаю, недавно попросил меня подобрать ему новое фортепиано, и я нашел экземпляр, показавшийся мне во всех отношениях прекрасным. Вообще я много раз занимался чем-то подобным, и всегда некоторые коллеги оставались недовольны: говорили, например, «звук недостаточно яркий», или «для камерной музыки это не подходит», или «не годится для сольного выступления». Это как когда ты находишь себе спутницу жизни, а кто-то говорит: «Ну нет, я бы ни за что на ней не женился». Но в этот раз мне, кажется, повезло найти настоящую Мэрилин Монро среди фортепиано — этот инструмент всем пришелся по душе.
На следующий день я играл на нем шубертовскую сонату ре-бемоль, и фортепиано буквально пело, как будто у него была живая душа. Это было поздно вечером, я устал, но все равно не мог не испытывать невероятное счастье от того, что имею возможность играть на таком инструменте. Вот ведь как бывает — ты испытываешь воодушевление, вдохновение, даже ликование, и все благодаря предмету заводского производства! Жизнь — это не только то, что мы видим.
В Birdland Оскар Питерсон еще раз продемонстрировал, какой несокрушимой силой обладает этот инструмент. К концу выступления публика стоя хлопала и свистела. Аудитория сознавала, что это был совершенно особенный момент — высшая точка карьеры блестящего артиста и, возможно, вообще последняя возможность живьем оценить неповторимый питерсоновский стиль, в котором сошлись воедино самые разнообразные фортепианные традиции. В его творчестве хватило места для всего на свете.
Свою ослепительную исполнительскую технику Питерсон почерпнул из европейской классической традиции, которую впитал в детстве, в родной Канаде, на занятиях сначала со своей сестрой Дейзи, затем с местным пианистом Луи Хупером и, наконец, с венгерским учителем Полом де Марки. К обучению Питерсон относился очень серьезно — он сам рассказывал, что занимался иногда по 18 часов, «пока мама силой не стаскивала меня со стула». Де Марки, который учился в Будапеште у Иштвана Томана, а тот в свою очередь был учеником великого Ференца Листа, фортепианного титана эпохи и одного из основателей всей современной техники игры, был для Питерсона правильным выбором.
Феноменальная листовская легкость, беглость игры, патентованные скоростные пассажи, целые потоки двойных нот, а также быстрое чередование рук на клавиатуре (прием, по его собственным словам, позаимствованный у И. С. Баха), — все это производило такое впечатление, что Генрих Гейне в 1844-м назвал композитора «Аттилой, Божьим бичом». В самом деле, утверждал поэт, остается только пожалеть фортепиано, «которые трепетали при одной вести о его прибытии, а в настоящую минуту снова дрожат, истекают кровью и визжат под его пальцами, так что за них можно было бы вступиться Обществу покровительства животных»5. Исполнительские трюки Листа предвосхитили фортепианные подвиги Арта Татума, услышав которого впервые Питерсон был столь ошарашен, что в тот же миг едва не принял решение навсегда распрощаться с игрой на инструменте. «Я до сих пор, когда слышу его записи, думаю точно так же», — признался он тем вечером в Birdland.
Де Марки воспитывал Питерсона именно в этой традиции — с подачи учителя пианист освоил многие композиции, которые впоследствии станут хитами его репертуара. Например, коварные, сложнейшие шопеновские этюды или «масштабные, богатые, мягкие аккорды» Дебюсси. «Оскар — наш Лист, а Билл Эванс — наш Шопен», — говорил композитор Лало Шифрин, ссылаясь на стереотипное представление о том, что Лист завоевал фортепиано, а Шопен соблазнил его.
На самом деле это соответствовало действительности лишь отчасти. Мечтательную, импрессионистскую музыку Эванса можно сравнить с приглушенной звуковой поэзией Шопена, игра которого, по свидетельствам очевидцев, обычно была не громче человеческого шепота или в крайнем случае тихого бормотания. Однако затейливые мелодии Питерсона тоже во многом наследовали Шопену и его мелодическому гению. Как писал критик Джеймс Ханекер, шопеновские «асимметрично восходящие и нисходящие каскады нот неизменно приводят новичков в ужас». Пол де Марки заставлял пианиста сосредоточиться на самой важной особенности музыки Шопена. «Я не слышу, как поет мелодия, — говорил он своему ученику, — она слишком отрывистая. Сделай, чтобы она пела». Таким образом, произведения прославленных академических композиторов, каждый из которых, кстати, был и замечательным импровизатором, для Питерсона были своего рода тренировочной площадкой.
Глубокая погруженность музыканта в классическую традицию сделала его объектом насмешек джазовой богемы. Критик Леонард Фезер под псевдонимом «профессор С. Розентвиг Макзигель» опубликовал сатирическую статью о технически блестящем пианисте Питере Оскарсоне, который озадачил других музыкантов тем, что сыграл на концерте «весьма запутанную интерлюдию, а потом набор кадрилей и франко-канадских народных песен». Однако занятия с де Марки, несомненно, подготовили почву для тех творческих успехов, которых Питерсону вскоре суждено было добиться.Впрочем, несмотря на академический бэкграунд, де Марки также приветствовал знакомство пианиста с джазовой традицией. «Мистер де Марки был замечательным пианистом и учителем, — вспоминал Питерсон. — Больше всего мне в нем нравилась незашоренность. Он прекрасно играл классику, но иногда я приходил к нему на урок — а он сидит и слушает джазовые пластинки» — например, Тедди Уилсона, Нэта Кинга Коула и Дюка Эллингтона. «Их игра стала фундаментом для моей собственной», — говорил он.
Питерсон прославился в одночасье, когда продюсер Норман Гранц, оказавшийся в 1949 году в Канаде, услышал его по радио и вскоре выбил музыканту ангажемент на концерт «Джаз в филармонии» в «Карнеги-холле». Выступление было заявлено как сюрприз, и, как докладывал Майк Левин в журнале DownBeat, на сцену Питерсон вышел лишь после того, как все «замерли в ожидании». В итоге, согласно Левину, «он распугал многих местных любимцев, играя боповые темы левой рукой… Причем, если звездам бопа, даже когда они придумывают интересную идею, приходится попотеть, чтобы ее воплотить, Питерсон делает это мгновенно и с сокрушительной мощью». Вспоминая о том времени, пианист признавался, что заранее решил для себя: единственным способом привлечь внимание будет «своей игрой напугать всех до смерти». Так он и поступил, и это упрочило их связь с Гранцем. Вместе они поехали в турне по континенту, собирая по ходу все больше и больше публики, даже несмотря на вездесущие расовые предрассудки.
Американский дебют подправил Питерсону репутацию. Раньше — с тех самых пор, как он в 14 лет выиграл любительский конкурс буги-вуги, — его считали не более чем мастером соответствующей ритмичной, «леворукой» техники и называли «смуглым буги-вуги-террористом», переиначивая похожее прозвище боксера Джо Луиса. «Это была идея фирмы RCA Victor, а вовсе не моя, — с раздражением рассказывал пианист. — Они настояли на том, что я должен играть буги-вуги. А что касается клички, которой они меня наградили, об этом я вообще предпочитаю не вспоминать!»
1 Известная фирма по производству роялей.
2 Пер. А. Белобратова.
3 Пер. М. Кульневой.
4 Разновидность латиноамериканской музыки, подробнее см. главу 9.
5 Цит. по: Петрушин В. И. Музыкальная психология.
Анна Старобинец. Икарова железа
- Анна Старобинец. Икарова железа. Книга метаморфоз. – М.: АСТ, 2013. – 256 с.
Икарова железа
Началось с мелочей. Задерживался, иногда допоздна, — и как ни наберешь его, абонент недоступен, хотя, вроде бы, не ездил в метро. А дома, по вечерам — не каждый день, но все же бывало, — уходил с телефоном в дальнюю комнату или в ванную и плотно закрывал дверь, «чтоб Заяц не мешал говорить по работе». А Заяц давно уже вырос и не мешал говорить. Он вообще не мешал. Сидел в своей комнате, за компьютером, в мохнатых наушниках; ему было тринадцать… Когда-то Заяц все время перебивал, и не давал звонить по телефону и смотреть телевизор, и вламывался в семь утра в спальню — он был веселым и приставучим, и постоянно хотел, чтобы они пришли в его комнату и посмотрели на что-нибудь абсолютно обычное, но почему-то его вдруг восхитившее. «Смотрите, как я поставил своего космонавта», «смотрите, как мои тигры прячутся за углом», «смотрите, как я рисую желтое солнце», «смотрите», «смотрите»… Когда они были заняты и не хотели смотреть, или просто в педагогических целях его игнорировали, Заяц нервничал и начинал прыгать на одном месте. За это его и прозвали Зайцем. Теперь ему было не важно, смотрят они на него или нет, он больше не прыгал и не звал в свою комнату, но прозвище так и осталось, как напоминание обо всем, чего они не увидели и уже не увидят…
— Не впутывай Зайца, — сказала как-то она, когда он вышел из ванной с телефоном в руке. —
При чем тут Заяц. Понятно, что ты закрылся там от меня.
Она ждала в ответ отрицания, раздражения, кислой мины, чего нибудь насчет паранойи; она и сказала-то не всерьез, а так, для разминки, скорее в том духе, что он невнимателен к сыну, и к ней невнимателен, и вообще толстокожий — но он вдруг начал краснеть, как ребенок, — сначала уши, потом щеки и лоб. И только потом уже — отрицание, раздражение, мина. Она испугалась.
Когда он уснул, она вошла в социо и набрала в поисковой строке: «Мне кажется, что муж изменяет».
У других было так же. Те же «симптомы», те же страхи и подозрения. А у некоторых и куда хуже: «нашла в мобильнике мужа SMS от любовницы», «нашла в его почте фотографию голой девушки», «нашла в кармане презервативы». Стало легче. Как-то спокойнее. Она не одна, и вместе они справятся с общей бедой.
К тому же ее беда пока еще не доказана.
…Прочитала совет психолога. «Если вам кажется, что муж изменяет, не бойтесь обсудить с ним эту проблему. Говорить нужно спокойно, без истерики, криков и ультиматумов, даже если подтвердятся ваши самые плохие догадки. Истерикой вы только отпугнете вашего Мужчину и толкнете его в объятия любовницы. Будьте мудрой. Не злитесь на него, посочувствуйте. Неверность — своего рода болезнь, но, к счастью, она излечима».
Совет ей не понравился, он был не по существу. Вопрос ведь не в том, как вести себя, когда «подтвердятся догадки». Вопрос в том, как вытянуть из него правду. Она вбила другой запрос: «Как узнать, изменяет ли муж?»
Сразу же вылез социо-тест: «Изменяет ли муж». Всего десять вопросов. Розовым, нарядным шрифтом. На все, кроме пятого, седьмого и десятого, она ответила быстро:
1. Сколько тебе лет?
а) меньше 30 б) от 30 до 40 в) больше 40
2. Сколько ему лет?
а) меньше 35 б) от 35 до 45 в) больше 45
3. Он прооперирован?
а) да б) нет
4. Вы занимаетесь сексом
б) чаще 1 р./нед. б) от 1 р./нед. до 1 р./2 нед. в) реже 1 р./2 нед.
5. Он оказывает тебе знаки внимания?
а) да б) нет
6. У вас есть общие дети?
а) да б) нет
7. Он занимается детьми? (пропустите вопрос, если детей нет)
а) да б) нет
8. Он часто задерживается на работе?
а) да б) нет
9. Он проводит выходные с семьей?
а) всегда б) не всегда
10. Ты привлекательная женщина?
а) да б) нет
Пятый, седьмой и десятый вызывали сомнения. Оказывает ли он знаки внимания — это как понимать? В смысле: дарит ли цветы? — ну, разве на день рождения; подает ли пальто — да, конечно, он ведь интеллигентный; какие то приятные сюрпризы, духи, украшения, билеты в кино? — чего нет, того нет… Зато по выходным он всегда приносит кофе в постель. С бутербродиком — он готовит вкусные горячие бутербродики… Это приятно. Так что «знаки внимания» — да. Но вот дальше…
Занимается ли он с детьми? Некорректный вопрос: Зайцем поди займись. Он самостоятельный, самодостаточный такой Заяц. У него есть компьютер, социо игры, длиннющая френд лента, он сам себя занимает. Если бы вопрос звучал «любит ли», «заботится ли» — тогда да. Однозначно да. Он очень любит ребенка. Состоял даже в школьном родительском комитете, но потом его исключили… Потому что когда всех мальчиков из класса организованно отправляли на плановую операцию и нужно было подписать разрешение — простая формальность, — он отказался поставить подпись, и Заяц в клинику не пошел. Одна мамаша, самая активная в комитете, сказала тогда, что они безответственные эгоисты. Подвергают ребенка риску из-за каких-то своих заскоков — или, может быть, им просто денег жалко на такое важное дело. Но ведь деньги тут ни при чем! Она-то знала: он не отпустил Зайца в клинику, потому что боялся. Минимальная вероятность — сколько-то десятых процента, — что что-то пойдет не так. Все эти истории о подростках, которые потом всегда спят. Он не хотел. Он сказал: «Мне не нужен плюшевый Заяц». Она не спорила. В конце концов, у Зайца спокойный характер, он в основном сидит дома, все друзья у него круглосуточно в социо. Не так уж они и рискуют… Словом, да, пожалуй: он занимается сыном…
Последний вопрос не понравился ей совсем. Привлекательная ли она женщина — это с чьей же, блин, точки зрения? Разозлившись, ткнула мышкой розовенькое «да». Но при этом думала про морщину — ту, которая вертикальная, на переносице. Очень заметная. Но если ботоксом ее накачать, может стать еще хуже, как будто лицо дубовое.
И еще седые волосы на висках. Каждый месяц красит отросшие корни японской краской, но он-то знает. Рассказала сдуру сама. Не сказала бы — не заметил.
Результат теста расстроил: «Не исключено, что муж действительно вам изменяет. Возможно, у него кризис среднего возраста. Тем не менее, у вас хорошие шансы одержать верх над соперницей и сохранить брак. Добровольная операция, скорее всего, решит все проблемы».Она в третий раз перечитывала свой результат, когда услышала звук. Тихий всхлип его мобильного телефона. Пришла эсэмэска. В два ночи. Что-то больно колыхнулось внутри — будто кто-то резко дернул за ниточку, и привязанный к ниточке ледяной шар подскочил из живота в горло — и снова обратно.
Мобильный она вытащила у него из под подушки еще час назад. На всякий случай. Посмотрела «входящие» и «отправленные». Не нашла ничего подозрительного. Но теперь там что-то пришло.
Это «Билайн», сказала она себе. Просто «Билайн». О том, что нету кредита….
Не «Билайн». Одно новое сообщение от абонента «Морковь».
Морковь?.. Что за бред… Заяц любит морковь…
Это, что ли, учитель Зайца?…
Она ткнула одеревеневшими пальцами в горячие кнопки. Открыть сообщение.
«Спишь?» И все. Всего одно слово. С вопросительным знаком.
Она ответила: «Нет».
Доставлено.
«А она?»
Ледяной шар бешено запрыгал внутри и застрял в горле. Все было ясно. Все ясно. Но зачем-то она снова ответила. «Спит». Чтобы доказать, — вертелось у нее в голове. Чтобы наверняка доказать, чтобы точно, чтобы доказать точно…
«Позвони, — сообщила Морковь, — а то я скучаю».
«Сука», — написала она.
Без истерики?
Без обвинений?
…Не получилось. Зашла в спальню, включила свет, швырнула прямо в лицо телефон. Проснулся всклокоченный, припухший, нелепый, как во французской комедии. Заслонялся от света и от нее. Зачем-то прикрывал одеялом живот.
—Почему Морковь?! — визжала она. — Почему, почему Морковь?!
Отчего-то казалось, что это самый важный вопрос. Так и было.
—Потому что… как бы… любовь. Ну, любовь-морковь, понимаешь…
—Понимаю. Ты ее трахаешь. Ты трахаешь овощ.
Ледяной шар, распиравший горло, соскользнул вниз, и она, наконец, заплакала. Он тем временем натянул трусы и штаны. Отвернувшись. Как будто стеснялся. Как будто она у него там что-то не видела.
Она сказала: катись! Он послушно стал одеваться.
Догнала уже в коридоре, вцепилась в куртку, остался.
Без истерики, — повторяла она себе, — без истерики, криков и ультиматумов. Сели на кухне, даже налила ему чай, как будто все было в порядке, разговаривали, она держала себя в руках, спокойно спрашивала: как давно? как часто? насколько серьезно? и что, правда любишь?.. а меня? Меня-то? меня?
Он ответил:
—Тебя тоже люблю. По-своему.
«По-своему». Она слишком хорошо его знала.
Мягкий характер. Он просто не умел говорить людям «нет».
—По-своему? — хрипло переспросила она.
И вдруг швырнула — хорошая реакция, увернулся, — синюю Зайцеву чашку. Прямо с чаем, или что там в ней было. Осколки разлетелись по кухне, бурая жижа заляпала стену многозначительными пятнами Роршаха.
…Чужие, убогие, из телевизора, пошлые, готовые фразы поползли к языку, как муравьи из потревоженного сгнившего пня. Всю жизнь поломал… Столько лет отдала… Верни мою молодость…
—Тише… ребенок, — затравленно сказал он.
На пороге кухни стоял заспанный Заяц. Босиком. В одной майке.
Еще одна порция муравьев высыпана наружу.
Она не хотела, но они лезли сами:
—О ребенке раньше бы подумал, кобель!.. Когда нашел себе эту!..
—Пап, ты что… — басовито произнес Заяц, а потом закончил по детски пискляво: — Нас бросаешь?
«Голос ломается», — подумала она отстраненно, а вслух сказала:
—Ну что же ты. Ответь сыну, папа.
—Не смей, — белыми губами прошептал он, —…его впутывать.
Вскочил, пошел в коридор, снова стал натягивать куртку; молча, трясущимися руками, долго, гораздо дольше, чем нужно, застегивал молнию.
Она кричала:
—Если уйдешь, обратно не возвращайся!
И еще что-то кричала.
А Заяц сказал:
—Зачем он нам нужен, если он с нами не хочет.
Потом она ушла плакать в спальню, а он о чем-то беседовал с Зайцем, стоя в дверях. Потом он ушел. К своей. К этой. Куда еще он мог пойти в пять утра?
Но вещи никакие не взял, только телефон и бумажник.
Она отправила ему SMS: «Придется выбрать — она или мы». Ответа не было. Тогда она написала еще: «С ребенком видеться не будешь вообще».
Пришел ответ: «Гуля, это шантаж». Глотая сопли, она набрала: «А как с тобой еще, сволочь?»
Алексей Иванов. Ёбург
- Алексей Иванов. Ёбург. – М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2014.
Пролог
ИМЕНА
Он уже почти не помнил, что его назвали Екатеринбург.
Город был самим собой два столетия, а в
1924 году советская власть взяла и переименовала его в
Свердловск. Яков Свердлов, большевик и боевик, жил
в Екатеринбурге в 1905–1906 годах: приехал по приказу партии, проводил митинги, устраивал стачки, создавал боевые дружины, а заодно женился на дочери
купца-миллионера. Жандармы вычислили смутьяна, и
он бежал — перед пикетом на городской заставе ловко
изобразил рожающую бабу. Екатеринбургские товарищи уважали Свердлова за жёсткую бандитскую хватку
и за талант организатора, однако в лихой жизни знаменитого большевика Екатеринбург был просто парой
эпизодов — не самых долгих и не самых важных. Воли
и энергии Якову Свердлову хватало на всё, а совесть
его не угнетала: в 1918 году он утвердил решение Уралсовета расстрелять в Екатеринбурге царя вместе с семьёй. Сам же Свердлов умер в 1919 году в возрасте 33
лет: то ли его свалил грипп-испанка, то ли до полусмерти избили рабочие. Через пять лет Екатеринбург
стал Свердловском.Прошло больше полувека. Все феномены, благодаря которым нация знала о городе, оказались уже
свердловскими. Родовое венценосное имя города исчезало из сознания нации. А имя города — это его статус, его программа, его судьба. Обо всём таком робко
напоминали местные достопримечательности, но кто же слышит их голос, кроме улетевших по теме краеведов? От былого славного Екатеринбурга остался последний общезначимый артефакт — дом инженера
Ипатьева.Этот особнячок на склоне Вознесенской горки знала вся страна, хотя его не описывали путеводители.
В этом доме последние свои месяцы провела царская
семья — отрёкшийся император Николай II, императрица Александра, цесаревич Алексей и княжны Ольга,
Татьяна, Мария и Анастасия. В ночь с 16 на 17 июля
1918 года в подвале дома Ипатьева большевики расстреляли и добили штыками «граждан Романовых», их
слуг, врача и даже комнатных собачек.Честный заводской парень Свердловск не захотел
быть причастным к такому злодеянию. Чур меня! Убийство произошло в Екатеринбурге! Посреди советского
трудового Свердловска стоял неприкасаемый дом Ипатьева — проклятый остров старого города, последний
носитель имени Екатеринбург. Лишь гибель царской
семьи, страшная жертва, удерживала имя города, следовательно, неразрывность истории и целостность души,
потому расстрел Романовых так значим и ныне, хотя
уничтожение невинных людей — неправильная «точка
сборки» для бренда.Дом Ипатьева как заноза напоминал стране о казни
Романовых и о городе Екатеринбурге. А приближалась
годовщина расстрела — 60 лет. Ходил слух, что ЮНЕСКО думает включить дом Ипатьева в список объектов
всемирного наследия. И в 1975 году Председатель КГБ
СССР Юрий Андропов обратился в Политбюро с ходатайством о сносе дома. Политбюро приняло секретное постановление. Через два года, в сентябре 1977 года, поневоле взяв на себя всю ответственность за это
решение, первый секретарь Свердловского обкома
КПСС Борис Ельцин распорядился начать снос. К зданию подъехал автокран с «шар-бабой» и за пару дней
превратил особняк инженера Ипатьева в груду битого
кирпича. Грузовики увезли мусор, а осенние дожди
прибили пыль. Всё. Нет дома — нет проблемы.Советское общество давно смирилось с мыслью,
что расстрел царской семьи был необходимостью военного времени. Однако снос дома Ипатьева выглядел
так, будто власть заметает следы преступления. Акция
властей получила обратный эффект: отсутствие дома
оказалось хуже присутствия. Снос ипатьевского дома
интеллигенция города не стерпела и смутно зароптала:
«Всё у нас неправильно!»В результате в 1981 году Свердловск взбудоражила
книга писателя Бориса Рябинина «Город, где мы живём» — беседы о городе с художником Львом Эппле,
экологом Владимиром Большаковым, архитектором
Геннадием Белянкиным. Рябинин честно и прямо писал
о разрушении городской среды — культурной и природной. В ответ огрызался, но исправлял ошибки секретарь обкома Ельцин. Хотя это был только первый круг
от брошенного камня. Уже через пять лет голос города
обрёл полную громкость: заговорил Свердловский рок-
клуб. Заговорил о самом главном, о невыносимом, о том,
что важно для всех, а не только для города Свердловска.
И дальше пошло-поехало. Тектонические сдвиги истории сопровождались рёвом митинговых мегафонов и
грохотом бандитских автоматов.Конечно, не снос ипатьевского дома был тому причиной. Но ведь надо с чего-то начинать. Обретение
себя Екатеринбург начал с упрямого недовольства за
особняк инженера Ипатьева. И в 1991 году городу вернули родовое имя.Но официального переименования было мало, и
вот такого никто не ожидал. Город разрывало удивительными событиями, грандиозными переменами, жуткими откровениями эпохи. Судьбу подстёгивали пассионарии. Для их города название Екатеринбург были
слишком «дисциплинированным». Язык искал адаптированные варианты. По аналогии с Питером был предложен стильный Катер — но нет, не прижилось. И тогда явился Ёбург. Название вызывающее, наглое, хлёсткое, почти непристойное. За него можно было и по
морде получить. Но так выбрал язык, а он знает технологии семантики и чует магнитное притяжение коннотаций.Даже на слух энергичное и краткое название Ёбург
как-то соответствует сути того Екатеринбурга — города
лихого и безбашенного, стихийно-мощного, склонного
к резким поворотам и крутым решениям, беззаконного
города, которым на одной только воле рулят жёсткие и
храбрые, как финикийцы, лидеры-харизматики. Хулиганское имя Ёбург — символ прекрасного и свободного
времени обновления.Всё проходит, и Ёбург в прошлом. Бурного Ёбурга
уже нет, есть богатый и престижный мегаполис Екатеринбург. Город сумел вернуться к себе. «Ёбург» был
только промежуточной стадией превращения «закрытого» советского Свердловска в евроазиатский буржуазный Екатеринбург эпохи глобализма и хайтека.Его будут называть Екат, но Екат — не Ёбург. А эта
книга — про Ёбург. Про Великую Метаморфозу. Про
героев, которые здесь делали будущее. Однако — по
большому счёту — книга рассказывает не об отношениях людей друг с другом и не об отношениях людей с
законом: книга — про отношения людей с городом.Ёбург. Ёбург. Ёбург.
Макс Фрай. Ветры, ангелы и люди
- Макс Фрай. Ветры, ангелы и люди. — М.: АСТ. — 416 с.
Ветры, ангелы и люди
Из лоскутков, из тряпочек
Шел, потому что если упасть лицом в снег, ничего не изменится, только станет мокро и холодно, еще холодней, чем так.
Не останавливался, потому что понимал: если вот прямо сейчас я настолько раздавлен и безутешен, каково мне придется, когда вместо того чтобы внимательно смотреть под ноги, загляну в свою темноту, где воет и мечется жалкое перепуганное существо, которому недолго осталось, которое скоро уйдет насовсем, заберет меня вместе с собой, потому что оно — это я.
Не оглядывался по сторонам, потому что невыносимо видеть разрумянившихся от мороза, предвкушающих скорое Рождество, веселых, здоровых, а значит, почти бессмертных туристов и жителей города Хельсинки, куда приехал, сказав Машке: «просто открыть визу», — а на самом деле, конечно, чтобы отвлечься, не думать, не кидаться на стены в ожидании приговора. И действительно вполне прекрасно провел здесь целых два дня. И еще примерно треть третьего, пока приговор не был оглашен из телефонной трубки, как и договаривались, после обеда, во вторник двадцатого декабря.
Никогда прежде не молился, в храмы заходил изредка, из любопытства, как экскурсант, поэтому полагал, что сейчас не стоит и начинать: если Бога нет, все равно не поможет, а если все-таки есть, не хотелось бы напоследок выглядеть в его глазах трусливой, истеричной и, к тому же, недальновидной свиньей, которая поднимает визг только на пороге бойни — где ты, дура, раньше была? Язык бы не повернулся взмолиться об исцелении, да и глупо просить того, в кого не веришь, о невозможном. И только для себя одного.
Все это не то чтобы всерьез обдумывал, но как-то без дополнительных размышлений понимал, даже когда услышал собственный шепот из той темноты, куда не был пока готов заглянуть целиком: «Кто-нибудь всемогущий, если Ты где-нибудь есть, сделай со мной хоть что-нибудь вот прямо сейчас».
В другой ситуации порадовался бы блестящей формулировке — идеально честная молитва агностика, не придерешься. Но сейчас было не до того. Усилием воли заставил себя заткнуться. Пошел дальше, зачем-то свернул, перешел дорогу, чуть не угодив под трамвай, или только показалось, будто опасность была близка, а на самом деле чертов зеленый трамвай спокойно стоял на своей остановке, хрен разберешь, когда двигаешься как во сне сквозь синие городские сумерки, праздничные огни и густой мокрый снег, тающий на щеках и стекающий за воротник вместо слез, которыми горю, будем честны, не поможешь.
Потом снова куда-то свернул. И тут же сложился практически пополам, потому что ветер теперь задул прямо в лицо и оказался не просто холодным, а ледяным. Поутру в прогнозе погоды жителям Хельсинки обещали южный ветер во второй половине дня, и как же жаль, что веселого человека, способного посмеяться над подобным несоответствием названия и сути, больше нет, остался только термос, в который его налили при рождении, раньше времени вышедший из строя дурацкий сосуд, ржавый, дырявый, больше не способный держать тепло, уже почти пустой, содержимое льется на тротуар — вот прямо сейчас.
Ладно, с другой стороны, чем хуже, тем лучше. Этот невыносимый ветер в лицо — дополнительная возможность еще какое-то время не думать о смерти, как киношная сигарета перед казнью, милосердная отсрочка на целых пять минут, или сколько я смогу так идти. И на том спасибо, могло бы не быть даже ледяного южного ветра, мало ли что обещали синоптики, они у нас нынче почти как Бог, никто в них не верит, и я тоже.
И я.
Почти ослеп от горя, ветра и мокрого снега, но шел не останавливаясь, даже шагу прибавил, насколько это было возможно, снова перешел дорогу, ведомый зеленой звездой светофора, и как-то внезапно чуть не угодил в котел. То есть натурально налетел бы на раскаленный котел, булькающий и дымящийся, если бы его не подхватили чьи-то милосердные руки в количестве примерно полудюжины штук, и тогда, конечно, пришлось все-таки остановиться и оглядеться по сторонам. Ничего не поделаешь.
В первую секунду почти всерьез подумал, что попал в ад. И как-то даже, надо сказать, обрадовался. Потому что — ну все-таки жизнь после смерти. Не полное небытие. И самое главное, я уже тут. Без больниц, без мучений, без всей этой тошнотворной агонии — раз, и в аду! Невероятная удача. Наверное, меня все-таки сбил тот зеленый трамвай? Ни черта не помню; впрочем, оно и к лучшему.А потом проморгался и понял, что пришел не в ад, а просто на ярмарку. И даже узнал место — это же Эспланада! Ярмарка тут вообще круглый год, не только на Рождество, просто сейчас стало гораздо больше — товаров, людей, фонарей, костров и котлов с едой, всего.
Потом осознал, что его уже довольно давно о чем-то расспрашивают — те самые добрые люди, которые не дали рухнуть в адский котел. Сперва говорили по-фински, но быстро перешли на английский. Заставил себя вслушаться. Ничего особенного: «Что с вами случилось?» — и прочие вежливо-встревоженные реплики в таком роде. Надо бы ответить: «Спасибо, все в порядке», — и быстро, быстро бежать отсюда, куда угодно, лишь бы не оставаться здесь. Рождественская ярмарка не самое подходящее место для человека, готового рыдать от разочарования, узнав, что она — не ад.
Но из задуманной речи получилось только: «Спасибо», — да и то так тихо, что сам себя не услышал. А потом мешком осел на утоптанный снег — необморок, просто ослаб, настолько, что даже в пылающей голове не осталось мыслей, кроме одной, зато очень здравой: «Какой тебе ад, дурак. Сначала надо отдать Кашу Лёвке. Машка ее совсем не любит, терпит из-за меня, и это взаимно. Нельзя их вдвоем оставлять. А Лёвка в Каше души…» Додумывать фразу до конца: «…не чает», — не стал. И так понятно. К тому же, под нос ему сунули дымящуюся керамическую кружку, такую горячую, что обжегся первым же глотком. Но напиток оказался настолько вкусным и словно бы изначально, чуть ли не с младенчества желанным, что не смог оторваться, пил, закусывая снегом, кажется, прямо с земли. Или все-таки с ближайшего прилавка? Сам не понял, откуда его зачерпнул.
Кажется, это называется «глёги». В Швеции «глёг», а тут вроде бы так.
Пока вспоминал название напитка и бормотал «спасибо, спасибо» на всех мыслимых языках, кроме почему-то повсеместно употребляемого английского, его подхватили под мышки и куда-то поволокли. Как оказалось, просто помогли убраться с дороги. Усадили на какой-то мешок, прислонили спиной к столбу. Кто-то произнес слово «врач», и это вернуло если не силы, то разум. Оскалился, пытаясь изобразить подобие благодарной улыбки. И английский сразу вспомнил как миленький. По крайней мере «окей» и даже «ай эм файн». И потом уже щебетал не умолкая, словно бы многократно повторенное «окей» было общеизвестным и действенным заговором, предотвращающим появление «скорой помощи».
Ну во всяком случае, на этот раз заговор помог, доброжелательные спасители удовлетворенно закивали и разошлись прежде, чем успел спросить, кому заплатить за глёги. Или хотя бы вернуть опустошенную кружку — кому?В поисках ответа на этот вопрос огляделся по сторонам. Прилавка с напитками поблизости не обнаружил. Зато увидел Ее.
Именно так, «Ее» с большой буквы. Потому что это, безусловно, была женщина его мечты. Вернее, мечты того любителя необычайных зрелищ, которым он был до телефонного звонка из клиники.
Во-первых, она была великаншей. То есть даже сейчас, сидя за прилавком на ящике, для тепла укутанном одеялами, казалась чуть выше среднего человеческого роста, и заранее страшно подумать, что будет, если встанет на ноги. Навес головой точно снесет.
Во-вторых, предполагаемый возраст ее лежал в диапазоне от, скажем, пятидесяти до примерно трехсот. Впечатление резко менялось от ракурса и освещения. Вот повернулась, придвинувшись к фонарю, подвешенному над головой, и перед нами совсем еще не старая блондинка, румяная от мороза и ветра, скуластая и сероглазая, каких здесь много. Вот наклонила голову к пылающим на прилавке свечам, и сразу ясно, что волосы у нее не белокурые, а седые, и морщины кажутся слишком глубокими для обычного срока человеческой жизни, и глаза уже не просто светлые, а выцветшие от времени, прозрачные, как вода, приглядись получше и увидишь, что лежит на их дне. Если, конечно, там вообще хоть что-то еще лежит.
В-третьих, и гигантский рост, и переменчивое лицо женщины меркли в сравнении с ее нарядом. Уж насколько щедра на сюрпризы местная уличная мода, а ничего подобного до сих пор не видел. И дело вовсе не в меховых сапогах, украшенных разноцветными лентами, пуговицами и брошками. И не в широченной юбке, явно сшитой из кусков старых пледов и одеял. И даже не в ярко-зеленой шубке из искусственного меха, надетой поверх розового пуховика. Штука в том, что кроме всей этой красоты был еще один слой, что-то вроде мантии с капюшоном, или плащ-палатки, в общем, просторный балахон, целиком сшитый — составленный, сложенный, сконструированный, даже непонятно, каким словом назвать процесс его изготовления — из тряпичных игрушек, кукол, птиц и зверьков. Это наглядное пособие для желающих осторожно, соблюдая технику безопасности, заглянуть в глаза хаосу было небрежно накинуто на плечи великанши и укрывало от холода не только ее, но и довольно большой участок земли вокруг.
Примерно такие же тряпичные игрушки грудами лежали на прилавке, защищенные от непогоды не только навесом, но и прозрачной пленкой. В руках женщины тоже была игрушка, рыбка, сшитая из пестрых лоскутов. Вернее, рыбка была в одной руке, а в другой иголка с ниткой. Мастерица пришивала игрушке оранжевый пуговичный глаз. Но отвлеклась от работы, чтобы внимательно рассмотреть нового соседа.
Поглядела, озабоченно нахмурилась. Заговорила по-фински. Увидев, что он ничего не понимает, удрученно покачала головой и принялась оглядываться по сторонам, вероятно, в поисках переводчика. Но подходящей кандидатуры не нашла. Попробовала справиться сама. Несколько раз повторила по-английски: «нот окей», делая упор на «нот». Вдруг провела ребром ладони по горлу и уставилась на него с такой яростью, словно и правда собиралась зарезать — вот прямо сейчас, посреди ликующей ярмарки, в присутствии сотен свидетелей.
Подумал, она сердится, что расселся под ее навесом, велит уходить. Сам бы, честно говоря, рад, да вот ноги все еще как ватные, и поди ей это без языка растолкуй. Но великанша вдруг ласково заулыбалась, погладила по голове и снова заговорила по-фински. Слезла с ящика, опустилась рядом на корточки. Похлопала ладонью по земле, потом стукнула по ней кулаком, и этот жест оказался неожиданно понятным: «сиди тут, как прибитый». Сбросила на землю свою невозможную сложносочиненную мантию, вылезла из-под навеса и тут же растворилась в синей, огненной, снежной ярмарочной мгле. Действительно, огромная, явно выше двух метров. И комплекции соответствующей, как говорится, «крепкого сложения». Подумал: «Господи, натурально же троллиха, по идее в этих краях они как раз должны водиться». А потом закрыл глаза и не думал ни о чем.
Даже не надеялся на такую передышку.
Великанша вернулась довольно быстро. И не одна. Привела с собой румяную от мороза синеглазую толстуху в радужном войлочном кафтане, больше похожем на короб, малиновой плиссированной юбке поверх серых вельветовых штанов и вызывающе разных валенках — желтом и голубом. Из-под вязаной шапочки в форме мышиной головы с ушками выбивались морковно-рыжие кудри. Хельсинская уличная мода, благослови ее, Боже. Тут сойдешь с ума и не заметишь.
Отличный, кстати, вариант. Даже лучше ада.
— Меня зовут Анна, — сказала рыжая на чистом русском языке. — Туули попросила меня перевести.
Сказал зачем-то:
— Боже, как же вы правильно говорите! Вообще без акцента.
— Это неудивительно, — усмехнулась Анна. — Я из Петрозаводска. А как вас зовут? Это не я любопытствую, это первый вопрос Туули. Ей, если честно, лучше отвечать, когда спрашивает. Она… Она у нас такая.
Сказал:
— Юрий.
И поразился тому, какой фальшивой нотой прозвучало его вроде бы настоящее, не выдуманное, в паспорте записанное имя. Как будто соврал.
Великанша, присевшая рядом на корточки и внимательно вглядывавшаяся в его лицо, помотала головой и что-то сказала по-фински. Рыжая перевала:
— Туули спрашивает, как вас называют дома? И как называли в детстве? Должны быть еще какие-то имена.
Зачем-то послушался, стал перечислять:
— Юрка, Юрочка, Юрчик, Мурчик. Длинный — так в школе дразнили, теперь трудно поверить, но когда-то был выше всех в классе, а потом остановился и остался среднего… да, это уже не важно. А, еще Жесть — тоже школьное прозвище, производная от фамилии. А бабушка, папина мама, почему-то называла Жорка, хотя…
— Сорка! — твердо сказала великанша Туули. И повторила: — Сорка.
Смешно как выговаривает. Как маленькая. Однако именно в ее исполнении детское имя, которым его уже много лет никто не звал, почему-то село как влитое. Было бы ботинком, купил бы, не раздумывая.
— Сорка! — Туули дернула его за рукав, привлекая внимание. И затараторила по-фински.
Рыжая Анна слушала ее, приоткрыв рот — не то от удивления, не то просто от усердия, стараясь запомнить. Наконец перевела.
— Туули говорит, что за тобой — учтите, это она с вами так внезапно на ты перешла, а не я — охотится смерть. Я понимаю, что для вас это звучит довольно странно, но Туули — она такая…
Перебил:
— Не надо объяснять. Она угадала. Все правда.
Охотится. Смерть. То есть, даже не охотится, а уже поймала. Прижала лапой, как кошка птичку. Думает теперь, как дальше будем играть.
Удивился тому, как легко выговорилось слово «смерть». Легче, чем собственные прозвища и имена. Теперь бы еще умереть так же легко, как выговорилось. Но на это шансы, прямо скажем, невелики.