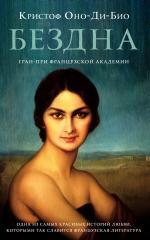Энтони Дорр. Собиратель ракушек. — СПб.: Азбука, 2015.
Обладатель Пулитцеровской премии за 2014 год, автор романа «Весь невидимый нам свет» Энтони Дорр внимательно вглядывается в то, как меняются люди, как разрушаются отношения, как скорбь приходит в их дома, как время медленно, но верно зарубцовывает раны на сердце. В рассказах Дорра ученый, изучающий моллюсков и коллекционирующий их раковины, сам живет на побережье, как улитка в своей ракушке, но цивилизация вторгается даже в его тихое существование. Беженец из Ливана находит спасение от терзающих его кошмаров и воспоминаний о военных ужасах в тишине и спокойствии сада, который он возделывает в Огайо. Фантазия писателя переносит нас с берегов Африки в сосновые леса Монтаны, в сырость болот и замшелые пустоши Лапландии.
РЕДКАЯ УДАЧА
Доротея Сан-Хуан, четырнадцати лет, носит старый коричневый свитер. Дочь уборщика. На ногах дешевенькие кроссовки, ходит понуро, косметикой не пользуется. На большой перемене
разве что поклюет салат. Кнопками прикрепляет
к стенам своей комнаты географические карты.
Когда волнуется, задерживает дыхание. Жизнь
дочери уборщика научила: не высовывайся, смотри в пол, будь никем. Кто это там? Да никто.
Папа Доротеи любит повторять: удача — большая редкость. То же самое говорит он и сейчас,
присев после заката на краешек дочкиной кровати у них в Янгстауне, штат Огайо. А потом добавляет: перед нами в кои-то веки замаячила настоящая удача. А сам сжимает и разжимает пальцы. Ловит воздух. Доротея настораживается от
этого «перед нами».
Кораблестроение, продолжает он. Редкая удача. Мы переезжаем. К морю. В штат Мэн. Город
называется Харпсуэлл. Как учебный год закончится, так и двинемся.
Кораблестроение? — переспрашивает Доротея.
Мама прямо рвется, продолжает он. По ней
видно. Да и кто бы возражал?
Доротея смотрит, как затворяется дверь, и думает, что мама никогда и никуда не рвется. И что отец никогда в жизни не покупал, не брал напрокат и не упоминал никакие, даже игрушечные,
кораблики.
Она хватает атлас мира. Изучает безликий синий массив — Атлантику. Обводит взглядом изрезанные береговые линии. Харпсуэлл: крошечный зеленый клинышек, вдающийся в синеву.
Она пытается вообразить океан и видит нежно-голубую воду, где кишат — жабры к жабрам — рыбы. Воображает, будто она сама нынче — Доротея из штата Мэн: босоногая девочка с кокосовым ожерельем на шее. Новое жилье, новый город,
новая жизнь. Nueva Dorotea. Новая Дороти. Задерживая дыхание, она считает до двадцати.
Доротея ни с кем не делится этими планами,
да никто ее и не спрашивает. Переезжают они в
последний день учебного года. Ближе к вечеру.
Словно тайком. Пикап с дощатым кузовом расплескивает лужи на асфальте: Огайо, Пенсильвания, Нью-Йорк, Массачусетс — и дальше в Нью-
Гэмпшир. Отец, сжимая побелевшими пальцами
руль, смотрит на дорогу пустым взглядом. Мать
сидит с суровым видом перед снующими «дворниками» и не смыкает век, губы изогнуты дождевыми червяками, хрупкая фигура напряжена,
будто стянута десятками стальных полос. Костлявые кулачки, можно подумать, дробят морскую
гальку. Взялась резать на коленях сладкий перец. Передает на заднее сиденье сухие тортильи,
втиснутые в пластик.
На рассвете, миновав долгие мили сосен,
склонившихся над шоссе, они видят Портленд.
Сквозь толщу облаков цвета лососины улыбается солнце.
Доротея трепещет от одной мысли о приближении океана. Ерзает на сиденье. Вся загнанная
в клетку четырнадцатилетняя энергия растет, как
горка выигранных камешков. В конце концов
шоссе делает отворот — и впереди вспыхивает залив Каско. Солнце прокладывает по воде
искристую дорожку прямо к Доротее. В полной
уверенности, что сейчас увидит дельфинов, та
прижимается носом к оконному стеклу. Вглядывается в сверкание воды: не мелькнет ли где
плавник или хвост.
Она бросает взгляд на материнский затылок —
хочет понять, замечает ли мама то же, что и она,
испытывает ли те же чувства, волнуется ли при
виде мерцающих океанских просторов. Ее мама,
которая четверо суток пряталась под кучей лука
в грузовом составе, идущем в Огайо. Которая познакомилась с будущим мужем в построенном
на болотах городке, примечательном разве что
трещинами на тротуарах, паровозными гудками
да зимней слякотью, и создала дом, чтобы никогда его не покидать. Которая, наверное, вся кипит при виде бескрайних вод. Но никаких признаков этого Доротея не обнаруживает.
Харпсуэлл. Доротея замирает у входа в арендованный родителями дом. На пороге рая. За тихим шелестом сосен и зарослей ежевики туманной завесой тянется океан.
Отец стоит в центре тесной кухоньки, где полки украшены нитками ракушек, а на подоконниках пылятся старые бутылки; поправляет очки,
сжимает и разжимает пальцы. Как будто он ожидал найти здесь справочники кораблестроителя,
надраенную латунь, иллюминаторы. Как будто
ни сном ни духом не ведал, что увидит кухню,
да еще украшенную ракушками. Мать, как вертикально поставленный болтик, замерла в гостиной. Разглядывает выгруженные из кузова коробки, чемоданы и сумки. Волосы ее собраны
в большой узел.
Вытянув руки, Доротея привстает на цыпочки. Снимает коричневый свитер. Где-то за соснами неумолчно кричат чайки; скользит тень
скопы.
Мама говорит: Ponte el sueter, Dorotea. No estás en puesta al sol1.
Как будто здесь солнце греет иначе. По песчаной тропе Доротея идет сквозь жухлую траву
к морю. Тропа упирается в выщербленную, ржавого цвета каменную плиту, что в незапамятные
времена вылезла из-под земли. Она тянется в обе
стороны и уходит в дымку. Океан, склонившиеся
от ветра сосны да утренний туман — больше ничего тут нет. У кромки воды Доротея наблюдает,
как на гладкий каменный склон шлепаются невысокие волны, толкая перед собой тут же отступающую ленточку пены. Туда — сюда. Туда —
сюда.
Обернувшись, она видит сквозь сосны все тот
же белый домишко. Большеголовые одуванчики, песчаный дворик, облупившаяся краска. Домишко горбится и мокнет на своем фундаменте. Отец что-то говорит с порога, указывая то на
мать, то на пикап, то на съемное жилище. Доротея видит, как он раскрывает и сжимает ладони.
Спорит. Она видит, как мать забирается в пикап,
на пассажирское место, резко захлопывает дверцу и смотрит вперед. Отец уходит в дом.
Доротея поворачивает обратно, загораживает
глаза от солнца и видит, что туман рассеивается. Слева легко скользит зеленый поток — устье
реки. Справа вдоль воды выстроились деревья.
Ярдах примерно в пятистах на берегу возвышается скалистый утес.
Туда она и сворачивает; подошвы гнутся на
крутом склоне. Ей то и дело приходится заходить
в море; у коленок тут же возникают водовороты,
от холодной соли щиплет бедра. Кроссовки скользят по илу. Откуда-то спускается клок тумана,
и утес исчезает из виду. Каменная плита делается совсем крутой; чтобы миновать этот участок,
приходится идти вброд. Вода достает выше пояса, будоражит живот. В конце концов каменная
плита плавно поднимается вверх, ноги больше
не скользят, и Доротея карабкается обратно, руки в грязи, кожу саднит от соли, ноги сами несут
ее, насквозь промокшую, на каменный уступ. Скала вдалеке все еще полускрыта туманом.
Заслоняя глаза от солнца, она еще раз вглядывается в океан. Водятся ли тут дельфины? Акулы? А где же яхты? Ни следа. Нигде. Выходит,
океан — это гранит, камыши и вода? Ил? Кто бы
мог подумать, что здесь только пустота, мерцающий свет и мутный горизонт?
Откуда-то из дымки набегают волны. На миг
ей даже становится страшно: а вдруг на всей планете не осталось, кроме нее самой, ни одной живой души? Надо поворачивать к дому.
И тут она замечает рыбака. Вот он, слева.
В воде стоит. Откуда только взялся? Ниоткуда.
Из моря, что ли?
Она приглядывается. Какая удача: хотя бы
есть на чем глаз остановить. Мир откатился назад
и оставил одно это видение. Беззвучное, мимолетное колдовство. Удочка — будто продолжение руки, идеальная дополнительная конечность,
плечо развернуто, шоколадный торс обнажен,
ступни по щиколотку скрыты морем. Вот, значит, каков он, штат Мэн, думает она, вот таким
он может оказаться. Как этот рыбак. Этот мираж.
Он выгибается и делает широкий заброс через
голову, описывая леской большие круги вначале
далеко сзади, потом далеко впереди. Когда леска
вытягивается параллельно поверхности моря, он
дергает на себя вершинку удилища, и тут леска
выстреливает в противоположном направлении,
над камнями, почти до самых деревьев, как будто вознамерившись обмотаться вокруг низкой
ветви, но рыбак, не давая ей такой возможности,
вновь посылает ее вперед, в море. И тут же придает ей обратное направление. С каждым разом
выброшенная леска улетает все дальше, отчаянно тянется к деревьям. В конце концов, улетев
назад до прибрежных зарослей, она распрямляется в линию над барашками морских волн. Тогда он, зажав комель под мышкой, обеими руками подтягивает леску. Забрасывает вновь, леска
описывает завораживающие дуги, похожие на
волны прибоя, и в конце концов выстреливает
в море, где опускается за небольшим пятнышком зыби. И он опять подтягивает ее к себе.
Доротея стоит на камне, ступнями ощущая
спрессованные слои окаменелостей. Задерживает дыхание. Считает до двадцати. А потом спрыгивает с каменного уступа в воду и скользит
кроссовками по ракушечнику и склизким водорослям. С поднятой головой она проходит сотню
ярдов. Направляясь к рыбаку.
Оказывается, это парнишка лет, наверное,
шестнадцати. Кожа — как велюр. На шее ожерелье из мелких белых ракушек. Смотрит сквозь
кирпичного цвета пряди. Глаза — зеленые омуты.
Зачем, спрашивает, в такую погоду свитер?
Что?
Жарко сегодня в свитере.
Он снова забрасывает удочку. Доротея следит
за леской, наблюдает, как он укладывает на шпулю аккуратные петли, плавающие у его лодыжек. Смотрит, как леска улетает назад — вперед,
назад — вперед и в конце концов ныряет в море.
Полная вода ушла, говорит он. Скоро вернется.
Доротея кивает, не зная, как истолковать эти
сведения.
И спрашивает: что это у тебя за удочка? Никогда таких не видела.
Удочка? Удочка — это для ловли на приманку. А у меня — удилище. Удилище для нахлыста.
Ты не ловишь на приманку?
На приманку, повторяет он. Нет… Никогда.
Слишком уж просто.
Что просто?
Рыбак выбирает леску, снова забрасывает. Да
вот именно это. Забросил — поймал. Естественно, окушок или луфарь клюнет на шмат кальмара. А скумбрия — на мотыля. И что это будет?
Игра без правил. А хочется красоты.
Доротея задумывается. Надо же: рыбная ловля — и красота. Но если посмотреть, как он забрасывает! Так, что с сосен срываются клочки
тумана.
Кто не брезгует на живца ловить, забросит колюшку, поводит туда-сюда. Вытянет окушка. Да
только это не рыбалка. А сплошное безобразие.
Ага. Доротея силится понять, насколько это
презренное занятие — ловля на живца.
Он сматывает леску, защелкивает стопор. Показывает Доротее мушку. Белые волоски, аккуратно привязанные ниткой к стальному крючку.
Вместе с крошечной раскрашенной деревянной
головкой. У которой два круглых глаза.
Это что, блесна?
Стример. Искусственная муха, бактейл. Вот
эти крашеные белые волоски — из бычьего
хвоста.
Доротея осторожно держит в ладони мушку.
Нитяные перетяжки сделаны идеально. Ты сам
это раскрасил? Каждый глазок?
Конечно. И перетянул сам. Он лезет в карман
и достает бумажный пакетик. Высыпает содержимое ей на ладонь. Доротея разглядывает остальные стримеры: желтые, синие, коричневые. Воображает, как они смотрятся в воде, какими видятся рыбам. Длинные, тонкие. Как мальки. На
один укус. Идеальные. Чудо. Мягкая красота,
нанизанная на острую сталь.
Он в очередной раз забрасывает, шлепая
вдоль берега.
Доротея идет следом. Вода достает ей до щиколоток и поднимается выше.
Погоди. А мушки-то? — напоминает она.
Стримеры.
Забирай, говорит он, себе. Я еще сделаю.
Она отказывается. А сама не сводит глаз
с этих мушек.
Он забрасывает леску. Не сомневайся, говорит. Дарю.
Качая головой, она все же опускает подарок
в карман. Волны лижут ей коленки. Она вглядывается в воду, высматривая приметы морской жизни. Не мелькнет ли где плавник? Не
выпрыгнет ли на поверхность какое-нибудь удивительное создание? Но в отступающем тумане
на волнах лишь поблескивают золотые монетки
солнца. Подняв глаза, Доротея убеждается, что
парнишка-рыбак почти скрылся за мысом. Она
шлепает следом. Смотрит, как он забрасывает.
Волны охают и падают замертво.
Эй, окликает она, тут, наверное, рыбы полно,
да? А иначе зачем в этом месте удить?
Парнишка улыбается. Будь уверена. Океан
как-никак.
Мне почему-то казалось, что здесь больше
живности будет. В океане. Особенно рыбы. В наших краях ничего такого нету, вот я и подумала,
что здесь, наверное, кое-что будет, а теперь вижу, что океан хоть и огромный, но пустой.
Парень поворачивается к ней. Смеется. Отпускает леску, наклоняется и погружает руку в воду. Запускает пальцы в ил и достает пригоршню какого-то месива.
Вот, говорит, присмотрись.
Сначала в этом темном сгустке Доротея не различает ровным счетом ничего. Ну, падают комочки грязи. Осколки ракушек. Стекают водяные
капли. Но потом глаза начинают различать еле
заметное движение, мельтешение прозрачных
точек. Они скачут, как блохи. Парнишка потряхивает ладонью. Из грязи появляется крошечный моллюск: ножка зажата между створками
раковины, как прикушенный язычок. А вот и
улитка — повисла вверх тормашками, указывая
на землю своим крошечным рожком-домиком.
И еще мелкий бесцветный рачок. И какой-то
вертлявый червячишко.
Доротея трогает эту грязь пальцем. Парень
с хохотом ополаскивает руку в море. Забрасывает леску.
Не иначе, говорит, как ты здесь впервые.
Да, верно. Она вглядывается в морскую даль.
И пытается представить, сколько живности кишит у нее под ногами. Думает, что ей еще учиться и учиться. Смотрит на парня. Спрашивает,
как его зовут.
После наступления темноты Доротея стоит,
озираясь, в своей тесной каморке. Прикрепляет к стене карту. Садится на спальный мешок и
обводит глазами контуры штата Мэн. Сушу с ее
границами, столицами и названиями. А глаза сами собой возвращаются к синей бесконечности,
что уходит за рамку карты.
За оконным стеклом бьется мотылек. В листве шуршат и пищат насекомые. Доротея убеждает себя, будто слышит море. Достает из кармана
стримеры, чтобы полюбоваться.
В дверном проеме появляется отец, он тихонько стучится, окликает дочку и садится рядом
с ней на пол. Похоже, мучается без сна. Сутулится.
Приветик, папа.
О чем задумалась?
Здесь все какое-то чужое, пап. Нужно время.
Чтобы привыкнуть.
Она со мной не разговаривает.
Да она, считай, ни с кем не разговаривает.
Тебе ли не знать.
Отец сникает. Указывает подбородком на
стримеры в дочкиной руке. Это что у тебя?
Мушки. Для рыбалки. Стримеры.
Ну-ну. А сам даже не пытается скрыть, что
мыслями блуждает где-то далеко.
Я хочу порыбачить, пап. Можно прямо завтра?
Отец сжимает и разжимает пальцы. Глаза
открыты, но слепы. Конечно, Доротея. Ступай.
Порыбачь. Claro que si2.
За ним затворяется дверь. Доротея задерживает дыхание. Считает до двадцати. Слышит за
стенкой протяжные папины вздохи. Словно каждый такой вздох — робкая подготовка к следующему.
Натянув коричневый свитер, она распахивает раму и вылезает в окно. Медлит в сыром дворике. Втягивает воздух. Над соснами кружится
колесо галактики.
1 Надень свитер, Доротея. В тени ведь стоишь (исп.).
2 Очевидно, что если