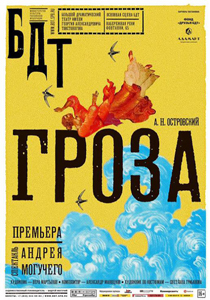В этой книге, состоящей из множества небольших историй-глав, писатель и художник Александр Бренер рассказывает о своих знакомствах, встречах, привязанностях, впечатлениях и поступках в художественном мире. В ней один за другим проходят тени, образы, фигуры, жесты многих настоящих и ненастоящих художников, с которыми автора сводила судьба в течение его жизни в Алма-Ате, Ленинграде, Иерусалиме и Тель-Авиве, затем в Москве, потом в США и Западной Европе.
У КУШНЕРА И ПОСЛЕ
В бытность мою ленинградским прохожим я писал стихи.
Единственным поэтом, которому я хотел показать эти опыты и получить совет, был Александр Семенович Кушнер.
Я нашел в справочнике его телефон, позвонил.
Он выслушал меня и велел отобрать и послать ему по почте десяток стихотворений.
Я выбрал и послал. По телефону мы договорились о встрече — у Кушнера на квартире.
Ненастным дождливым утром я пришел к поэту в гости.
Он жил возле Таврического сада в желтоватом сумеречном доме.
Я позвонил.
После некоторой задержки дверь открылась. Небольшой плотный человек с круглым лицом, в очках на широком носу, стоял передо мной в домашних туфлях. Мне показалось, что на нем лежит загар, хотя была ранняя питерская весна, мокрая.
Он был сама сдержанность, собранность.
Кажется, он даже не улыбнулся.
Он был похож на портреты Вяземского — одного из своих любимых поэтов. Я изучил потом стихи Вяземского — по наводке Кушнера. Спасибо, Александр Семенович, вам за это! И за все остальное!
Он провел меня в свой рабочий кабинет.
Это был аскетический пенал, келья. Припоминаю кушетку, письменный стол в образцовом порядке, над столом — цветную репродукцию работы Кандинского.
Я по его приглашению сел. Он достал мои машинописные листки, полистал.
В комнате было тихо, а за окнами — дождь, деревья.
На столе стоял в рамке фотопортрет очень красивой женщины.
Кушнер говорил спокойно, неторопливо. Он объяснил, что по моим стихам трудно сказать, буду ли я поэтом.
У меня упало сердце — он был прав.
Я это и сам смутно знал, но он подтвердил мое ощущение. Вернее — утвердил.
Стихи свидетельствовали с восхитительной, математической точностью: мой дух еще не прорезался.
Да, не прорезался Дух, Саша! Не прорезался!
И я не знаю, до сих пор не знаю, прорезался ли он — прорежется ли — вообще когда-либо!
Думаю, даже если и прорезался, то тут же и сгинул.
Как говорил Арто: может, я до сих пор не родился.
Ну а если Арто, сам Антонен Арто сомневался в своем настоящем, подлинном рождении, то я-то могу не сомневаться: нет, не родился, никогда.
Ходасевич говорит с абсолютной ясностью:
Мне каждый звук терзает слух,
И каждый луч глазам несносен.
Прорезываться начал дух,
Как зуб из-под припухших десен.
Да, Владислав Фелицианович, мой дух тоже начал прорезываться, начал!
Только он так никогда у меня и не прорезался!
А твой?
У Ходасевича дальше:
Прорежется — и сбросит прочь
Изношенную оболочку.
Тысячеокий — канет в ночь,
Не в эту серенькую ночку.
То есть дух прорезался — и сбежал!
Ушел от меня, никчемного…
Канул в ночь!
Как это точно.
А я останусь тут лежать —
Банкир, заколотый апашем, —
Руками рану зажимать,
Кричать и биться в мире вашем.
Вот это я тоже хорошо знаю: лежать… рану зажимать…
И биться, биться — в мире не моем, а вашем… Ха-ха-ха!
Как форель, которая так и не разбила лед…
Ходасевич, милый…
Кушнер…
ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ.
Про себя-то я точно знаю, что никогда не родился.
А вот Мандельштам — да.
Если б я родился, то был бы сейчас не здесь. А на Луне, как любил говорить Шаламов.
И Кушнера, наверное, там бы не вспоминал.
«Я пришла к поэту в гости…»
Мне ведь не до конца нравятся кушнеровские стихи.
И я думаю, что, возможно, он тоже не до конца родился…
Только вылез так немножко из влагалища, посмотрел на свет…
Но это ведь еще не рождение!
А кто? Кто — родился?
Блок?
Цветаева?
Вагинов?
Пушкин?
Лучше всего сказал сам Кушнер:
Иисус к рыбакам Галилеи,
А не к римлянам, скажем, пришел
Во дворцы их, сады и аллеи:
Нищим духом видней ореол,
Да еще при полуденном свете,
И провинция ближе столиц
К небесам: только лодки да сети,
Да мельканье порывистых птиц.
А с другой стороны, неужели
Ни Овидий Его, ни Катулл
Не заметили б, не разглядели,
Если б Он к ним навстречу шагнул?
Не заметили б, не разглядели,
Не пошли, спотыкаясь, за Ним, —
Слишком громко им, может быть, пели
Музы, слава мешала, как дым.
Вот это — стихи… Настоящие…
С рифмами…
Хорошо, прекрасно сделанные…
Обдуманные, нужные, нежные…
Вот бы и мне быть — НИЩИМ ДУХОМ!
ПОЭЗИЯ ГНЕВА ПОД ВОЛНИСТОЙ ОБЛОЖКОЙ
Израиль был страной без времен года.
Здесь не существовало расцветающих деревьев и весенней мокрой травы, преображающей жизнь.
Израиль знал лишь разрушительную работу то жгучего, то холодного солнца.
В Израиле я всегда обливался горячим потом или нащупывал странную холодную испарину на лбу.
В Тель-Авиве не нужна была сауна — Тель-Авив сам был сауной, но после нее я не чувствовал себя чище.
Иерусалим был каменным мешком со многими — холодно-горячими — складками.
Я бродил по его улицам как паломник, попавший в неправильный город. Я исследовал иерусалимские тупики с тайной надеждой провалиться, как Алиса, в иное пространство.
Однажды в Иерусалиме я угодил на полчаса в темную пещеру, сулившую чудеса.
Это был русский книжный магазин Изи Малера.
Небольшая комната — и для книжного магазина темновато. Кто-то опустил металлические жалюзи на окне, оставив только узкую световую щель.
Пахло пылью и чем-то съестным. Изя Малер, хозяин магазина, притаился, как паук, в углу, на раскладном стуле, с термосом в руке, и глазел на меня без всякого радушия.
Я стал обследовать книжные полки. Здесь были Солженицын, Зиновьев, Войнович, Владимов, Мамлеев, Довлатов, Лимонов, Синявский, Алешковский, Соколов…
Были ардисовские сборники Бродского, книги Бахыта Кенжеева, Сосноры…
Западные издания Вячеслава Иванова, Гумилева, Ходасевича, Белого, Клюева, Кузьмина — настоящая сокровищница!
Здесь стояли альбомы Немухина, Рабина, Целкова, Шемякина… Комплекты журналов «Континент», «Синтаксис», «22»…
Целую полку занимало собрание сочинений Константина Леонтьева… Ремизов, Алданов, Поплавский…
На полке современной поэзии — сборники Анри Волохонского, Геннадия Айги, Алексея Хвостенко, Льва Лосева, Михаила Генделева, Владимира Тарасова…
Много чего там было.
Я смотрел на все эти книги — и мне делалось страшно.
Я пытался представить меру своей собственной беспомощности перед лицом этих бессмертных авторов, этих литературных подвижников. Я, оказывается, был просто бездельником, проходимцем…
Глядя на эти книжные богатства, эти корешки и переплеты, я испытал ужасное, мерзкое давление той косной силы, которая управляла государствами, сословиями, классами, отдельными людьми. Фальшивое имя этой силы — культура. Мрак. Тление. Гробы. Склепы.
Я ощутил себя задавленным, похороненным в культуре — внутри гроба, под пластами земли, с камнем наверху, — на одном погосте со всеми этими талантами и гениями. Неприятное чувство…
Моя непринадлежность культуре сдавила мне виски.
Каким-то седьмым чувством я догадался, что никогда не буду стоять вот так на полке, зажатый другими достопочтенными авторами, даже в самом темном книжном магазинчике, даже в Бангладеш или Уфе.
Не буду, ура!
Это судьба Саши Соколова и Алексея Цветкова — старшего и младшего, но не моя.
Как сладко, как гулко бьется в пустой груди окаянное сердце… И как хорошо сказал маркиз де Сад: не хочу, чтобы память обо мне жила на этом свете, не хочу иметь надгробный камень, не хочу, чтобы мои книги читали эти люди, эти дураки…
И тогда на одной полке я заметил книжку.
Она стояла среди других, но как-то криво, косо. У нее была изогнутая, деформированная спинка. Я ее вытащил: неловкая картонная обложка — покоробленная, волнообразная. Я ощутил на пальцах пыль.
Но мне было приятно держать в руках этого уродца.
Названия не помню, имени автора — тоже. Я открыл книжку и обнаружил, что внутри она такая же неумелая, как снаружи. Грубый, чрезмерно черный набор, дешевая желтая бумага. Книжка была издана на деньги автора в Хайфе.
Я стал читать. Меня ошеломило косноязычие автора. Это был гуторящий, полурусский язык, какой-то южный говор.
Автор был украинским евреем, эмигрировавшим в Израиль в 70-е годы.
Он не писал, а хрипел. Голосил, сипел, рвал и метал, потом умолкал и бубнил. Это была речь, переходящая в глоссолалию. Не слова — а жесты отчаяния. Песнь тонущей, исчезающей в водовороте жизни. И он кричал ей на прощанье: «Ужо тебе!»
Я стащил эту книжку из магазина Изи Малера.
Спрятал за пояс — и вынес. Украл — не том Ходасевича или Поплавского, а ее. Я почувствовал, что это — послание мне, бутылка из водоворота, специально для Александра Бренера. И по содержанию, и на ощупь. Книжка в руке ласкалась и терлась, как приблудная кошка.
Я сел на скамейку под пальмой и стал читать.
Напечатавший эту книжку знал, что его жизнь вся — ошибка. С начала и до конца. Но он не хотел в этом признаться. Поэтому он проклинал: семью, детский сад, школу, техникум, армию, завод, КПСС, СССР, Харьков, Киев, Винницу, а потом — эмиграцию, Тель-Авив, Хайфу, Средиземное море, Запад, козни империалистов, сионизм, Израиль, евреев… Он ворочал кулаками в карманах — и обвинял. Он не исповедовался. Он — кричал с края земли.
Как заболевший Нижинский, прыгал и дергался язык книги. Этот язык был самый настоящий — прямо изо рта, воспаленный, обложенный. Как сказала Кароль Рама: язык — моя любимая часть тела, потому что он не стареет. Язык этой книжки не хотел стареть — не хотел мудреть, умирать.
Книжка была глупой.
Но было там и кое-что другое: пролетарское, плебейское, народное неподчинение. Неприятие никакой навязанной судьбы. Упорство, непреклонность сопротивления.
— Конец, что ли? — спрашивал он себя, дергая локтем.
— Зачем конец? — отвечал он себе, прицеливаясь по неприятелю.
И щелкал невразумительный выстрел — очередной враг падал лицом в землю.
Этот автор стрелял и стрелял по бесчисленным вражеским легионам — палил из своего самострела.
«Вот как скоро все кончилось», — говорил он себе.
И перед ним пробегала его жизнь — трудная, полунищая, судорожная, подслеповатая жизнь, в которой было полным-полно ошибок и мало озарений, и которая кончалась теперь в разогретой, как сковородка, квартирной дыре на холмах Хайфы. Жизнь?
Были в ней горячие оладьи с малиновым вареньем, которые он так любил в детстве, и учительница Марья Порфирьевна с висящими щеками и значком ударницы труда, приколотым к черному платью, и была черная **** его первой любви Ольги или Екатерины — напугавшая его до жути *****… И много, много чего еще было, с чем сводила и куда кидала его судьба — но он ничего из этого не признал, ничему не подчинился, хотя и беспрестанно терпел унижение.
Масштабы сместились, и пизда уже не пугала, а радовала, но платье учительницы со значком до сих пор вселяло ужас, потому что напоминало гроб отца с черной материей, а также торжественный бархатный занавес в кремлевском Дворце Съездов, и еще шторки в самолете, доставившем его в Бен-Гурион. Он ненавидел занавесы и шторы! Он хотел заглянуть за все эти завесы, но там неизменно оказывалась пустота, пустота…
Жизнь?
Вся жизнь его была попыткой отдернуть занавес — и увидеть настоящую, счастливую жизнь. Вся жизнь его была попыткой к бегству, измерялась этими попытками. Побегов у него было много — и все неудачные. Побеги не были продуманными, хитроумными, как у графа Монте-Кристо или князя Кропоткина. Нет, скорее мальчишеские, дурацкие бегства — с уроков, из пионерского лагеря, из фабричных застенков, из бездарной страны… Бегства эти привели его не туда, куда он надеялся…
А куда?
Да кому какое дело?!
Не нужно преуменьшать значение попыток к бегству.
Они, а вовсе не их успех, и есть самое главное: кратковременные, смехотворные, ребяческие побеги из замерзших, ледяных краев равнодушия, одиночества, забытья, рутины, стадного существования, иллюзий. Побеги из холодной Лапуты — в весну, в надежду, на остров Пасхи… Неволя ведь становится особенно невыносимой весной. Хочется любви, света, объятий. И ты бежишь, в душе бежишь, а потом и телесно…
Власть надежды, главной Иллюзии, за которую расплачиваются тяжкими ночами холодного пота, горячего пота, бессилием, слабоумием, беккетовским маразмом, новым сроком в тюрьме, новым холодом, а иногда и смертью — власть надежды толкает тебя к безостановочным попыткам к бегству…
И вот его жизнь — жизнь беглого, темного человека — съежилась до лоскута пыльной шагреневой кожи. Эту-то кожу я и держал теперь в руках, сидя на иерусалимской скамейке, и читал вытатуированные на этой коже слова и фразы. Жизнь!
Честно говоря, фразы эти меня восхищали. Не хуже Селина! Даже лучше! Эти фразы нравились мне не меньше «Домика в Коломне», не меньше «Шума и ярости», не меньше Беккета, не меньше «Игрока» Достоевского, не меньше платоновского «Котлована»…
Не сходя со скамейки, я решил, что хочу быть таким же — плебейским, ошибочным — автором. То есть не автором вовсе.
Помню еще вот что.
Этот рассказ о темной, глухой жизни иногда прерывался какими-то сказками, притчами. Странные это были вставки. Они разрывали ткань повествования как некие вздохи-вдохи, как глотки воздуха, которые были необходимы автору, чтобы отвлечься от собственной жизни.
Вот, например, он поведал, как появились в мире ящерицы. Сначала, согласно его космогонии, ящериц на земле не было, а были только белки, которые вечно спаривались. Они спаривались и спаривались, так что великому богу-медведю это надоело, и он решил ударить по неприличным белкам лапой. И тогда, в самый последний момент, одна из белок, чтобы не погибнуть от тяжкой медвежьей длани, выпрыгнула из своей шкурки! Выпрыгнула — и улизнула, превратившись в шуструю ящерицу. А вторая белка тоже убежала — и с этих пор у нее такой пушистый хвост. Ведь это — меховая шкурка первой белки.
Эта история имела счастливый конец: с удачным бег- ством сразу двух тварей — белки и белки-ящерицы. Можно понять и так, что из любовного союза двух белок родилась новая легконогая тварь — ящерка.
Другая сказка была грустнее.
Жил цветок, который вечно тянулся к солнцу. Но увы — это была односторонняя любовь. Солнце отвергало домогательства цветка. И тогда цветок постепенно зачах, завял — и превратился в паука. Теперь вместо лепестков у него — лапы, и он не радостный, а злобный. И сидит он уже не в зеленой траве, а в бледной паутине, которая является последним негативным напоминанием о солнце.
Жизнь!
Я прочел эту книжку с начала до конца, сидя под горячим солнцем на зеленой скамейке, в древнем городе Иерусалиме. Рядом, кстати, стояла и блестела на солнце большая бронзовая скульптура Жоана Миро. Книжка показалась мне в сто раз интереснее скульптуры.
Живая, настоящая книжка. А скульптура — хлам. Хотя ведь сначала, в молодости, Миро был великолепным художником. Но жизнь, дни, труды, усталость, карьера, слава, успех, пресыщенность и черт знает что еще превратили его в халтурщика.
Безымянному автору шагреневой, волнообразной книжки такая судьба не грозила.






 Сюжет книги строится вокруг гориллы Айвана, чей прототип жил в действительности и прославился на весь мир своими рисунками в «пальчиковой технике». Проведя двадцать семь лет за стеклянными стенами торгового центра, Айван привык к людям, наблюдающим за ним. Но чаще всего он думает о живописи, о том, как передать на бумаге вкус манго или шуршание листьев. Однажды в цирке появляется новый участник – слоненок Руби. Неожиданно для себя Айван начинает по-другому смотреть на жизнь в торговом центре. То и дело в его памяти начинают всплывать воспоминания из его прошлого в джунглях. Не желая, чтобы Руби повторила его судьбу, Айван решает во что бы то ни стало добиться для нее лучшей жизни.
Сюжет книги строится вокруг гориллы Айвана, чей прототип жил в действительности и прославился на весь мир своими рисунками в «пальчиковой технике». Проведя двадцать семь лет за стеклянными стенами торгового центра, Айван привык к людям, наблюдающим за ним. Но чаще всего он думает о живописи, о том, как передать на бумаге вкус манго или шуршание листьев. Однажды в цирке появляется новый участник – слоненок Руби. Неожиданно для себя Айван начинает по-другому смотреть на жизнь в торговом центре. То и дело в его памяти начинают всплывать воспоминания из его прошлого в джунглях. Не желая, чтобы Руби повторила его судьбу, Айван решает во что бы то ни стало добиться для нее лучшей жизни. Роман «Обитатели холмов» признан одной из лучших книг, написанных в XX веке: его ставят в один ряд по значимости с такой незыблемой классикой, как «Маленький принц» Антуана Сент Экзюпери, «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха, «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери.
Роман «Обитатели холмов» признан одной из лучших книг, написанных в XX веке: его ставят в один ряд по значимости с такой незыблемой классикой, как «Маленький принц» Антуана Сент Экзюпери, «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха, «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери. «Томасина» – самая знаменитая в России повесть Пола Гэллико. Это история о девочке, любившей свою кошку, о ее папе-ветеринаре, потерявшем и вновь нашедшем любовь, о Безумной Лори, любившей все живое, – словом, о любви, в которой только и есть смысл жизни. Повесть экранизировал Уолт Дисней, а в 1991 году режиссер Леонид Нечаевснял на студии им. Максима Горького фильм «Безумная Лори». В 2016 году издательство «Розовый жираф» выпустило новое издание повести в классическом переводе Натальи Трауберг, дополненное красочными иллюстрациями Нины Кузьминой.
«Томасина» – самая знаменитая в России повесть Пола Гэллико. Это история о девочке, любившей свою кошку, о ее папе-ветеринаре, потерявшем и вновь нашедшем любовь, о Безумной Лори, любившей все живое, – словом, о любви, в которой только и есть смысл жизни. Повесть экранизировал Уолт Дисней, а в 1991 году режиссер Леонид Нечаевснял на студии им. Максима Горького фильм «Безумная Лори». В 2016 году издательство «Розовый жираф» выпустило новое издание повести в классическом переводе Натальи Трауберг, дополненное красочными иллюстрациями Нины Кузьминой. В 2016 году «Махаон» переиздал известную повесть знаменитого русского поэта Серебряного века Саши Черного. В «Дневнике фокса Микки» повествование идет от лица забавного пса Микки, обладающего великолепным чувством юмора. Наблюдательный пес в ироничной манере рассказывает о своей полной событий собачьей жизни, о своей хозяйке Зине, обо всем, что его окружает.
В 2016 году «Махаон» переиздал известную повесть знаменитого русского поэта Серебряного века Саши Черного. В «Дневнике фокса Микки» повествование идет от лица забавного пса Микки, обладающего великолепным чувством юмора. Наблюдательный пес в ироничной манере рассказывает о своей полной событий собачьей жизни, о своей хозяйке Зине, обо всем, что его окружает. «Собака Пес» – трогательная и правдоподобная история бездомного щенка, который в поисках собачьего счастья проходит путь от мусорной свалки под Ниццей до парижской квартиры и после долгих скитаний осуществляет главную цель всякой собачьей жизни – воспитывает себе настоящего хозяина. Однако путь его был усыпан не вкусными мясными косточками, а всевозможными опасностями. «Собака Пес» – одно из наиболее значимых произведений современной франкоязычной литературы для детей; повесть рекомендована для чтения в школе Министерствами образования Франции, Швейцарии, Бельгии и Канады.
«Собака Пес» – трогательная и правдоподобная история бездомного щенка, который в поисках собачьего счастья проходит путь от мусорной свалки под Ниццей до парижской квартиры и после долгих скитаний осуществляет главную цель всякой собачьей жизни – воспитывает себе настоящего хозяина. Однако путь его был усыпан не вкусными мясными косточками, а всевозможными опасностями. «Собака Пес» – одно из наиболее значимых произведений современной франкоязычной литературы для детей; повесть рекомендована для чтения в школе Министерствами образования Франции, Швейцарии, Бельгии и Канады. Один из самых известных романов Гарта Стайна написан от лица собаки, помеси лабрадора и эрдельтерьера, по имени Энцо, названного так в честь известного конструктора и автогонщика. Энцо – умный пес, который любит, когда его хозяин, опытный автомеханик, автогонщик, включает ему телевизор – спортивный канал или Discovery. Он все понимает, сопереживает домочадцам, выражая свои чувства как может, мечтая о том, что в следующей жизни он родится человеком. Это желание у него появилось после просмотра одной научно-популярной программы, где говорилось, что в Монголии собаки особо почитаются, так как жители этой страны верят: после смерти собака может переродиться в человека. Удивительно трогательная история, которая позволяет понять наших домашних питомцев чуточку лучше.
Один из самых известных романов Гарта Стайна написан от лица собаки, помеси лабрадора и эрдельтерьера, по имени Энцо, названного так в честь известного конструктора и автогонщика. Энцо – умный пес, который любит, когда его хозяин, опытный автомеханик, автогонщик, включает ему телевизор – спортивный канал или Discovery. Он все понимает, сопереживает домочадцам, выражая свои чувства как может, мечтая о том, что в следующей жизни он родится человеком. Это желание у него появилось после просмотра одной научно-популярной программы, где говорилось, что в Монголии собаки особо почитаются, так как жители этой страны верят: после смерти собака может переродиться в человека. Удивительно трогательная история, которая позволяет понять наших домашних питомцев чуточку лучше. Однажды нью-йоркский поэт Вилли Гуревич, поменяв фамилию на Сочельник, решил отправиться творить добро в компании верного пса по кличке Мистер Зельц, которому и отведена роль рассказчика. Трогательная история их странствий изложена прославленным автором «Нью-Йоркской трилогии» и «Книги иллюзий» с классической простотой, мягкой проникновенностью и сдержанной печалью. Подобно другим книгам этого американского писателя, сценариста и режиссера, «Тимбукту» относится к произведениям о непреходящих ценностях: высоких целях, искренних, но недостижимых идеалах.
Однажды нью-йоркский поэт Вилли Гуревич, поменяв фамилию на Сочельник, решил отправиться творить добро в компании верного пса по кличке Мистер Зельц, которому и отведена роль рассказчика. Трогательная история их странствий изложена прославленным автором «Нью-Йоркской трилогии» и «Книги иллюзий» с классической простотой, мягкой проникновенностью и сдержанной печалью. Подобно другим книгам этого американского писателя, сценариста и режиссера, «Тимбукту» относится к произведениям о непреходящих ценностях: высоких целях, искренних, но недостижимых идеалах. Кошки – не те, кем кажутся. Веселая книга в необычном полиграфическом исполнении, написанная от имени кота Таффи, – прекрасный подарок котоманам всех возрастов. В главном герое книги каждый может узнать своего собственного пушистого любимчика. Энн Файн, многократный лауреат звания «Лучший детский писатель года» в Британии, прекрасно передала кошачью речь, а Дина Крупская перевела это на русский. «Дневник кота-убийцы» назван в числе 10 лучших книг для подростков 2010 года по итогам читательского голосования в Московской городской детской библиотеке им. А.П. Чехова.
Кошки – не те, кем кажутся. Веселая книга в необычном полиграфическом исполнении, написанная от имени кота Таффи, – прекрасный подарок котоманам всех возрастов. В главном герое книги каждый может узнать своего собственного пушистого любимчика. Энн Файн, многократный лауреат звания «Лучший детский писатель года» в Британии, прекрасно передала кошачью речь, а Дина Крупская перевела это на русский. «Дневник кота-убийцы» назван в числе 10 лучших книг для подростков 2010 года по итогам читательского голосования в Московской городской детской библиотеке им. А.П. Чехова. Автор этих заметок, пес Бой – чистой воды параноик, страдающий манией величия в сочетании с острой манией преследования, что проявляется только в тактически выгодные моменты его жизни. Как писатель он представляет собой нечто среднее между Прустом и осликом Иа-Иа, склонен к клевете и абсолютно поглощен самим собой. Цитаты из великих мудрецов перемежаются в его дневнике с чисто собачьими темами, а ссылки на Вольтера и Макиавелли соседствуют с практическими советами о том, как под обеденным столом уберечь свой хвост и лапы от неуклюжих человеческих конечностей. Эта полная юмора книга не оставит равнодушным никого из тех, кто хоть однажды задумывался, что же творится в голове у любимого питомца.
Автор этих заметок, пес Бой – чистой воды параноик, страдающий манией величия в сочетании с острой манией преследования, что проявляется только в тактически выгодные моменты его жизни. Как писатель он представляет собой нечто среднее между Прустом и осликом Иа-Иа, склонен к клевете и абсолютно поглощен самим собой. Цитаты из великих мудрецов перемежаются в его дневнике с чисто собачьими темами, а ссылки на Вольтера и Макиавелли соседствуют с практическими советами о том, как под обеденным столом уберечь свой хвост и лапы от неуклюжих человеческих конечностей. Эта полная юмора книга не оставит равнодушным никого из тех, кто хоть однажды задумывался, что же творится в голове у любимого питомца.