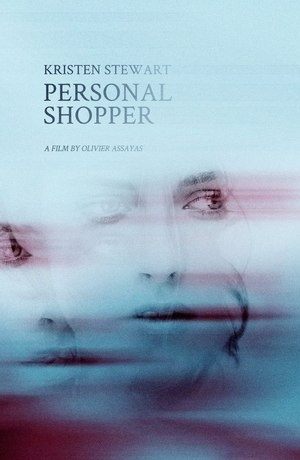- Жауме Кабре. Тень евнуха / Пер. с каталан. А. Гребенниковой. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2017. — 448 с.
Роман выдающегося каталонского писателя Жауме Кабре «Тень евнуха» — смешная и грустная история сентиментального и влюбчивого любителя искусства, отпрыска древнего рода Женсана, который в поисках Пути, Истины и Жизни посвятил свои студенческие годы вооруженной борьбе за справедливость. «Тень евнуха» — роман, пронизанный литературными и музыкальными аллюзиями. Как и «Скрипичный концерт» Альбана Берга, структуру которого он зеркально повторяет, книга представляет собой двойной реквием.
Он посвящен «памяти ангела», Терезы, и звучит как реквием главного героя, Микеля Женсаны, по самому себе. Рассказ звучит как предсмертная исповедь. Герой оказался в доме, где прошли его детские годы (по жестокой воле случая родовое гнездо превратилось в модный ресторан). Подобно концерту Берга, роман повествует о судьбах всех любимых и потерянных существ, связанных с домом Женсана.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
СЕКРЕТ АОРИСТА
Часть I
Andante (Präludium)
3
В истории Микеля Женсаны Второго есть множество важных моментов, главную роль в которых играют женщины. Вот и теперь я сижу перед Жулией, которая хочет, чтобы я рассказал ей о Болосе. А что бы я ни сказал о Болосе, придется говорить о себе, обнажаясь до такой степени, какую и представить себе нельзя. Потому что я храню Болоса в одном из уголков своей души, и Ровиру тоже, как бы причудливо жизнь нас ни разъединяла и ни соединяла снова, терпеливо ожидая, когда принесут на закуску оливок. Как же у меня дома все медленно! Когда этот дом еще был моим и я жил в нем, мне больше всего нравилось от него отдаляться, делать вид, что это величественное здание не имеет к моей жизни никакого отношения. Этим и объясняются мои попытки бежать. Но в школьные годы он все-таки был мне дорог. Самым главным в одиноком детстве Микеля были походы из дома в школу и из школы домой, книги дяди Маурисия и мечты. Поэтому я очень хорошо помню все немногие ночи, проведенные вне дома Женсана.
В автобусе мы ехали шумно, как и полагается, сердя водителя и кидая намеки отцу Романи, который сидел на переднем сиденье, на которое теперь, двадцать лет спустя, обычно садятся экскурсоводы и с микрофоном в руке рассказывают: «Обратите внимание, справа — храм Святого Семейства, проект всемирно известного архитектора Антонио Гауди», — и турист с кожей цвета вареного омара рассеянно фотографирует недостроенный храм: «До чего же древняя штука, наверняка римских времен, правда, май дарлинг?1 И Гауд-Ди этот, должно быть, из Карфагена». А у «май дарлинг» мысли далеко: она думает о сливочном мороженом и никак не вспомнит, какой оно было фирмы, «Ками» или «Фриго». И экскурсовод говорит: «Двадцать лет назад здесь, в этом самом автобусе или в какомто очень похожем, но более раздолбанном, Микель Женсана Второй, Мыслитель, его неразлучные друзья Ровира и Болос и еще сорок бравых парней из шестого класса иезуитской школы на улице Касп ехали в дом молитвы в Эльс-Осталетс2 . Они были счастливы, потому что целых три дня никто, даже учитель математики, не будет ни требовать с них домашнее задание, ни мучить контрольными, ни ругать за шум в коридоре. «Не следует забывать, что эти три дня посвящены молитве, и для вашей дальнейшей жизни гораздо важнее те решения, к которым вы можете прийти за эти три дня, чем все, чему мож но научиться за несколько лет». А нам-то все равно, хоть горш ком назови, у нас три дня каникул, и это очень круто. И во время поездки в автобусе отец Романи, вместо того чтобы говорить: «обратите внимание, вот справа Гауди», использовал бывшее в его распоряжении время, чтобы продвинуться в чтении молитвенника.
Мы вошли в дом молитвы через главный вход, толкаясь и издавая крики. Самые отчаянные, в хвосте, под прикрытием автобуса, курили последнюю сигарету свободы и рассказывали байки о женщинах, которых никогда не видели. Скромная монахиня с улыбкой поздоровалась с обоими священниками (вторым был отец Валеро, преподаватель религии) и начала им что-то объяснять. Войдя в просторный холл, я узнал типичный для мест такого типа запах чистых простыней, лаванды, мол чания с легкой примесью щелока и еле уловимого аромата солодового кофе. Нам показали наши комнаты («Во дают, Ровира, одноместные номера, шикуем!»), а потом Микель сел на одинокий стул в своей комнате и вообразил себя монахом. В комнате, не очень хорошо проветренной, чистой и обшарпанной, пахло так же, как на третьем этаже дома Женсана, где обитала прислуга. Микаэлус Секундус, Бенедиктинец, посмотрел по сторонам: на узкую кровать с одеялом цвета солодового кофе с молоком с двумя красными полосками поперек; на крест у изголовья кровати, ставший крестом его долгого покая ния; на стол с настольной лампой, стол его многочасовых заня тий теологией; малюсенький умывальник, изъеденный жуками-древоточцами платяной шкаф и красные потертые кафельные плитки пола. Некоторые из них, когда на них наступишь, скрипели и могли отвлечь меня от молитвенных размышлений. Да, все верно: я чувствовал себя в этой комнате так, будто прожил там всю жизнь, и серд це мое забилось, когда я подумал, что хорошо бы стать священником.
Это были три дня, посвященные размышлениям под руководством отца Романи, большого специалиста по пересказу краткого содержания невероятно запутанных «Духовных упраж нений» святого Игнатия Лойолы: три дня неба, ад, грех, щедрость, альтруизм, забавные притчи и выдержки из Евангелия, солодовый кофе с молоком, много каши и совсем чуть-чуть мяса, небольшие перерывы, когда можно пойти поиграть в мяч. Но Ровира не хотел играть в футбол и уходил гулять, совсем один, по кипарисовой аллее; а Болос, сколько я к нему ни приставал, играл мало, потому что вечно бегал с курильщиками в запретный уголок за прачечной.
По окончании духовных упражнений я был совершенно уверен, что пойду в священники. По целому ряду причин: я нашел путь, я был спокоен и радостен, потому что пребывал в Истине. Я чувствовал, что мой долг — смиренно указывать этот путь другим, всем тем, кто по слепоте душевной или же просто потому, что им не повезло и они родились в другом месте, не знаком с Благой Вестью о счастье, пути, истине и жизни. А еще я понял, что, как только сделаюсь священником, стану миссионером и уеду в самую суровую и далекую страну: щедрость душевную всегда стоит приправлять изрядной щепотью героизма. И глаза его заблестели, и Микаэлус встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки, и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. Из какой-то стыдливости я не сказал об этом своем решении отцу Барнадесу, нашему духовному наставнику, который следил за истинными плодами этих счастливых трех дней уединения с отцом Романи.
Но глаза такого синего цвета, что от них кружилась голова, будто от взгляда в глубину морскую, потрясли основы твердого решения Микеля, которое с ним разделили шесть и семь десятых процента его одноклассников, на две десятых процента меньше, чем в предыдущий выпуск, — постепенно близятся все более тяжелые времена, и, не приведи Господи, настанет тот день, когда…
Глаза из глубины морской принадлежали сирене с ногами девушки в школьной форме школы Св. Иоанны де Лестоннак, девушки, которая каждый день прижимала к своей едва намечающейся груди учебники, не ведавшие своего счастья, и носила прелестные носочки. Кроме того, мне показалось, что я ей приятен. Звали ее Лидия. И я подумал: «Боже мой, какая девушка! Ах, если бы мне не нужно было сейчас ехать на этом поезде», и много дней я тайно ее обожал, и у меня перехватывало дух до тех пор, пока, дабы не разбилось вдребезги мое серд це, бывший миссионер Микель не рассказал обо всем Болосу, большому знатоку по части любви.
— Не понимаю, о ком ты говоришь.
И мы пошли ее поджидать — Болос с холодным взглядом эксперта, мы делали вид, что просто прогуливаемся по улице Пау Кларис, совершенно случайно, по воле случая, оказавшись напротив школы Св. Иоанны де Лестоннак в шесть часов вечера. Локтем в живот:
— Вот она!
— Да их четверо.
— Самая красивая!
— То есть?
— С длинными волосами!
— Блин, Женсана, длинные волосы у двоих!
— Но другая-то пугало огородное.
Тут Микель едва не завязал плодотворную теоретическую дискуссию о методах охраны огородных культур от птиц и женской красоте, но вдруг судьба ему улыбнулась.
— Вон та, которая смеется. Видишь? Она на меня посмотрела, да? Ну как тебе?
— Да…
— Задумчивое молчание.
— Да.
— Да? В каком смысле «да»? Что скажешь?
— По правде тебе сказать…
— Конечно, говори по правде! Красавица, да? Ведь ради нее и вены порезать не жалко, так?
— Не вижу в ней ничего особенного, Женсана.
Микель с Болосом за три дня не обменялись ни словом. Во время этого тяжкого испытания нашей дружбы я боготворил свою любовь, я шел в нескольких шагах позади нее, всячески стараясь ступать по ее следам, благословляя землю, которой только что коснулись ее ноги, и вздыхая в душе. Мечты об обращении камерунцев в истинную веру, ведущую от берегов озера Чад на Путь, к Истине и Жизни, разбивались о реальность красоты и становились все более туманны, сколько я ни пытался изо дня в день поддерживать этот еще теплящийся огонек в школьной часовенке.
Я окончил школу в тот год, когда в Барселоне поговаривали о том, чтобы отменить трамваи с благовидной целью сделать дорожное движение более интенсивным и спокойно загрязнять воздух выхлопами общественного транспорта. Возможно, эта идея была чем-то вроде запоздалого гражданского покаяния за печальный конец карфагенца Гауд-Ди3. В общем, я окончил выпускной класс, не завалив ни одного экзамена. Рамье, Камос и Торрес остались на второй год. В последнем классе перед поступлением в университет занятия проводились в другом здании, нас уже не заставляли носить унизительный пиджачок, можно было курить открыто, а не по-партизански в туалете; мы уже считались взрослыми, а все, кто был курсом младше, нам завидовали, и я понял, что математика стала для меня слишком трудной, а бездонные глаза из школы Св. Иоанны де Лестоннак поблекли и действительно было бы дуростью резать себе вены из-за девушки, чье имя я уже плохо помнил и которая, смеясь, обнажала слишком неровные зубы. И когда мы с Мурильо, Болосом и Ровирой ходили играть в настольный футбол на улицу Консель-де-Сент (мне уже разрешали возвращаться домой на следующем поезде), задача просвещения камерунцев незаметно растворялась в воздухе и вдруг исчезала в свете насущной необходимости решать задачи по математике.
А потому, когда нас снова повезли в дом молитвы, я уже не с таким жаром отнесся к идее стать священником, хотя и честно задумался о своих мечтах и о том, чего бы мне хотелось достичь в жизни. И пришел к замечательному выводу, что делать, то есть действительно что-то делать, я ничего особенно и не хочу, а посвящать душу Богу — тем более. Мне было радостно освободиться от цепей, сковавших Савла две тысячи лет назад, ведь вселенная была полна прекрасных глаз: синих, черных, карих, цвета меда, зеленых, глубоких, как пучина морская, — и было счастьем думать, что мне не запрещено в них смотреть по причинам профессиональной этики. При этом в глубине души Микель Ни-богу-свечка-ни-черту-кочерга чувствовал себя трусом, потому что не внял зову Господню; и в момент слабости он решил поговорить об этом с отцом Романи, между лекциями, в его кабинетике, а потом с Болосом, в прачечной, за запрещенной сигаретой.
— Если у тебя есть призвание стать монахом, ты ничего не сможешь сделать, чтобы укрыться от воли Господней. Подумай об Ионе, сын мой.
— Но, отец мой, как узнать, призвание это или нет?
— Не тупи, Женсана, они просто вербуют молоденьких патеров, чтобы их лавочку не прикрыли.
— Да понятно. Ну а вдруг это мое призвание?
— Сын мой, зов Бога — это дар. В том, чтобы его отвергнуть, нет греха… Это просто значит, что ты не проявил должной щедрости, когда Он просил тебя об этом.
— Но я могу стать хорошим человеком, отец мой! Я могу быть добрым христианином и делать другую работу.
— Все-таки они те еще пройдохи. Романи просто хочет, что- бы тебя загрызла совесть, если ты не пойдешь в монахи.
— Нет-нет, никто не заставляет меня ничего делать. Меня же никто не заставляет выбирать ту или другую специальность.
— Где тебе хотелось бы учиться, какая специальность тебя привлекает, сын мой?
— Не знаю.
— Да ты же вообще не представляешь, чем будешь заниматься!
— Кто бы говорил!
Это была очень для меня плодотворная серия размышлений, организованная отцом Романи, членом ордена иезуитов, при поддержке Жузепа-Марии Болоса, лучшего друга, большого специалиста по разрешению чужих проблем. Не успев убедить меня в том, что нет ничего лучше, чем любить всех женщин в мире, он пришел ко мне плакаться в жилетку, потому что наполовину потерял голову из-за угольно-черных волос, покры вавших плечи девушки, ходившей по улицам выше улицы Касп, ученицы школы Иисуса и Марии. Звали ее Мария Виктория Сендра, ей было шестнадцать с половиной лет. Она жила на углу улиц Брук и Валенсия, училась играть на флейте в музыкальной школе при консерватории, а лето проводила в Виладрау. Что-что, а информацию Болос, в отличие от меня, умел добывать всегда, когда появлялась некая цель. Я же ограничивался мечтами о каких-то неясных улыбках, которые, в худшем случае, даже и обращены были не ко мне. А слухи, что век трамваев подходит к концу, потому что в вагоне с прицепом могут ехать одновременно всего триста человек, а в один автобус помещаются более девяноста, да и бензин, конечно, всегда будет дешевле электричества, оказались верны. Была весна, то время года, когда девушки еще более прелестны и ходят в кофточках а с коротким рукавом, а если повезет, то и совсем без рукавов, без чулок и носков и в чуть более коротких юбках, и дышат более нетерпеливо, с более страстным, неистовым желанием. Когда деревья наряжаются в тысячи оттенков зеленого и наполняют город радостью, когда становится очевидно, что скоро придет лето, а вместе с ним и каникулы, а вместе с каникулами — свобода, и как же все-таки хороша жизнь. И Микель был потрясен, а Болос очень разозлился, когда Ровира несколько церемонно, прогуливаясь под акациями на улице Дипутасьо, сообщил им, что решил пойти в иезуиты и уже в сентябре станет послушником. И я подумал, вот те на, и тут же мне пришло в голову спросить: послушай, Ровира, блин, а девушки-то как же? Но во взгляде Ровиры читалось, что его дух выше таких вопросов, потому что взоры его устремлялись гораздо дальше, по направлению к Пути, Истине и Жизни, и пока Болос, насупившись, жевал жвачку, я чувствовал себя полным ничтожеством и завидовал Ровире, герою Ровире, который нашел в себе мужество последовать зову Господню. Не то что некоторые, кто вернулся домой, в Фейшес, и никому ничего не рассказал о школьном товарище, который пошел в иезуиты. В то время мы с отцом беседовали о том, что я решил не поступать в Инженерно-технический институт, куда обязан был поступить каждый уважающий себя член семейства Женсана, если, конечно, хотел чего-нибудь добиться в жизни. И с того самого дня от ношения с отцом испортились. А дядя Маурисий молча посмеивался себе под нос, зная, что Микель, его единственный и самый любимый внучатый племянник, будет учиться совсем в другом учебном заведении. И в родовом гнезде Женсана воцарился мир, к вящему недовольству отца, но мир. И мать облегченно вздохнула.
В первый день занятий в университете Микель надел галстук и сел на самый ранний утренний поезд. Мы с Болосом встретились на площади прямо перед зданием и оба сделали вид, что ничуть не волнуемся. Скорее всего, как раз поэтому мы и отправились выпить кофе в бар напротив и время от времени кидали косые взгляды на здание факультета гуманитарных наук, словно боялись, что оно от нас убежит. Болос тоже был при галстуке. Мы молча помешивали сахар в чашках, и Болос достал трубку, вид которой тут же побудил во мне зависть. Как и в любом, окажись он на моем месте.
— Не знал, что ты куришь трубку.
— Мне всегда трубки нравились.
— Но ведь эта новая, да? — Микель ехидничал даже с лучшим другом. Он взял трубку у него из рук и осмотрел с видом знатока. — Ну да, ты прав… Когда-нибудь да нужно было начать.
Рядом с ними сидела группа студентов. Много девушек. И все смеялись, как будто были знакомы всю жизнь, как будто ходить в университет было для них самым обычным делом. И ни на одном из парней не было галстука.
— Мы ведь одни из всей школы поступили на гуманитарный?
— Ага!
Болосу стоило страшных трудов раскурить трубку. Огромное облако «Амстердамера» скрыло его от мира, за дымовой завесой у Болоса слегка закружилась голова. А через две затяжки трубка погасла.
— У тебя трубка погасла. — (Микель, что, трудно тебе быть нормальным человеком?)
— Сам знаю, болван. О чем ты там говорил?
— Что мы единственные выбрали гуманитарную специальность.
— Ну да. Мы и Ровира.
— Нет, что ты! Он ведь в послушники подался.
— Ну да, конечно, ты прав. Значит, только мы. — И, энергично затянувшись:
— Жаль его, правда?
— Не знаю. Он, наверное, знает, что делает.
Надо полагать, что Ровира в тот момент, в половине девятого утра, в октябре, клял себя на чем свет стоит, повторяя: кой черт понес меня на эти галеры, что мне теперь с этой сутаной делать? А может, принимал Святое причастие с особым рвением, благоговением и трепетом, ощущая совершенное счастье. И ведь ни на одном из студентов в баре — только посмотри, ни на одном! — не было галстука.
— Все, кто учился на гуманитарном потоке, кроме меня, поступили на юридический.
Теперь трубка издавала очень странный звук, но дым из нее шел.
— А из моего математического потока я один гуманитарий. Слушай, Болос, что это за звук?
— Слюна. Мы с тобой — единственные сумасшедшие, ничего не скажешь.
В том возрасте, когда можно мечтать, этим правом следует пользоваться. Микель Женсана провел бо льшую часть подготовительного курса, дрейфуя в океане сомнений. И дело было не только в сомнениях о том, стоит ли становиться католическим священником, миссионером, стремиться к Царствию Небесному и помогать в этом стремлении другим. Он не был достаточно уверен и во всех остальных жизненно важных вопросах — например, возможно ли обнять всех красивых девушек на свете (то есть обнять всех девушек без исключения, так как я знал, что все они красивы), курить, не кашляя, и выбрать, кем быть: производственным инженером, инженером-технологом, химиком, врачом, адвокатом, архитектором и так далее. Я выбрал «и так далее», хотя оно меня очень пугало. Но мне было предельно ясно, что я не хочу быть ни производственным инженером, ни инженером-технологом, ни химиком, ни врачом, ни адвокатом, ни архитектором. Давняя семейная традиция не давала мне последовать ироническому совету дяди Маурисия, единственного человека в семье с двумя высшими образованиями, который всегда говорил, что, если хочешь заработать денег, Микель, нужно заняться ремонтом машин: открыл гараж — закрыл гараж, а они все едут. Жаль, что я не последовал его совету. Но дядя говорил это только для того, чтобы позлить моих родителей и бабушку Амелию. В глубине души все мы знали, что ни один Женсана не может позволить себе не поступить в университет; другое дело — не окончить его или не применять в жизни полученные знания. Это несколько облегчало Ми келю жизнь, поскольку возможность стать наборщиком, плотником или машинистом поезда можно было даже не рассматри вать, а о профессии пастуха или постового не стоило и мечтать. Но несмотря на все эти ограничения бескрайней свободы выбора, Микель в выпускном классе страшно переживал, не зная, что ему делать дальше. До того самого дня, пока Болос не сказал: говорят, в университете можно изучать историю.
— Прямо такая специальность есть? Ее прямо так изучают, как, например, какую-нибудь архитектуру?
— Ага.
— Это «ага» прозвучало увереннее, трубкой еще и не пахло: до университета было еще далеко.
— Неплохо бы туда пойти, да? Стоит разобраться, как считаешь?
Мы выяснили кое-что про историческую специальность, в этом нам помогли наши школьные патеры, которые, правда, слегка недоумевали, почему это нормальные, здоровые парни из хороших семей не хотят быть ни архитекторами, ни адвокатами, но информацию нам все-таки предоставили, и Болос с Микелем поступили на факультет философских и гуманитарных наук. И Болос (Жузеп-Мария Болос, Друг-неразлейвода) провел все лето, посвящая своего товарища, то есть меня, в секреты латинской грамматики, основательно мною с четвертого класса забытой, и как гласит слово Божие: чем дальше в лес, тем больше дров, и лето у нас прошло за «res, rei», «fero, fers, ferre, tuli, latum» и «Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris Italiam»4 , и все это для того, чтобы в первый день учебы оказаться, сгорая от нетерпения и при ненужном галстуке, перед зданием гуманитарного факультета Барселонского университета. За шаг до того, чтобы начать новый этап, посвященный изучению всемирной истории, языкознания и философии, и с готовностью этот мир улучшить, обновить и возглавить.
— Сколько тут девчонок, а?
— И не говори. Наконец-то.
Привыкшие на девушек охотиться, они несколько разнервничались, а главное, обрадовались при виде их столь значительного количества. Болос и Микель вступали в мир взрослых.
— Жарко тут.
Микель украдкой расстегнул пуговицу на воротничке и ослабил для начала галстук. Болос, уже пришедший к дружескому согласию с трубкой, тоже украдкой ослабил себе узел.
— Ну что, пошли?
В восемь часов тридцать семь минут и двенадцать секунд второго октября тысяча девятьсот шестьдесят шестого года Женсана и Болос, два бесстрашных ученика выпускного класса «А» иезуитской школы, имевшие смелость пойти не в адвокаты, впервые вступили в храм мудрости — сердце в пятках, комок в горле, галстук в кармане.
1 Моя дорогая (англ.).
2 Скорее всего, имеется в виду городок Эльс-Осталетс-де-Пьерола, расположенный примерно в 50 км от Барселоны.
3 Великий каталонский архитектор Антонио Гауди (1852–1926) в возрасте 73 лет был сбит трамваем по дороге в церковь и скончался через три дня после этого. Похоронен в Барселоне, в крипте строящегося по его проекту храма Святого Семейства (Саграда Фамилия).
4 «Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои — роком ведомый беглец — к берегам приплыл Лавинийским» (лат.). Начальные строки поэмы Вергилия «Энеида» (пер. С. Ошерова под ред. Ф. Петровского).