- Маргарет Этвуд. Ведьмино отродье. — М.: Эксмо, 2017. — 352 с.
Маргарет Этвуд — одно из ключевых имен на современной литературной сцене. Финалист Букеровской премии, ее книги «Рассказ служанки», «Она же Грейс» и «Мадам Оракул» становились бестселлерами не только в ее родной Канаде, но и во всем мире. Новое творение автора — это пересказ Шекспировской «Бури» эпохи современности, гаджетов, социальных сетей и нового ритма жизни.
Феликс успешен и востребован. Он — именитый режиссер. Однако козни врагов вынуждают покинуть свое звездное место и отправиться в канадскую глубинку, чтобы лечить душевные раны. Там он мечтает о мести и ведет беседы с призраком своей дочери. При этом в местной тюрьме ему предлагают поставить спектакль с заключенными. Он выбирает радикальный пересказ «Бури» Шекспира, да такой, который утрет нос всем недоброжелателям и позволит в полной мере реализовать свою месть.
Ведьмино отродье
Раньше он позвонил бы своему стоматологу, его записали бы на прием, усадили в роскошное кресло из искусственной кожи, над ним склонилось бы сосредоточенное лицо, пахнущее мятным зубным эликсиром, умелые руки взялись бы за блестящие инструменты. Да, я вижу, в чем тут проблема. Сейчас все исправим. Словно идет речь о его машине во время сервисного осмотра. Возможно, ему даже выдали бы наушники, чтобы слушать музыку, и предложили бы легкое успокоительное.
Но сейчас он не может позволить себе дорогих стоматологов. Только самых бюджетных. Стало быть, он заложник своих ненадежных зубов. Это нехорошо. В грядущем финале все должно быть безупречно. Зуба… Забава наша кончена. Если он вдруг собьется, если хоть одно слово прозвучит неидеально, если нарушится артикуляция, волшебства не получится. Зрители станут покашливать, заерзают в креслах и уйдут с представления в антракте, тогда ему придется до дна испить чашу унижения, при одной только мысли об этом бросает в жар. Это смерти подобно.
— Ми-ма-мо-му, — протягивает он губами, смотря на свое отражение в забрызганном зубной пастой зеркале над кухонной раковиной. Он хмурит брови, выставляет подбородок вперед. Потом скалит зубы: это оскал загнанного в угол старого шимпанзе, отчасти ярость, отчасти угроза, отчасти уныние.
Как он унижен. Опустошен. Доведен до отчаяния. Всеми забытый, влачит свое одинокое существование, прозябает в глуши; в то время как Тони, этот выскочка, этот самодовольный мерзавец, развлекается с сильными мира сего, хлещет шампанское, жрет икру, язычки жаворонков и молочных поросят, вращается в свете и упивается восхищением своих приближенных, своих прихлебателей и лизоблюдов…
Когда-то стелившихся перед Феликсом.
Это мучительно, это больно. Душа жаждет мести. Если бы…
Хватит. Расправить плечи, велит он себе, глядя на мрачное отражение. Втянуть живот. Можно не смотреть в зеркало. Он и так знает, что отрастил брюшко. Возможно, придется купить бандаж.
Впрочем, черт с ним, с животом! Есть работа, требующая действий; аферы, которые нужно обдумать и провернуть; злодеи, которых следует проучить! Тщетно тщится щука ущемить леща. Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали. В парус бриг впряг бриз близ берега.
Вот. Без единой запинки. Есть еще порох в пороховницах.
Он исполнит задуманное, несмотря на все сложности. Сначала он их очарует и заворожит. Заморочит их так, что они сами выпрыгнут из штанов. Не то что бы ему очень хотелось на это смотреть. «Поразите их воображение, сразите их наповал, — как он говорит своим актерам. — Давайте сотворим чудо!»
Он заткнет глотку этой двуличной твари по имени Тони.
Подействовали чары
Феликс сам виноват, что дал волю этой скользкой двуличной твари по имени Тони. За последние двенадцать лет он не раз обвинял себя в произошедшем. Он передал Тони все полномочия, не контролировал его действия, не заглядывал ему через плечо. Он не разглядел ни единого сигнала надвигавшегося предательства, хотя любой, у кого есть хотя бы чуточку мозгов и два уха, уже давно бы насторожился. Хуже того: он доверился ему, этому бессердечному карьеристу, вероломному и бессовестному лизоблюду. Он купился на эту ложь: Я все сделаю сам, зачем тебе тратить время, поручи мне. Каким же он был идиотом.
Его могло извинить только то, что в то время им полностью овладевало горе. Он только что потерял своего единственного ребенка, и потерял так нелепо и страшно. Если бы он только… если бы он не… если бы он узнал сразу…
Нет, эта рана еще болит. Не думай об этом, говорит он себе, застегивая рубашку. Абстрагируйся. Отстранись. Представь, что это был фильм.
Даже если бы этого не случилось, — о чем так больно размышлять, что лучше этого не делать, — его все равно подсидели бы. Феликсу было удобно, что все бытовые вопросы, связанные с фестивалем, решает Тони. Сам Феликс занимал пост художественного руководителя и пребывал на пике таланта, как неизменно писали в рецензиях; стало быть, ему следовало посвятить свое время и силы высоким целям, как не уставал повторять тот же Тони.
И он посвятил себя высоким целям. Создать спектакли, которые будут самыми яркими, самыми зрелищными, самыми вдохновенными и грандиозными, самыми оригинальными и возвышенными образчиками театрального искусства. Поднять планку выше Луны. Превратить каждый спектакль в незабываемый опыт для зрителя. Чтобы зрители в зале сидели как околдованные и выходили из театра, пошатываясь, словно пьяные. Превратить фестиваль в Мейкшавеге в эталон, на который будут равняться все остальные театральные фестивали.
Это были поистине великие цели.
Для их достижения Феликс собрал самых талантливых и квалифицированных специалистов, которых сумел завлечь в Мейкшавег. Он нанимал лучших, вдохновлял лучших. Или лучших из тех, кого мог позволить. Он тщательным образом отбирал весь технический персонал, художников по свету, звукорежиссеров. Он выискивал не имеющих себе равных художников по костюмам и декорациям. Он убеждал, завлекал, очаровывал. Он решил для себя, что в его постановках должны быть заняты лучшие из лучших. Если возможно.
Все это требовало денег.
Поиском денег занимался Тони. Неблагородное занятие: деньги были всего лишь средством для достижения цели, а цель была запредельной. Это знали они оба. Феликс, чародей-небожитель, и Тони, занимающийся земными делами помощник и золотодобытчик. Это было рациональное разделение обязанностей, в соответствии с их талантами. Как говорил Тони, каждый делает то, что умеет.
Идиот, бранит себя Феликс. Он был на вершине своего могущества, и это ослепило его. В этом и таилась опасность, ведь с вершины есть лишь один путь: вниз.
Тони как-то уж слишком охотно освободил Феликса от нудных обязанностей, которые тот всей душой ненавидел, как то: присутствовать на приемах, умасливать спонсоров и патронов, панибратствовать с членами Правления, выбивать финансирование на различных уровнях правительства и составлять отчеты об эффективной работе. Таким образом, говорил Тони, Феликс может посвятить все свое время действительно важным делам: глубокомысленному сценарию, новаторским идеям по освещению сцены и выбору правильного момента, когда обрушивать дождь из блестящего конфетти, которое он так гениально использует для оформления спектаклей.
И режиссуре, конечно. Каждый сезон Феликс ставил одну или даже две пьесы. А иногда сам играл главную роль, если его привлекал персонаж. Юлий Цезарь, король Лир, Тит Андроник. Каждый раз — настоящий триумф. В каждой из этих ролей! В каждой его постановке!
По крайней мере, триумф с точки зрении критиков. Зрители и даже патроны иногда возмущались. Полуголая, истекавшая кровью Лавиния в «Тите Андронике» была вопиюще натуралистичной, негодовали они; это было оправданно, возражал им Феликс, находя оправдание в самом тексте пьесы. Откуда в «Перикле» вдруг появились космические корабли и космические пришельцы вместо парусников и заморских стран? Почему у богини Луны Артемиды голова богомола? Хотя, как сказал Феликс в свою защиту на заседании Правления, именно так и должно было быть, если дать себе труд подумать. А Гермиона из «Зимней сказки», которая стала вампиром, вернувшись к жизни! Ее освистали в прямом смысле слова. Феликс был в восторге: вот это эффект! Кто еще делал такое? Никто не делал! Где есть порицание, там есть жизнь!
Эти блистательные эскапады, эти полеты фантазии, эти сокрушительные триумфы были детищем раннего Феликса. Порождения безудержного ликования, упоения и восторга. Все изменилось незадолго до переворота, учиненного Тони. Мир омрачился, и омрачился внезапно. Вой, вой, вой…
Но выть он не мог.
Надя, супруга Феликса, покинула его. Со дня их свадьбы прошло чуть больше года. Для него это был поздний брак — и неожиданный. Он и не знал, что способен так сильно любить. Он только начал открывать ее многочисленные достоинства, только начал узнавать ее по-настоящему, как вдруг она умерла от скоротечной стафилококковой инфекции сразу после рождения дочери. Такое случается, даже при современном уровне развития медицины. До сих пор он пытается сохранить в памяти ее образ, оживить ее в воображении, но с годами она отдалилась, выцвела, как старый снимок. Остался лишь контур; контур, который он заполняет печалью.
Так Феликс остался один с новорожденной дочерью на руках, сего Мирандой. Миранда: как еще можно было назвать девочку, у которой нет матери, а есть только немолодой, слепо ее обожавший отец? Она удержала его на краю, не дала погрузиться в хаос. Он старался держаться как мог. Получалось с трудом, но он все-таки справился. Не без помощи, да. Он нанял несколько нянь — он бы не обошелся без женской руки, потому что не знал, как ухаживать за младенцем. И еще потому, что не мог быть с Мирандой все время, хотя он проводил с ней каждую свободную минуту, которых выдавалось не так уж и много.
Она его очаровала сразу и навсегда. Он глядел на нее и не мог наглядеться. Маленькое совершенство. Ее глаза, ее пальчики! Чистый восторг! Когда она начала говорить, он взял ее в театр. Такая умница, она сидела спокойно и вбирала в себя происходящее на сцене, не ерзала в кресле и не скучала, как скучал бы и ерзал обычный двухлетний ребенок. У него были планы: когда она подрастет, они вместе отправятся в путешествие. Он покажет ей мир, научит всему, что знал сам. Но потом, когда ей было три года…
Высокая температура. Менингит. С ним пытались связаться, но он был на репетиции и строго-настрого приказал его не беспокоить. Няньки, смотревшие за Мирандой, не знали что делать. Когда он наконец вернулся домой, там были слезы, истерики, снова слезы, а потом он отвез дочь в больницу, но было поздно. Уже слишком поздно.
Доктора сделали все, что могли: все дежурные фразы были произнесены, все оправдания озвучены. Но ничто не помогло, а потом она умерла. Ушла, как принято говорить у них. Но если ушла, то куда? Она не могла просто исчезнуть из мира. Он отказывался в это верить.
Лавиния, Джульетта, Корделия, Пердита, Марина… Все они потерянные дочери, которые «ушли», но некоторых удалось вернуть. Почему не его Миранду?
Что делать с таким необъятным горем? Оно было, как колоссальная черная туча, нависшая над горизонтом, или скорее как снежная буря. Нет, оно совсем не поддавалось сравнению. Он не мог одолеть эту громаду. Ее надо было преобразовать в нечто иное, или попытаться отгородиться от этой боли.
Сразу после похорон, как только маленький, вызывающий жалость гроб опустили в землю, Феликс ринулся в «Бурю». Уже тогда он понимал, что это было бегство от действительности. Но оно могло стать возрождением.
Он уже представлял, как Миранда из «Бури» станет дочерью, которую не потеряли; маленький ангел-хранитель, единственная радость изгнанного отца, спасшая его от отчаяния, когда они плыли по темному морю в полусгнившем челне. Она не умерла. Она выросла и превратилась в прелестную девушку. То, чего Феликс лишился в жизни, он еще мог мельком увидеть в своем искусстве: пусть лишь краешком глаза.
Он создаст достойное оформление для своей возрожденной Миранды, которую вызовет к жизни силой воображения. Он превзойдет сам себя как режиссер и актер. Он раздвинет границы возможного, придаст реальности нужное ему звучание. Он хорошо помнит, как это было. Он взялся за дело, охваченный лихорадочным жаром отчаяния, но разве искусство рождается не из отчаяния? Разве искусство не есть вызов смерти? Стоя на крою пропасти, ты бросаешь ей вызов, показывая средний палец. Он уже знал, что его Ариэля будет играть трансвестит на ходулях, который в ключевых сценах преображается в гигантского светлячка. Его Калибан будет шелудивым бомжом — чернокожим или, может быть, из коренных канадцев — и паралитиком, передвигающимся по сцене на гигантском скейтборде.
Стефано и Тринкуло? Эту парочку он еще не проработал, но у них точно будут гульфики и шляпы-котелки. Тринкуло может жонглировать предметами, подобранными на берегу волшебного острова, к примеру дохлыми кальмарами.
Его Миранда будет бесподобна. Юная дикарка, какой она, разумеется, и должна быть. Пережившая кораблекрушение трехлетним ребенком, она двенадцать лет носилась по острову — и, скорее всего, босиком. Откуда бы там взяться обуви? У нее на ногах наверняка были мозоли, похожие на подошвы сапог.
После долгих и утомительных поисков, в ходе которых он отвергал девушек, которые кроме своей юности и приятного личика не имели больше никаких достоинств, он остановил свой выбор на одной бывшей гимнастке-юниорке. Она начинала еще ребенком и дошла до серебряной медали на чемпионате Северной Америки, после чего поступила в Национальную театральную школу. Сильная, гибкая, худая, как щепка, энергичная, пылкая и упорная, она тогда только-только входила в пору цветения. Ее звали Анна-Мария Гринленд. Ей лишь недавно исполнилось шестнадцать. У нее была совсем небольшая актерская подготовка, но Феликс знал, что с ней он сможет добиться того, что ему нужно. Игры такой свежей и безыскусной, что это будет уже не игра. Это будет реальность. Через Анну-Марию его Миранда вернется к жизни.
Сам Феликс сыграет Просперо, ее любящего отца. Отца, который заботится о своей дочери — может быть, слишком ее опекает, но лишь потому, что желает ей только добра. Он будет мудрым, мудрее Феликса. Хотя даже мудрый Просперо глупо доверился своим близким и погрузился в магические науки, позабыв обо всем остальном.
Волшебную мантию Просперо сошьют из звериных шкур, не из натуральных мехов и даже не из искусственных имитаций, а из выпотрошенных мягких игрушек. Белки, зайчики, львы, тигры, несколько медвежат. Дикие звери символизируют стихийную, первобытную природу сверхъестественных сил Просперо. Феликс заказал набор искусственных листьев, ярко раскрашенных перьев и золоченых цветов, которые собирался вплести среди плюшевых шкурок, чтобы придать своей мантии дополнительный шик и смысл. Магический посох он нашел в антикварной лавке: элегантная трость времен королей Эдуардов с набалдашником в виде серебряной лисьей головы с глазами, предположительно сделанными из нефрита. Она была коротковата для чародейского посоха, но Феликсу нравилось смешивать эксцентричность и сдержанность. Такой реквизит придает ключевым сценам долю здоровой иронии. В самом конце, в эпилоге Просперо, на сцене запылает закат, а сверху посыплются блестки-конфетти, как снег.
Это будет непревзойденная «Буря»; его лучшая постановка. Он был одержим ею еще тогда. Теперь он понимает. Это было его наваждение, его навязчивая идея. Его Тадж-Махал, величественный мавзолей, возведенный для тени ушедшей возлюбленной. Или богатый, украшенный драгоценными камнями ларец — вместилище праха. Но не только, не только… Потому что внутри зачарованного пространства, которое он создавал, его Миранда будет жить снова.
Тем больней был удар, когда все рухнуло.






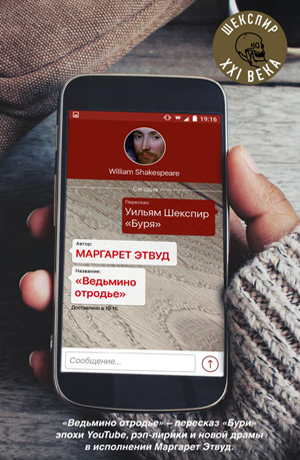
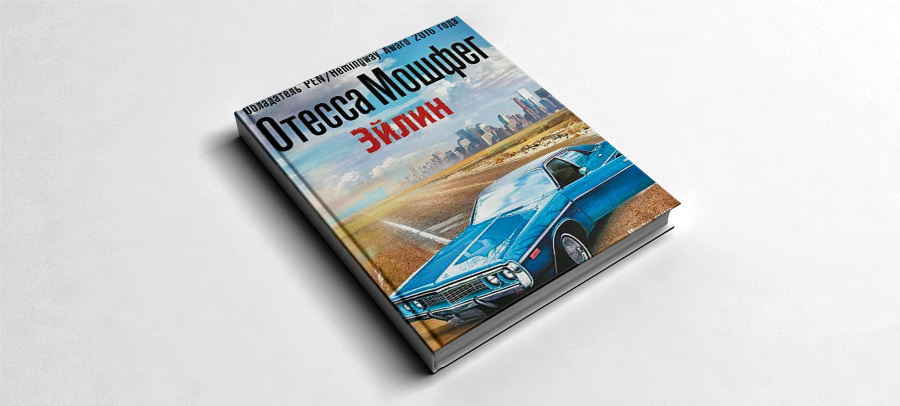

 В апреле известному поэту, переводчику, драматургу и детскому писателю Николаю Голю исполняется 65 лет, и для всех нас издание его новой книги станет настоящим подарком! Главные герои детективной сказочной повести — лесные жители, обитатели Старого Логова — чудесного и веселого леса на окраине большого города. Роль Шерлока Холмса отведена волчонку по имени Ух, а его верный напарник — кролик Морковкин — почти как доктор Ватсон помогает другу в расследовании увлекательных дел. Им помогают изобретатель Архимед Кузьмич Пифагоров, маленький Медведь со своей бабушкой Большой Медведицей и даже Внутренний Голос! Героям книги вместе с юными читателями (школьниками младших и средних классов) предстоит повстречать в лесу инопланетян, поломать голову над таинственным медом, научиться верить друзьям, думать и анализировать.
В апреле известному поэту, переводчику, драматургу и детскому писателю Николаю Голю исполняется 65 лет, и для всех нас издание его новой книги станет настоящим подарком! Главные герои детективной сказочной повести — лесные жители, обитатели Старого Логова — чудесного и веселого леса на окраине большого города. Роль Шерлока Холмса отведена волчонку по имени Ух, а его верный напарник — кролик Морковкин — почти как доктор Ватсон помогает другу в расследовании увлекательных дел. Им помогают изобретатель Архимед Кузьмич Пифагоров, маленький Медведь со своей бабушкой Большой Медведицей и даже Внутренний Голос! Героям книги вместе с юными читателями (школьниками младших и средних классов) предстоит повстречать в лесу инопланетян, поломать голову над таинственным медом, научиться верить друзьям, думать и анализировать. Еще один юбиляр этой весны — Джеймс Паттерсон (James Patterson), в марте ему исполняется 70 лет. Он попал в книгу рекордов Гиннеса как автор, чьи книги чаще всего становятся бестселлерами New York Times. Паттерсон считает, что только родитель может по-настоящему привить ребенку любовь к чтению, и старается создавать литературу, которая может в этом помочь.
Еще один юбиляр этой весны — Джеймс Паттерсон (James Patterson), в марте ему исполняется 70 лет. Он попал в книгу рекордов Гиннеса как автор, чьи книги чаще всего становятся бестселлерами New York Times. Паттерсон считает, что только родитель может по-настоящему привить ребенку любовь к чтению, и старается создавать литературу, которая может в этом помочь. Главные герои книги «Охотники за сокровищами» — брат и сестра Бик и Бек — живут на двадцатиметровом паруснике и помогают папе с мамой искать исторические артефакты на дне океана. Но однажды им приходится отправиться на поиски собственных родителей и при этом не только найти множество ценностей, но и разгадать различные загадки. Бик рассказывает эту увлекательную историю, а Бек рисует динамичные скетчи, и поэтому книга очень напоминает комикс.
Главные герои книги «Охотники за сокровищами» — брат и сестра Бик и Бек — живут на двадцатиметровом паруснике и помогают папе с мамой искать исторические артефакты на дне океана. Но однажды им приходится отправиться на поиски собственных родителей и при этом не только найти множество ценностей, но и разгадать различные загадки. Бик рассказывает эту увлекательную историю, а Бек рисует динамичные скетчи, и поэтому книга очень напоминает комикс. Настоящая находка для родителей и педагогов, желающих всерьез говорить с детьми об экологии. Художник Торбен Кульманн, несмотря на молодость, уже известен во всем мире. Он изучал графический дизайн и технику книжной иллюстрации в Гамбургской высшей школе, и это заметно: его дипломный проект в виде книжки-картинки сразу сделал его лауреатом многих национальных конкурсов и обладателем нескольких премий в Германии. После завораживающих мышиных историй Торбена Кульмана «Линдберг» и «Армстронг», после невероятных полетов над Землей и Луной пришло время опуститься под землю, в город Кротов (Moletown). Это рассказ о том, как кроты решили освоить очаровательную поляну, соорудили транспортную сеть, придумали технологичные дома, разработали многочисленные системы. За этой увлекательной инженерной работой они не заметили, когда их луг перестал быть таким же прекрасным, как раньше…
Настоящая находка для родителей и педагогов, желающих всерьез говорить с детьми об экологии. Художник Торбен Кульманн, несмотря на молодость, уже известен во всем мире. Он изучал графический дизайн и технику книжной иллюстрации в Гамбургской высшей школе, и это заметно: его дипломный проект в виде книжки-картинки сразу сделал его лауреатом многих национальных конкурсов и обладателем нескольких премий в Германии. После завораживающих мышиных историй Торбена Кульмана «Линдберг» и «Армстронг», после невероятных полетов над Землей и Луной пришло время опуститься под землю, в город Кротов (Moletown). Это рассказ о том, как кроты решили освоить очаровательную поляну, соорудили транспортную сеть, придумали технологичные дома, разработали многочисленные системы. За этой увлекательной инженерной работой они не заметили, когда их луг перестал быть таким же прекрасным, как раньше… Книга еще об одном жилище — увлекательное путешествие по мышиному домику и парку развлечений. Мышкин дом — это серия книг про Самми и Юлию. И детям, и взрослым понравится разглядывать фотографии домика, построенного из простых материалов — картонных коробок, папье-маше, обрезков ткани. Одних только комнат — целых сто! А еще коридорчики, прихожая, балконы… После чтения о мышиных приключениях обязательно захочется построить собственный Мышкин дом. Этому можно научиться на
Книга еще об одном жилище — увлекательное путешествие по мышиному домику и парку развлечений. Мышкин дом — это серия книг про Самми и Юлию. И детям, и взрослым понравится разглядывать фотографии домика, построенного из простых материалов — картонных коробок, папье-маше, обрезков ткани. Одних только комнат — целых сто! А еще коридорчики, прихожая, балконы… После чтения о мышиных приключениях обязательно захочется построить собственный Мышкин дом. Этому можно научиться на  Жизнь на нашей планете зародилась миллиарды лет назад в морской воде. Тогда из множества органических веществ возникли первые формы жизни, которые можно назвать нашими очень дальними предками. Необычайные превращения, ну и, конечно, сотни миллионов лет эволюции привели к появлению самых разных животных и человека! Книга рассказывает не только о возникновении и развитии жизни, но и о том, почему древняя многоножка вырастала до метра длиной, с какой скоростью бегал тираннозавр, что общего между китом и оленем, и о других занимательных фактах.
Жизнь на нашей планете зародилась миллиарды лет назад в морской воде. Тогда из множества органических веществ возникли первые формы жизни, которые можно назвать нашими очень дальними предками. Необычайные превращения, ну и, конечно, сотни миллионов лет эволюции привели к появлению самых разных животных и человека! Книга рассказывает не только о возникновении и развитии жизни, но и о том, почему древняя многоножка вырастала до метра длиной, с какой скоростью бегал тираннозавр, что общего между китом и оленем, и о других занимательных фактах. Первая книга Барнетта Мака — и сразу же отмечена премией Калдекотта (премия Американской библиотечной ассоциации за лучшие литературно-художественные произведения для детей и юношества) и другими наградами. Художник Джон Классен, создавший прекрасные рисунки к книге, — не только иллюстратор, но и аниматор: он один из создателей мультипликационных фильмов «Кунг-фу Панда» и «Каролина». В «Волшебной пряже» Классен поселил уже узнаваемых героев — зверей из книги «Где моя шапка?», но это уже совсем другая история.
Первая книга Барнетта Мака — и сразу же отмечена премией Калдекотта (премия Американской библиотечной ассоциации за лучшие литературно-художественные произведения для детей и юношества) и другими наградами. Художник Джон Классен, создавший прекрасные рисунки к книге, — не только иллюстратор, но и аниматор: он один из создателей мультипликационных фильмов «Кунг-фу Панда» и «Каролина». В «Волшебной пряже» Классен поселил уже узнаваемых героев — зверей из книги «Где моя шапка?», но это уже совсем другая история. Жизнь в Ташкентском зоопарке бьет ключом: канюк требует корма, пеликанам пора стричь крылья, а вредный журавль по кличке Журик так и норовит побольнее клюнуть. Брат-юннат знакомится с суровыми буднями зверинца под чутким руководством зоотехника Сергея. В этой юмористической повести Станислав Востоков рассказывает о том, как начиналась его карьера натуралиста в 90-е годы.
Жизнь в Ташкентском зоопарке бьет ключом: канюк требует корма, пеликанам пора стричь крылья, а вредный журавль по кличке Журик так и норовит побольнее клюнуть. Брат-юннат знакомится с суровыми буднями зверинца под чутким руководством зоотехника Сергея. В этой юмористической повести Станислав Востоков рассказывает о том, как начиналась его карьера натуралиста в 90-е годы. Серия «Путеводители для детей» издательства «Фордевинд» широко известна среди читателей. Настоящими хитами стали книги о Петербурге и его окрестностях, путеводитель по Золотому кольцу и Великому Новгороду и вышедшая уже в этом году книга «Метро Петербурга: путеводитель-игра по станциям». Поэтому нет сомнений, что и книга-квест по Витославлицам — Новгородскому музею под открытым небом — тоже долгожданна для всех, кто любит путешествовать и открывать новое. Она раскроет секреты закоулков Витославлиц, превратит читателя в историка, этнографа и археолога, расскажет про обычаи и традиции, игры и обряды, ремесла и крестьянский быт наших предков.
Серия «Путеводители для детей» издательства «Фордевинд» широко известна среди читателей. Настоящими хитами стали книги о Петербурге и его окрестностях, путеводитель по Золотому кольцу и Великому Новгороду и вышедшая уже в этом году книга «Метро Петербурга: путеводитель-игра по станциям». Поэтому нет сомнений, что и книга-квест по Витославлицам — Новгородскому музею под открытым небом — тоже долгожданна для всех, кто любит путешествовать и открывать новое. Она раскроет секреты закоулков Витославлиц, превратит читателя в историка, этнографа и археолога, расскажет про обычаи и традиции, игры и обряды, ремесла и крестьянский быт наших предков. Вот-вот выйдет из печати яркая, наполненная отличными стихами книга детского писателя Анастасии Орловой — лауреата премии имени С. Я. Маршака в номинации «Дебют в детской литературе» за книгу «Яблочки-пятки» (2013). Новая книга Орловой «Маленький-маленький ветер» уже не сверкает голыми пятками — она «обута» в чудесные розовые сандалики. От нежнейших стихотворных строчек — мурашки, как от маленького ветерка, возникшего от движения золотых крылышек насекомого. Сочная пастель Марины Кутявиной — это не просто иллюстрации к стихам, а отдельные маленькие истории, составленные из фруктов, цветов, бабочек, птиц, трав, древесных ветвей.
Вот-вот выйдет из печати яркая, наполненная отличными стихами книга детского писателя Анастасии Орловой — лауреата премии имени С. Я. Маршака в номинации «Дебют в детской литературе» за книгу «Яблочки-пятки» (2013). Новая книга Орловой «Маленький-маленький ветер» уже не сверкает голыми пятками — она «обута» в чудесные розовые сандалики. От нежнейших стихотворных строчек — мурашки, как от маленького ветерка, возникшего от движения золотых крылышек насекомого. Сочная пастель Марины Кутявиной — это не просто иллюстрации к стихам, а отдельные маленькие истории, составленные из фруктов, цветов, бабочек, птиц, трав, древесных ветвей.
