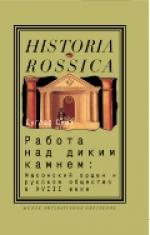- СПб.: Амфора, 2006
- Переплет, 272 с.
- ISBN 5-367-00282-X
- 5000 экз.
Но кто бы ни был автор этой книги (может быть, имеет смысл напомнить, что псевдоним, под которым он скрылся, намекает на культовую повесть Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»), так вот, кто бы ни был этот человек, Чебурашке он сослужил медвежью услугу.
В выходных данных указано, что это «научно-популярное издание». И это, действительно, не роман о постаревших крокодиле Гене и щенке Тобике, вспоминающих за вечерним чаем о Чебурашке, хотя формально так оно и есть. «Карма Чебурашки» — это набор вопросов и ответов, составленный с дидактической целью, то есть буддийский катехизис, причем, что называется, для самых маленьких. Восьмеричный путь — это… Четыре благородные истины — это… Сансара — это… Карма — это… И все бы хорошо, ведь такими катехизисами, в несколько более завуалированной форме, являются и повесть Баха, и, например, «Чапаев и Пустота» Пелевина. Проблема в том, что автор, избрав позицию просвещающего (в средневековых катехизисах — Учитель), впал вдруг в гаденький, липкий тон, который вызывает не доверие, а тоскливый яростный вой: This is the end of all hope…
И это тем более обидно, что догадки, высказанные в этой книге, несомненно, заслуживали бы самого пристального внимания, будь они высказаны человеком, умеющим писать. Действительно, давно уже назрела необходимость признать, что Чебурашка был великим Бодхисаттвой, и раскрыть символический смысл его слов и поступков. Но почему при этом глагол должен уползать в конец предложения, неловко и до рвоты однообразно имитируя разговорную речь, — неясно. Цитаты из повести Успенского соседствуют в «Карме Чебурашки» со стихами Фета и Лермонтова, небольшими рассказами Одоевского и Толстого. Такое соседство выявляет неожиданные смыслы во всех этих текстах, и это хорошо, как, в принципе, для любого грамотного интертекстуального карнавала. Но герои этой книги говорят, сюсюкая и поддакивая друг другу, как два восторженных дебила.
Когда в процессе чтения нарываешься вдруг на обширную цитату из Сутры о бесчисленных значениях или на классическое буддийское джатаки, чувствуешь себя так, будто вышел на свежий воздух из детсада для детей-даунов. Так что, как говорится, лучше всего хозяйке удался майонез. Впрочем, как знать, может быть, и эта дурно написанная книга сможет пробудить в ком-нибудь желание сделать что-нибудь хорошее на благо всех живых существ, чем Чебурашка не шутит!