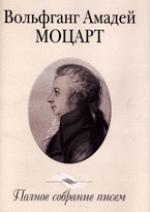В двух томах
Том I. «Воспоминания»
- М.: Вагриус, 2006
- Переплет, 464 с.
- ISBN 5-9697-0236-6
- 3000 экз.
Том II. «Вторая книга»
- М.: Вагриус, 2006
- Переплет, 624 с.
- ISBN 5-9697-0236-6
- 3000 экз.
Апология воя
Вот уже больше 15 лет ни одно серьезное издание произведений Осипа Мандельштама не обходится без частого упоминания имени его жены, силой живой памяти сохранившей, хоть и не полностью, архив поэта, большую часть которого составляют стихи «догутенберговской эпохи», когда доступ к печати был наглухо закрыт.
В тех новейших словарях и прочих изданиях, где говорится о НМ, составители, как правило, не находят ничего лучшего, как сказать о субъективности ее взгляда на эпоху, на людей. Но в том-то и дело, что, осознавая свою субъективность, она, кажется, намеренно ее усиливала: «Люди старших поколений, читая мою первую книгу, обвиняют меня, что я не жила жизнью своих сверстников и потому не упомянула челюскинцев и стахановцев, про постановки Мейерхольда, гениальные фильмы с коляской, галушками и концом Петербурга, а главное — мощную индустриализацию страны, блеск литературоведения и бессмертные романы, написанные в годы великих свершений… Кому что, но я отворачиваюсь от карнавала всех десятилетий нашего века, потому что у меня сильно развито чувство газовой камеры, лагеря, застенка и гнусной литературы, знающей, что надо видеть, а на что следует закрывать глаза». Подобных инвектив полно в обоих томах, и они-то как раз и создают ощущение пристрастности, горячности, даже ядовитости. Но чего ждать от женщины, которая не скрывает своей благодарности Богу за то, что у нее нет детей, признается в том, что ее часто преследовала мысль о самоубийстве…
Сама НМ назвала свое произведение «Воспоминания» и «Вторая книга», но вряд ли к этим книгам можно подходить как к привычным мемуарам, от которых впору ждать «атмосферы», «исчерпывающей картины», наконец, «запечатленного времени»… Конечно, все это есть (и может быть, Время — в первую очередь), но далеко не «мемуарность» составляет смысловую и эмоциональную сердцевину обеих книг. НМ говорит о своем опыте — о том, что вынесла из прожитой жизни, из пережитой эпохи. Большинство мемуаристов не делает из пережитого далекоидущих выводов — по причине сдержанности, скромности или учитывая, что многие из тех, о ком говорится, еще живы. Это не относится к дилогии НМ: она, нередко исступленно замечая, что была никудышной женой, подводит в полном смысле этого слова итог, произносит приговор — пристрастный, пугающий, не терпящий возражений… Наверное, есть такие однозначные суждения, что возражать произносящим их просто нельзя: каждое произнесенное слово — претензия на непостижимое знание, обретенное здесь, на индивидуальное, очень личное знание. Получивший это знание и оставшийся жить — это как упрек нам, живущим в полном неведении. По силе подачи этого знания, по глубине осознания отрицательности собственного опыта книги НМ сравнимы с колымской прозой В. Шаламова.
Эрнст Неизвестный заметил, что автор «Архипелага ГУЛАГа» от тома к тому обретает все более подлинно пророческие интонации, под которые искусственно не подделаешься. По аналогии можно сказать, что НМ, отмщая «веку-волкодаву», отнявшему у нее мужа-поэта, возможность нормально жить, избавляется от ложного стыда: «…надо ли выть, когда тебя избивают и топчут сапогами. Не лучше ли застыть в дьявольской гордыне и ответить палачам презрительным молчанием? И я решила, что выть надо. В этом жалком вое, который иногда неизвестно откуда доносился в глухие, почти звуконепроницаемые камеры, сконцентрированы последние остатки человеческого достоинства и веры в жизнь. Этим воем человек оставляет след на земле и сообщает людям, как он жил и умер. Воем он отстаивает свое право на жизнь, посылает весточку на волю, требует помощи и сопротивления. Если ничего другого не осталось, надо выть. Молчание — настоящее преступление против рода человеческого»; избавляется она также и от животного страха: «Когда появляется примитивный страх перед насилием, уничтожением и террором, исчезает другой таинственный страх — перед самим бытием». На разных пластах повествования появляется мотив преодолеваемой разобщенности с миром, завещанным для делания,— разобщенности с людьми, усиливаемой обезличивающим произволом государства. Возвращение себе способности и похищение для себя возможности обычного раздражения на всякие противоестественные помехи, на которые зловеще щедр был XX век,— вот что такое это произведение. Из нашего благополучного сейчас и представить невозможно масштабов тех несчастий, которые обрушивались на живших в России на протяжении 30 (или 70? или большего числа?) лет, когда любого человека могли лишить «права дышать и открывать двери и утверждать, что бытие будет». НМ не боится сказать, что ее жизнь, которой она и без того не дорожила, после 1938 года была окончательно обессмыслена, и в труде этой женщины, так стремившейся быть слабой, очень хочется увидеть попытку «найти потерянное — отобранное — время», чтобы вновь ощутить себя легкой и веселой (чем не парадигма и не пафос классического XX века!). Только в раскованном, свободном состоянии — по мысли НМ, усвоенной ею от мужа,— человек продолжает расти в природе и культуре. Только в беспечальном праздничном состоянии человек может жить для будущего.
Говоря о прошлом, НМ смотрит в будущее — с надеждой, недоумением, страхом: оно неизвестно, оно непонятно, оно умнее и изощреннее настоящего. Она не то чтобы завещает ему какую-то сумму «правил», а, скорее, на свой лад мощно отображает на письме зловещую тень того времени, «где мой народ, к несчастью, был». Будучи иногда спорным, но всегда интересным комментарием к творчеству Осипа Мандельштама, тысяча страниц, написанные НМ, предстают своеобразной фреской, монументальной и интимной, в которой НМ — художник, филолог, преподаватель — не гнушается никакими средствами, как будто заранее зная, что ее прихотливая память окажется вернее рассудочных построений и догадок, что ее зрение — острее луп будущих исследователей, а ее безжалостные слова, нарочитые самоповторы должны снять налет с оболганного и залгавшегося времени. Она словно дает свой вариант знаменитой ахматовской формулы «когда б вы знали из какого сора», но говорит не о росте стихов, а о жизни, естественный рост которой был искалечен, нарушен: этот вариант лишен какого бы то ни было жеманства, потому что мы видим, как трезвый человек, лишенный всяких иллюзий, ведет разговор со смертью (призывает ее, отводит, пугает ею?).
Яростная противница эстетических доктрин и формалистских умствований, НМ мастерски строит свои книги. О своей концепции она нигде напрямую не говорит, но дает понять, что первая книга «Воспоминания» создавалась в период омертвения, долгого и тупого (о мучительном выходе из него, точнее — о начале выхода, о слабых потугах цепляться за жизнь, говорится в конце «Второй книги»). Первый том весь сконцентрирован на поэте: биографическое и творческое, оттесняя друг друга, складываются в общую канву, создается живой облик, как будто повествователь взял на себя роль Орфея. «Вторая книга» более насыщена именами, фактами, с поэтом иногда совсем не связанными, но тем не менее воссоздающими образ страшной эпохи. Здесь-то НМ и раздает всем сестрам по серьгам, давая волю вновь переживаемой, уже раскованной, эмоции. К моменту завершения «Второй книги» произведения поэта на родине так и не переиздали, оттого так много горечи и упреков в словах НМ. Боясь будущих посягательств государства на поэтическое наследие Мандельштама, в «Завещании» вдова поэта с гневом и не желая слушать никаких возражений произносит: «…я обращаюсь к Будущему, которое еще за горами, и прошу его вступиться за погибшего лагерника и запретить государству прикасаться к его наследству, на какие бы законы оно ни ссылалось. ‹…› Я не хочу слышать о законах, которые государство создает или уничтожает, исполняет или нарушает, но всегда по точной букве закона и себе на потребу и пользу, как я убедилась, прожив жизнь в своем законнейшем государстве. Столкнувшись с этим ассирийским чудовищем — государством — в его чистейшей форме, я навсегда прониклась ужасом перед всеми его видами, и поэтому, какое бы оно ни было в том Будущем, к которому я обращаюсь, демократическое или олигархия, тоталитарное или народное, законопослушное или нарушающее законы, пусть оно поступится своими сомнительными правами и оставит это наследство в руках у частных лиц».
Издание предварено предисловием Дмитрия Быкова, где перечисляются многие достоинства обеих книг, выстраивается интересная генеалогия мемуаров и находится должное место обсуждаемых воспоминаний в им присущем ряду; наконец, автор предисловия, говоря о подвиге НМ, обозначает ее роль в истории как роль хранительницы «горстки листочков», гордой и непримиримой свидетельницы. Проблематичным представляется отказ от комментариев: не всегда исторически объективные, воспоминания НМ могут послужить для несведущего читателя источником ложных представлений об отдельных событиях и личностях. Но даже и в таком виде слово, предоставленное свидетельнице эпохи, послужит неоценимым подспорьем любой попытке взглянуть на то далекое время — будем надеяться, безвозвратно уходящее в прошлое.
Петр Казарновский