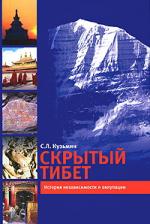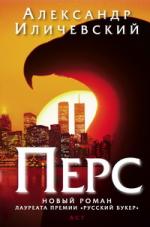Вильгельм Зон. Окончательная реальность
М.: Астрель: Corpus, 2010. — 544 с.
Первое впечатление от романа — пир духа, симпосион цитат.
Тут не только «Тихий Дон», Шолохов и Крюков, вокруг которых строится сюжет. Тут и Юлиан Семенов («Альтернатива»), и Умберто Эко («Маятник Фуко»), и «12 стульев», и «Записки сумасшедшего», и «Хазарский словарь», и «Голем», и полный Пелевин, и Агата Кристи (Пуаро и Гастингс в ролях наемных убийц), и Ян Флеминг (Бонд как неудавшийся посланец в прошлое), и Конан Дойль («Собака Баскервилей», в роли собаки — Кулик), и Филип Дик («Человек в высоком замке»), и Роберт Харрис (роман и фильм «Фатерлянд»), и когорта современных отечественных фантастов-альтернативщиков во главе с Андреем Лазарчуком. Можно вспомнить и «Палисандрию» Саши Соколова. А если говорить о литературе последних лет, то ближайшие родственники «Окончательной реальности» — «Голубое сало» Сорокина и «Стоп, коса!» Анатолия Королева.
Ну и уж, конечно, Стругацкие: главные герои — дети и внуки Витицкого (псевдоним Б. Н. Стругацкого).
Поначалу книга производит впечатление какой-то очень сложной игры с историей и литературой, но очень скоро понимаешь, что правила у этой игры на самом деле простенькие: зеркальная или обратная симметрия.
Немцы победили в войне. Третий Рейх держит в железных объятиях всю Европу и часть России. Западная Россия — та же ГДР с циркулем на гербе, а на Востоке за Московской стеной — свободный мир. Немцы ездят на убогих недоделанных «мерседесах», а восточные русские — на мощных «москвичах 600». В Западной Москве — любимый магазин детворы «Юный фашист», в Восточной — гигантский параллелепипед Третьяковки, набитый современным искусством. Гитлер — это Сталин, после него Рейхом правит Геринг-Хрущев (развенчал культ Гитлера, отпустил евреев в Израиль), потом разные Брежневы (Шпеер) и Андроповы (Шелленберг), потом в революция в Москве, ломают стену, потом революция в Берлине, потом хаос и бардак при Коле-Ельцине, потом Герхардт-Путин…
Понятно, что идеологически это все та же старая диссидентско-либеральная шарманка про «СС равно ГБ», что и у какого-нибудь Войновича в «Чонкине», плюс столь же древнее убеждение в предопределенности исторического процесса. Ни новых смыслов, ни попыток анализа причин и следствий не видно, есть только более или менее ловкое жонглирование пустотелыми знаками. В результате получается безупречно плоская, но с иллюзией глубины, книга. В каком-то смысле «Окончательная реальность» — припозднившийся на 20 лет образцовый постмодернистский роман. От современности тут только «нефтяной детерминизм» — манера объяснять исторические события динамикой цен на нефть (кстати, тоже с зеркальной симметрией: для России хороши высокие цены, для Германии — низкие, что русскому здорово, то немцу смерть).
Постмодернистская нонселекция (то есть принцип «ни одна блоха не плоха») определяет выбор героев — точнее, отсутствие выбора. Есть, например, в романе сцена, где беседуют Юлиан Семенов, Путин, Джоанна Роулинг, Умберто Эко, А. А. Зиновьев и диссидент Павел Литвинов. Говорят о Штирлице. Все персонажи — медийные фантомы, подретушированные и со слегка измененными именами, а главное развлечение читателя — декодировать эти знаки: «Ага, это Путин. Смотрите-ка, Штирлиц! А Конрад Эйбесфельд — это кто? Непонятно, погуглим. Ага, Конрад Лоренц плюс его ученица». Ни о каких характерах нет и речи. Глиняные големы и резиновые куклы бубнят совершенно одинаковым — авторским — голосом.
В итоге получается псевдоинтеллектуальная картинка на манер нелюбимого Зоном Ильи Глазунова: исторические деятели, писатели и ученые выстроены в три шеренги, и у каждого на физиономии и в биографии что-нибудь подправлено. Правда, Глазунов придавал лицам благостное выражение, а Зон предпочитает глумливо-похабное.
Та же нонселекция в стиле.
Пишет Зон очень неровно. Тут надо учесть одну вещь: старорежимное авторское право, как известно, отменили еще во время бури и натиска постмодерна, но Зон эту свободу понимает уж очень широко. Так широко, что не меньше половины книги составляют незакавыченные цитаты. Ворует он отовсюду: ломтями нарезает Википедию, десятками страниц переписывает Шолохова и Крюкова, а вся последняя часть — это просто текст «Альтернативы» Юлиана Семенова, сильно сокращенный и с многочисленными чужеродными вставками. Поэтому читателя попеременно бросает из жара в холод и обратно: кто подзабыл или не читал Шолохова и вовремя не сообразил, что ему отгружают «Тихий Дон», тот может увлечься и даже ахнуть: о, как сделано-то! Но как только Зон прерывает цитату, чтобы сказать что-нибудь свое, хочется закрыть книгу.
Особенно раздражает то, что в речь автора и героев периодически вставляются матюги. Я не пурист, слова — как краски, все зависит от того, где, когда и в каком сочетании они накладываются. Но беда в том, что у Зона мат вводится без малейшей художественной надобности — такое впечатление, что его равномерно рассыпает по тексту некая программа «Оживляж».
Та же программа, видимо, распределяла гэги.
Зон постоянно хохмит. Некоторые шутки забавны: поэт Вознесенко, автор стихов «Уберите Гиммлера с денег!», или вот: «Борман, заснятый в лыжной шапочке у костра, похож на сочинителя лирических песенок». В целом же, несмотря на вроде бы игровой характер и постоянное подмигивание, книга получилась несмешная. Уж больно глубокомыслен и тяжеловесен этот юмор. Хотел бы я посмотреть на человека, который начнет ржать и биться от хохмы «альпинист Эйтингон». Тут разве что профессиональный историк ухмыльнется.
Все вышесказанное не означает, что роман плох. Достоинств у книги много, и главные из них — это тщательно, до последней детали продуманная альтернативная реальность и виртуозно закрученный сюжет.
Зон выбирает ту точку, в которой история действительно могла пойти иначе. Эту точку подметил Юлиан Семенов в «Альтернативе». Речь идет об апреле 1941 года, когда Гитлер решал — сразу нападать на Сталина или сначала разобраться с Югославией?
Вот тут автор и вносит в историю маленькую поправочку: Германия нападает на СССР на месяц раньше — 9 мая 1941 г. А поскольку главные враги врагов России — это распутица и мороз, месяц форы оказывается решающим: в октябре немцы берут Москву. Сталин убит, Ленинград сдан, но война продолжается на Кавказе и под Сталинградом.
Вторая поправочка: Гейзенбергу с подсказки Майкла Фрейна (усиленно подмигиваем тем, кто понимает) удается сделать немецкую атомную бомбу к августу 1944 года, одновременно с американцами. После нескольких локальных ядерных ударов наступает мир, и Европа делится на профашистскую (тоталитарную, и, стало быть, обреченную на вырождение и застой) и проамериканскую (стало быть, в будущем процветающую).
Эту картину мира кое-кто в спецслужбах хочет исправить, и потому прогрессор Адам Зон-Витицкий прибывает в 1941 год, где поселяется в теле своего дедушки — тоже Адама Витицкого — и убивает… Штирлица.
Господибожемой, почему Штирлица?
А потому что Макс Отто забыл завет Дзержинского о холодной голове чекиста, разволновался и просчитался: рассорил Сталина с Белградом, предотвратил вторжение немцев на Балканы, а Гитлер взял и напал 9 мая на СССР. И есть только один способ исправить ошибку резидента: задавить его, как бабочку Брэдбери. Тогда в начале мая Гитлер нападет на Югославию, а войну против СССР будет вынужден перенести на вторую половину июня. Ну а потом немцам не хватит месяца до начала распутицы и холодов, чтобы взять Москву, и получится другая история. Та, которую мы знаем. «Окончательная реальность». Стало быть, помимо исторических экзерсисов, Зон говорит нам и том, что убив литературного героя, можно попасть в другой, нелитературный, незнаковый, «несделанный» мир. (Любопытно было бы сравнить это с «Т» Пелевина, где убивают не героя, а автора).
Этот в общем-то стройный сюжет в романе невероятно усложнен. Прежде всего «Тихим Доном», который приплетен сюда совершенно зря. Мотивировка «установление авторства Крюкова — первый импульс перестройки» шита белыми нитками, так же, как мотивировка «„Тихий Дон“ — катализатор путешествий во времени». Можно предположить, что автору просто захотелось покопаться в бесконечной (и нерешаемой) филологической задаче, и вместо того, чтобы приберечь эту историю для будущих сочинений, он сделал ее стержнем своего первого романа и совместил с «альтернативкой». Связи между «Тихим Доном» и изображаемой реальностью нет никакой, но Зон прикладывает огромные усилия, чтобы ее изобрести. В результате получается, что все герои так или иначе связаны с шолоховской проблемой, тайна авторства — это тайна возникновения альтернативного мира, мелькают близнецы, чекисты, графини, брокеры, ударники, Солженицын, серийные убийства шолоховедов, гришки, шашки, абрамы, аксиньи и черт знает что еще.
В принципе понятно, что хотел сказать Зон: «История зависит от литературы» (заметим еще, что главный мориарти в книге — драматург Майкл Фрейн) или же «Смысл истории внутри нас». Но явно перемудрил.
А вот финал прекрасен: на последних страницах сообщается, что весь этот текст написан зачитавшимся сумасшедшим, и далее следует список использованной им (использовавшей его) литературы.
Поскольку «Вильгельм Зон» — псевдоним, надо бы высказать догадки про автора. Москвич (дело не только в московских словечках, но в какой-то общей торопливости). Не профессиональный литератор. Скорее всего, филолог (разбирается в тартуско-московской семиотике и близлежащей лингвистике; хотя и в истории тоже… ну ладно — ученый-гуманитарий). Не первой молодости (такого знания соцкультбыта времен оттепели и застоя у молодого человека быть не может). Вполне либеральных, несмотря на весь «постмодернизм», убеждений (как уже говорилось, он увлеченно рифмует: НСДАП — ВКП(б), СС — ФСБ, что твой Войнович). Дебютант, конечно.
Книга неровная, переусложненная, героев и сюжетных линий хватило бы на два-три романа. Но все-таки при этом яркая, умная, карнавальная. Поэтому хочется пожелать «Вильгельму Зону» не бросать дальнейшее чтение и письмо, несмотря на все претензии критиков. Во времена, когда литература задыхается от душного бытописательства, Зоны ей нужны, как воздух. Как можно больше Зонов, как можно больше внуков Витицкого, выходящих из гетто фантастики в «мейнстрим».
Читать отрывок из книги
О книге Вильгельма Зона «Окончательная реальность»
Купить книгу на Озоне
Андрей Степанов