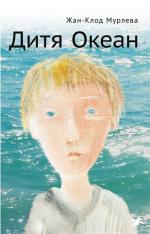- Андрей Геласимов. Холод. — М.: Эксмо, 2015.
В начале марта в «Эскмо» выходит долгожданный роман Андрея Геласимова «Холод». Вызывающий слоган на обложке «На что ты пойдешь, чтобы выжить в минус 50 без тепла?» готовит читателей к книге-аттракциону: пережить аритмию и кратковременную задержку дыхания действительно удастся, но связано это не только с описаниями катастрофы в Якутске. Куда более пронизывающими оказываются моменты войны и мира главного героя, скандального известного режиссера Филиппова, с насмешливым демоном пустоты.
Временами Филиппову действительно хотелось потерять память. Жизнь его отнюдь не была неказистой, однако вспоминать из нее он любил совсем немногое. Список того, что он оставил бы себе после внезапной и давно желанной амнезии состоял всего из нескольких пунктов. Первые места занимали песни Тома Уэйтса, их он хотел помнить всегда; затем шла сверкавшая на солнце, бешено вращающаяся бутылка водки, со смехом запущенная высоко в воздух рукой лучшего друга, который, в отличие от этой бутылки, несомненно подлежал амнезии; лицо двухлетнего сына, покрытое грубой, почти зеленой коркой от бесконечного диатеза, и его слеза, мгновенно исчезающая в глубоких сухих трещинах на щеках, как будто это не щеки, а склоны, и он не ребенок, а маленький печальный вулкан, и склоны его покрыты застывшей лавой. Напоследок Филиппов оставил бы себе воспоминание о беззаботной толстухе в необъятных черных брюках и дешевой цветастой куртке, которая выскочила однажды пухлым Вельзевулом прямо перед ним из метро, нацепила наушники, закивала и стала отрывисто скандировать: «Девочкой своею ты меня наза-ви, а потом абни-ми, а потом абма-ни». Свои требования она формулировала уверенным сильным голосом и, судя по всему, твердо знала, чего ждет от жизни. Вот, пожалуй, и все, о чем Филиппов хотел помнить. Все остальное можно было легко забыть.
Мечта навсегда избавиться от бесполезного и надоевшего балласта не раз приводила его в игривое настроение, и тогда он просто имитировал утрату памяти, но, даже отчаянно придуриваясь перед своими армейскими командирами, институтскими преподавателями или всесильными продюсерами с федеральных телеканалов, он всегда немного грустил от того, что на самом деле всё помнит. В этих приколах никогда не было особой цели. Скорее, они служили отражением его тоски по несбыточному. Однако на этот раз Филиппов хотел вульгарно извлечь пользу из любимой, практически родной заморочки. И дело было вовсе не в Зинаиде, с которой он совершенно случайно познакомился в Домодедове, и даже не в том, что он по-настоящему грохнулся в обморок в самолете — нет, дело заключалось в том, зачем он летел в свой родной город.
Филиппову было стыдно. Все связанное с этим чувством ушло из его жизни так давно и так основательно, что теперь он совершенно не знал, как себя вести — как, вообще, себя ведут те, кому стыдно, — а потому волновался подобно девственнику накануне свидания с опытной женщиной. Впереди было что-то новое, что-то большое, о чем он мог только догадываться, и теперь он ждал этого нового с любопытством, неуверенностью, и как будто даже хотел встречи с ним. Стыд бодрил его, будоражил, прогонял привычную депрессию и скуку. Филиппову было стыдно за те слова, которые он собирался произнести в лицо последним, наверное, оставшимся у него близким людям — тем, кому он еще не успел окончательно опротиветь. Ему никогда не было стыдно за свои выходки, но сейчас он испытывал стыд за вот такого себя, у которого хватает наглости не только на безоговорочное предательство, но и на то, чтобы, совершив это предательство, явиться к обманутым с бессовестной просьбой о помощи.
Два дня назад в Париже он подписал бумаги на постановку спектакля, придуманного его земляком, партнером и другом. Тот был известным театральным художником и в свое время многое сделал для того, чтобы странный и никому не нужный режиссер из провинции добился успеха не только в Москве, но стал востребован и в Европе. Без его неожиданных, зачастую по-настоящему фантастических идей у Филиппова, скорее всего, ничего бы не вышло, и дальше служебного входа в московских театрах его бы так и не пустили. Буквально за пару лет их внезапный и свежий тандем покорил самые важные сценические площадки, привлекая к себе внимание неизменным аншлагом, скандальными рецензиями и не менее скандальным поведением режиссера. Однако на этот раз французы хотели одного Филиппова — художник у них был свой.
Разумеется, он мог не подписывать с ними контракта, но предложение было таким хорошим, Париж осенью — таким манящим, да еще агент намекнул, что после Парижа, скорее всего, откроется опция с одним из бродвейских театров, что Филиппову, который струсил все это потерять, в конце концов пришлось подписать бумаги. Он так и говорил себе: «Мне пришлось», как будто у него на самом деле не осталось выбора. На Север в свой родной город он теперь летел, чтобы, во-первых, самому объяснить другу, что у него не осталось выбора, а, во-вторых, ему позарез нужны были эскизы спектакля, в которых его друг, насколько он знал, уже успел сформулировать все свои основные и, наверняка, решающие для успеха этой постановки идеи.
В общем, гораздо легче было бы прибегнуть к старому доброму беспамятству и разыграть партию с другом по давно проверенной схеме, прикинувшись опять, что он все забыл, и в процессе как-то сымпровизировать, выкрутиться, чтобы в итоге получить эскизы, но тут, как на грех, подвернулась Зинаида, и Филиппов не удержался. В легкой атлетике, насколько он помнил, это называлось фальстарт. К тому же он пошло хотел узнать, что о нем говорят на родине. Покинув промерзший северный город более десяти лет назад, он еще ни разу туда не возвращался, и потому не знал как там к нему относятся. До нынешнего момента ему на это было просто плевать. В списке того, что подлежало забвению, это место числилось у Филиппова под номером один.
* * *
— Через десять минут наш самолет приступит к снижению. Просьба привести спинки кресел в вертикальное положение, поднять откидные столики и застегнуть ремни безопасности.
Филиппов открыл глаза и покосился на Зинаиду. Та смотрела в спину старушке, прилипшей к иллюминатору. Очевидно бабушка хотела созерцать бескрайние поля облаков не только глазами, но еще плечами и даже кофтой.
— Расчетное время прибытия двенадцать часов, — продолжал голос в динамиках. — Местное время одиннадцать часов двадцать минут. Температура в городе минус сорок один градус.
— Сколько, сколько? — протянул кто-то сзади.
— Ни фига себе, — отозвался другой голос. — В октябре!
Филиппов не помнил наверняка, сколько должно быть градусов у него на родине в конце октября, но точно знал, что не минус сорок. Это была скорее декабрьская погода. Вообще, все эти холода припоминались довольно абстрактно — как детские обиды или приснившийся кому-то другому сон, и даже не сам сон, а то, как его пересказывают. Путаясь и все еще переживая, пытаются передать то, что безотчетно взволновало почти до слез, но из этого ничего не выходит, и все, что рассказывается, совершенно не интересно, не страшно, безжизненно и нелепо. Слова не в силах передать того, что пришло к нам из-за границы слов, — того, что охватывает и порабощает нас в полном безмолвии. Примерно так Филиппов помнил про холод.
За все эти прошедшие годы его тело утратило всякое воспоминание о морозе. Его поверхность больше не ощущала стужу физически, как это было раньше. Его кожа не помнила давления холода, забыла его вес, упругость, плотность, сопротивление. Изнеженная московскими, парижскими и женевскими зимами поверхность Филиппова с трудом припоминала сколько усилий требовалось лишь на то, чтобы просто передвигаться по улице, разрезая собой густой как застывший кисель холод.
Глядя в спину Зинаиде, которая, упрямо на что-то надеясь, продолжала смотреть в спину старушке, Филиппов совершенно непроизвольно и, в общем-то, неожиданно провалился в далекое прошлое. Брезгливо перебирая полезшие из всех самолетных щелей образы и воспоминания, он даже слегка помотал головой, как будто хотел стряхнуть их с себя. До этого момента он был совершенно уверен в том, что они навсегда покинули его, осыпались и скукожились как мерзкая прошлогодняя листва, чавкающая под ногами в мартовском месиве. Но теперь одно только упоминание о настоящем холоде мгновенно пробудило всю эту скучную мразь, и она прилипла к Филиппову, предъявляя свои права, требуя нудной любви к прошлому и внимания.
Глядя в спину розовой Зинаиде, он вдруг увидел себя пятнадцатилетним, бредущим в школу в утренней темноте и в непроницаемом тумане, который на несколько месяцев колючей стекловатой обволакивает зимой город, едва столбик термометра опускается ниже сорока. Одеревеневшая на морозе спортивная сумка из дешевого дерматина постоянно сползает с плеча, норовит свалиться, но поправлять ее нелегко, потому что на пятнадцатилетнем Филиппове огромный армейский тулуп, пошитый или, скорее, построенный в расчете на здоровенного бойца, и щуплый Филиппов едва передвигается в этой конструкции, пиная от скуки ее твердые как фанера, широченные полы. Родные руки в этом сооружении ощущаются как протезы. Или манипуляторы в глубоководном батискафе. Пользоваться ими непросто.
Тулуп раздобыт отцом, у которого блат на каком-то складе, поэтому отвергнуть армейского монстра нельзя. Отец гордится тем, что он, как все остальные, тоже мужик и добытчик, и, выпив после работы, бесконечно рассказывает, какой он ловкий, полезный и незаменимый чувак. Филиппов бредет по убогой улочке вдоль ряда двухэтажных бараков, точнее вдоль ряда громоздких теней, похожих на эти бараки, потому что в темноте и тумане можно только догадываться мимо чего ты идешь. Сумка его, наконец, соскальзывает, но он уже не обращает внимания и продолжает волочить ее за собой по твердому как бетонное покрытие блеклому снегу, прислушиваясь к тому, как грохочут внутри тетрадки в окаменевших от холода клеенчатых обложках. Он бредет за сорок минут до начала уроков, потому что директор заставил учителей проводить в старших классах политинформацию, и теперь подошла очередь Филиппова сообщать своим хмурым, не выспавшимся одноклассникам о тезисах последнего Пленума ЦК КПСС, о возрастании руководящей и направляющей роли Коммунистической партии в жизни советского общества, о нераздельности авторитета партии и государства, о единстве разума и воли партии и народа, а также о выполнении интернационального долга советскими воинами в Афганистане. Почему он ведет такую нечеловеческую жизнь — Филиппов в свои пятнадцать лет не знает.
— Мы как скоты, — бормочет уже из другого, соседнего воспоминания Эльза.
Откуда она появилась в местном театре, Филиппов не помнит. Может быть, из Москвы, а может, из Ленинграда. Во всяком случае ведет себя так, что все остальные актеры автоматически ее ненавидят. Им неприятно быть провинциальным быдлом, требухой актерской профессии, бесами низшего разряда. Впрочем, они ненавидят даже сами себя. А по инерции — всё человечество. Причины этой ненависти в каждом случае разные, но результат всегда один. Ненависть — их самая большая любовь.
Закутанная в невообразимые шали, которых тут на Севере никто не носит, Эльза выныривает из тумана, каким-то чудом узнает в заиндевевшем коконе гибнущего от ненависти Филиппова, приближается к нему, и они замирают, словно два космонавта, неизвестно зачем покинувшие свои корабли.— Мы как скоты, — бормочет Эльза, склоняя к нему голову, чтобы он услышал, и отдирая от лица тот участок платка, в который она дышит и который влажной белесой коркой застыл до самых ее печальных глаз.
Филиппову в этом воспоминании двадцать пять лет. Он уже вдовец и сам покупает себе одежду. Зимой он больше не похож на бродячий памятник. На нем двое штанов, толстый свитер, крытый черным сукном полушубок, ботинки из оленьих камусов, ондатровая шапка и огромные цигейковые рукавицы. Эти совершенно негнущиеся, титанические варежки раз и навсегда вставляются в карманы полушубка и торчат из них, напоминая странного Чебурашку, у которого уши — очевидно, от холода — сползли в район поясницы. Зимой так одето все мужское население города, и каждый абсолютно доволен тем, что он не хуже всех остальных.
Тулупы и полушубки начали сдавать свои незыблемые позиции после горбачевской перестройки, когда сюда зачастили миссионеры. Алмазный край манил их сильнее Царства Небесного, и все эти одухотворенные шведо-мормоно-евангелисты оттягивались на бывшем советском Севере как могли. Выли под электрогитару в кинотеатре, плясали в мебельном магазине, рыдали с микрофоном в руках, раскачивались и взывали: «Твой выход, Иисус!» После их бодрых проповедей никто в городе как-то особо не замормонился, но вот гегемонии крытых сукном полушубков пришел конец. Миссионеры приезжали в ярких импортных пуховиках, и, очевидно, именно в этом состояла их настоящая миссия. Грубые местные недомормоны смеялись над ними, уверяли, что те, как клопы, перемерзнут в своих «куртёшках», но для молодого Филиппова эти фирменные сияющие ризы оказались подлинным и практически религиозным откровением. В двадцать пять лет он экстатически возмечтал о красной куртке на гагачьем пуху, и ничто в целом мире уже не в силах было остановить его на этом высоком пути. Так в его жизни наступил конец эпохи всеобщего черного сукна. Разрыв с родным городом стал неизбежен.
К тому же у него не было больше сил ходить на могилу своей юной жены.
Рубрика: Отрывки
Жан-Клод Мурлева. Дитя Океан
- Жан-Клод Мурлева. Дитя Океан / Пер. Натальи Шаховской. — М.: Белая ворона, 2014. — 104 с.
Артист, клоун, педагог и писатель Жан-Клод Мурлева все превращает в сказку. Его повесть «Дитя Океан» рассказывает о семерых братьях из неблагополучной семьи, самый младший из которых, Ян, от природы одарен необыкновенным интеллектом и способностями к учебе. Несмотря на свою немоту, он разговаривает глазами и может передать любую мысль. Однажды ночью Ян с братьями устраивают побег, чтобы непременно добраться до океана. Зачем? Об этом известно одному Яну, сказочному мальчику-с-пальчику, которому братья помогают воплотить в жизнь загадочную мечту.
Рассказывает Натали Жосс, тридцать два года, социальный работник
Я — одна из последних, кто видел Яна Дутрело живым.
Во всяком случае, насколько мне известно. Он сидел рядом со мной в машине — то есть «сидел» не совсем точное слово: слишком короткие ноги лежат, как палки, под прямым углом к телу, маленькие ступни торчат носками к бардачку. Ремень безопасности свободно болтается. Можно было бы усадить его сзади, в детское автокресло, но я как-то постеснялась. Посмотреть — точь-в-точь большая кукла.До тех пор я никогда не видела подобного человечка. Какого он мог быть роста? Сантиметров восемьдесят? Девяносто? Во всяком случае, едва-едва с двухлетнего ребенка. А было ему десять. Ян был мальчик как мальчик, только в миниатюре.
Тогда я еще мало что знала о моем маленьком пассажире. Знала, что ему десять лет, что его зовут Ян и что он немой. В то утро он явился в свой шестой класс какой-то пришибленный и без портфеля. Конечно, попытались что-то выяснить у его братьев, но те были не намного разговорчивее.Он отпустил мою руку и протиснулся в узкий промежуток между матерью и дверным косяком. Но прежде чем скрыться из виду, он сделал странную вещь — никогда не поверила бы, что такое возможно. Он не обернулся, только приостановился и посмотрел на меня через плечо. Три секунды, не больше. Но эта картина запечатлелась в моем сознании с точностью более чем
фотографической. С тех пор я снова и снова вижу как наяву это лицо, наконец-то обращенное ко мне, этот взгляд — прямо мне в глаза. Я оторопела: было такое ощущение, будто я читаю в этом взгляде, читаю не менее ясно, чем если бы он говорил. Между тем он слова не сказал, пальцем не шевельнул.Прочла я сперва упрек:
— Поздравляю, вы блестяще справились с задачей!
Но тут же следом и благодарность:
— Вы были добры ко мне… и потом, откуда ж вам было знать.
Я пытаюсь убедить себя, что больше ничего и не было, но сама-то прекрасно знаю, что это неправда и что его глаза говорили другое. Кричали другое. А кричали они вот что: ПОМОГИТЕ!
Я этого не поняла или не захотела понять. Я сказала себе, что время терпит, можно отложить до завтра. Но никакого завтра не было.
Рассказывает Фабьен Дутрело, четырнадцать лет, брат Яна
Мы оделись как можно теплее и спустились вниз.
Ступеньки ужас как скрипели, но дождь так барабанил, ветер так свистел, что родители ничего не услышали.
Часы в кухне показывали ровно два.
Прошлепали через двор — Кабысдох и ухом не повел.
А за воротами пошли все вперед и вперед, по проселку, потом по шоссе. В первые же секунды мы промокли, замерзли… и потерялись.
Ян шел впереди. Мы с Реми за ним. Братья следом, держась за руки.Рассказывает Реми Дутрело, четырнадцать лет, брат Яна
Мы поснимали мокрое и закутались в одеяла. Ян угнездился между мной и Фабьеном, глаза закрыл, но я-то его знаю, я видел, что он не спит. Младшие улеглись вповалку на койку за сиденьями. Шофер сперва еще что-то спрашивал — куда мы да откуда, всякое такое.Я показал куда-то вперед. Он вроде бы на том успокоился. По крайней мере, больше не расспрашивал.
В кабине было тепло. Мотор урчал мирно так, уютно. Дорога стелилась под фарами, черная-пречерная под дождем, голые деревья тянулись к небу тощими пальцами; иногда мы проезжали какую-нибудь спящую деревню, потом опять поля… Вот так бы весь век и ехать в этом грузовике. Чтоб он катил да катил и не останавливался — всю ночь, всю дорогу, до самого Океана. Потому что ехал он на запад, это я точно знал. В ту сторону, куда Ян как-то раз показал нам пальцем из окошка нашей спальни, давно еще, в одну летнюю ночь. Показал и сказал:
— Вон в той стороне — запад. Небо там больше, чем здесь, и еще там Океан.
Рассказывает Ян Дутрело, десять лет
Меня зовут Ян Дутрело. Мне десять лет. Однажды ноябрьской ночью, когда лил дождь, я сманил моих шестерых братьев бежать с родительской фермы. Мы отправились на запад. Через пять дней в городе Бордо, что на берегу Океана, моих братьев задержали. А меня нет.Та ночь… я ее не выбирал.
Витольд Шабловский. Убийца из города абрикосов
- Витольд Шабловский. Убийца из города абрикосов. Незнакомая Турция — о чем молчат путеводители / Пер. с польского М. Алексеева. — М.: АСТ: Corpus, 2015. — 304 с.
Сотни тысяч туристов, ежегодно устремляющихся на отдых в Турцию, едва ли подозревают о существовании тех сторон жизни этой страны, которые описал в серии очерков польский журналист Витольд Шабловский. Поговорив с представителями разных слоев современного турецкого общества, он собрал из их голосов пеструю партитуру, в которой нашлось место для нелегальных мигрантов, мечтающих о Европе, премьер-министра Эрдогана, сумевшего добиться небывалого экономического роста, но укрепившего позиции турецких исламистов, террориста Али Агджа, стрелявшего в Иоанна Павла II, и многих других.
Вся Турция в парке Гези
— Наш премьер — исламист и опасный для страны
бандит. От него нужно избавиться, и поскорее,
говорят те, кто оккупировал1
парк Гези.— Вранье! Он гений, посланный нам небесами! — говорят те, кто в парк не пошел.
Я взял спальник, туристический коврик и термос.
И отправился побеседовать с теми и другими. Что их объединяет? Что разделяет? И что даст им эта оккупация?Два племени
Парк Гези прилепился к четырехполосной дороге, посредине фонтан, по углам несколько роскошных отелей.
Стамбульские власти — и турецкое правительство — хотят
вырубить деревья и построить на месте парка торговый
центр наподобие османских казарм. Вот почему в конце
мая 2013 года турецкая молодежь провела здесь акцию протеста, участников которой жестоко разогнала полиция.В ответ в парк пришли тысячи молодых турок, поставили палатки и начали оккупацию. Демонстрация
в защиту парка быстро переросла в акцию протеста против правительства, которое, по мнению митингующих,
не прислушивается к гражданам страны, проводит исламизацию Турции и берет все более авторитарный курс.
Демонстрантов несколько раз разгоняла полиция, турецкий премьер обзывал их сбродом и вандалами, но они все
равно возвращались в парк.Владельцы пятизвездочных отелей были в отчаянии:
почти месяц они терпели значительные убытки. После
первых акций протеста у состоятельных гостей отелей появилась возможность заказать защитные маски от газа — газ,
распыляемый полицией, проникал в роскошные номера.Состоятельные гости приехали сюда по делам или
на стамбульский shopping month — месяц покупок. Ожидались огромные скидки и круглосуточно открытые магазины. Вместо этого — уличные беспорядки и газ, раздражающий нос, горло, бронхи и глаза. Почувствовав запах
газа, гости поднимались на террасы своих отелей. Оттуда
было прекрасно видно:1) собравшихся в парке молодых взбунтовавшихся турок с длинными волосами, вернувшимися в моду усами,
гитарами и плакатами с перечеркнутой физиономией
премьера Реджепа Тайипа Эрдогана;2) турок постарше, с большими животами, в дешевых
и дорогих костюмах, с сигаретой в одной руке и мусульманскими четками в другой, сосредоточенных и нервно
расхаживающих вокруг парка.— Турция поделена ровно пополам, на два племени, —
говорит, глядя на пузатых, Зубейде Топбас, студентка
социологического факультета, оккупирующая парк Гези
в красной палатке. Мы сидим в ее палатке на туристических ковриках, а неподалеку кто-то наигрывает на багламе
песни времен революции Ататюрка.Зубейде двадцать четыре года, у нее черные волосы
и смуглая кожа, в парк она пришла лишь на третий день
протестов:— Поначалу я не верила, что из этого что-то выйдет.
Мои знакомые годами повторяют, что сыты правящей
партией по горло. Это я слышала, когда депутаты АКР —
Партии справедливости и развития — хотели ввести уголовное наказание за супружескую измену. Потом — когда
они запрещали теорию эволюции. Когда обязывали девочек носить платки в школах. Я думала, на этот раз тоже
все ограничится болтовней. Потому что раньше любая
дискуссия заканчивалась тем, что это, мол, они добились
экономического роста, они добиваются для Турции членства в Евросоюзе. А то, что заодно много говорят об исламе? Что ж, видимо, в этой стране иначе быть не может.И лишь увидев на Би-Би-Си (турецкие СМИ поначалу даже не упоминали о протестах), что на самом деле
происходит в парке, прилегающем к главной стамбульской площади Таксим, Зубейде собрала рюкзак, отыскала
колышки от старой палатки и отправилась с подружкой оккупировать Гези. В первый же день она выложила
в «Фейсбук» фотографию себя и подруги в палатке и добавила тэг: #occupygezi. Еще ни разу ее фотографии не собирали столько лайков — пятьсот за несколько минут.— Лайкали люди, которых я вообще не знала, я даже
не представляла, что такое возможно. Есть над чем задуматься, — говорит Зубейде. — Эмоции зашкаливают.
Самое ужасное сейчас то, что наши политики не сглаживают различия между турками, а, наоборот, сознательно
их подчеркивают. Я уверена, что Эрдоган цинично использовал нашу акцию протеста, чтобы выиграть выборы в органы местного самоуправления в будущем году.
Чтобы консолидировать своих избирателей, которых
все же гораздо больше, чем людей думающих, таких, как
мы. Точь-в-точь как Путин, который в девяностые годы
выиграл выборы в России, ударив по чеченцам. У нас нет
чеченцев, у нас есть курды, там в последнее время все спокойно, но повод натравить одних турок на других всегда
найдется. Неверующих на верующих. Либералов на социалистов. Богатых на бедных.— Тогда в чем смысл этой акции протеста, если, по-твоему, она и так на руку власти?
— А какой у нас выход? — Зубейде крутит прядь волос. — Снова покорно кивать? Делать вид, что ничего
не произошло? Что он может безнаказанно построить
мечеть в самом сердце светского государства?— Он говорил об этой мечети в преддверии последних
выборов. И выиграл.— У нас и так в сто раз больше мечетей, чем школ
или больниц. Культура в упадке, на театр нет денег.
Но на строительство мечети всегда найдется. Хочешь сделать карьеру на госслужбе — отправляйся на пятничный
намаз. Лучше в рабочее время, чтобы начальство видело.
Так что извини, но об очередной мечети и речи быть
не может.Красивые парни
— А мне мечеть вообще не мешает. Стояла бы себе возле
парка Гези. Вот только не понимаю, чего Тайип прицепился к нашему парку, — у Тайфуна тоненький голосок,
почти фальцет, и он так карикатурно сгибает руку в запястье, что я никак не пойму, подчеркивает ли он этим свою
сексуальную ориентацию или же, наоборот, насмехается
над геями. Мы сидим у стойки одной из организаций, защищающей права сексуальных меньшинств. В парке у нее
два столика, за которыми, например, можно побеседовать
с транссексуалом. Они раздают презервативы и… бутерброды с сыром.— У Тайипа такая попка! А когда он злится, он такой
сексуальный… — мечтательно улыбается Тайфун, словно
забыв, что говорит о консервативном премьер-министре
своей страны, которому в последнюю очередь хотелось бы
услышать комплимент из уст гея. — Я тебе кое-что расскажу по секрету, — он наклоняется к моему уху. — Тайип
ликвидирует парк Гези из-за меня.— Как это?
— Ну, из-за меня и моих друзей. Мы приходим сюда
перепихнуться, — Тайфун смеется, а я пользуюсь паузой,
чтобы получше его рассмотреть. На вид ему лет сорок,
на нем обтягивающие джинсы, футболка с радужным
флагом и ремень с шипами, грудь у него бритая. — Сюда
приходят красивые парни со всего города. И еще шлюхи —
парни, которые занимаются проституцией. И трансвеститы. Парк Гези славится этим на всю Турцию. Тайипчик знает, ведь он вырос неподалеку, — говорит Тайфун
и показывает рукой в сторону района Касымпаша, где
действительно прошло детство турецкого премьера.О том, что парк Гези навлек на себя гнев Эрдогана
именно выходками геев, я слышал от моих турецких коллег-журналистов. Геев пришлось убрать, потому что здесь
появится мечеть. Чтобы они убрались наверняка, парк
нужно ликвидировать, обнести забором и построить что-нибудь посередине.— С тех пор как нас выгнали из Гези, все шлюхи стоят
в боковых улочках — пройдись, и ты увидишь, как они
вертят попками. Тайип нам бешено завидует: кто ж не любит хорошенькие попки? Вот почему он велит свозить
сюда какие-то дурацкие экскаваторы, бульдозеры, строить какие-то османские казармы. Он хорошо знает, что
делает. Ты только представь себе, что в таких казармах
между солдатами творится. Хи-хи-хи, — Тайфун заливается смехом от одной только мысли об этом. — Но у меня
почему-то не получается на него сердиться, хоть он нас
газом травит. В этом весь я — всегда улыбаюсь. Когда
я еще жил в Конье, меня пидором обзывали. Люди там
темные, для них что пидор, что гей, у меня не было сил
что-то им разъяснять. Я им отвечал: может, я и пидор, зато
хорошенько оттраханный. Меня за это били по голове,
а потом, когда уже никто не видел, многие просили меня
отсосать. Я? Отсосать? Говорю тебе, что в Конье никто гея
от пидора не отличает. Пришлось оттуда уехать, не то забили бы меня насмерть.Я приехал в Стамбул, стал жить с одним старым геем,
который уже ходить не мог, и я каждый день привозил
его в инвалидной коляске в Гези. Сам он к тому времени
ни на что не годился, но посмотреть любил. Он просил
похоронить его в парке, потому что здесь, по его словам,
ему довелось пережить самые прекрасные мгновения
своей жизни. Но ничего из этой затеи не вышло, да, пожалуй, оно и к лучшему, иначе сегодня его выкопали бы
этими экскаваторами. Да еще и газом бы угостили.Когда полицейские появились в первый раз, шлюхи
из парка начали ругать Тайипа. Мол, он диктатор и фашист. Полицию на нас натравливает. Но я не люблю
людей фашистами называть. Я им говорю: а кто ж вам
столько красавчиков полицейских привел?! Смотрите-смотрите, может, ничего красивее в жизни не увидите.
Смотрите, как они вертят попками, как бьют вас палками.
Смотрите и благодарите судьбу за Тайипа, который нам
все это дал!Граната в пакете
И все же обычно столкновения с полицией были не столь
приятны.За день до самой жестокой атаки на демонстрантов
Мустафе, студенту юридического факультета из-под Измира, какой-то мужчина хотел подсунуть гранату.— Он назвался солдатом, сказал, что после начала протестов под шумок дезертировал из части и украл несколько
штук. Пытался всучить мне какой-то предмет в пакете,
якобы гранату. Утверждал, что гранаты нам нужны, чтобы
защищаться, потому что полиция скоро за нас как следует
возьмется, — говорит Мустафа. — Как мы поступили?
Да я даже в руки не захотел это брать. А вот мои друзья
хотели ему задницу надрать. Ясно, что это был засланный казачок или провокатор. К тому же полный идиот:
заявился с таким предложением в лагерь пацифистов. Видишь эту большую А в кружочке? Висит прямо на входе.
Оружие — последнее, что нам можно всучить. Тот тип
убежал, а мы за ним через весь парк гнались и кричали:
«Вон отсюда!»Даже думать не хочу, что было бы, найди они у нас
эту гранату. Ведь полиция только и ждала чего-то такого!
Сюда каждый день такие типы приходили. Мой друг видел одного из них. Во время столкновений с полицией
тот бросал в полицейских зажигательные бомбы. А потом,
когда моего друга скрутили и вели в автозак, тот же тип
ударил его ногой в живот. Даже не переоделся.— Мустафа, а зачем полиции устраивать провокации?
— Потому что мирных демонстрантов нельзя травить
газом и разгонять силой. Это плохо выглядит. С ними
нужно вести переговоры. Здесь сплошные мирные фрики.
Мы тут сидим больше десяти дней и помимо политики
разговариваем о веганстве, фрукторианстве, смотрим
разные фильмы — пять кинотеатров в парке открылось.
У нас есть дискуссионный клуб, юридическая консультация, массажист, парикмахер. Ничего подозрительного
не происходит. Я, кстати, маме обещал, что ни в каких
глупостях участвовать не буду. Мама меня одна вырастила, я ей многим обязан. В Турции одинокой женщине
приходится нелегко, так уж у нас принято в культуре, что
женщина что-то значит, только если за ней муж стоит.
Поэтому, когда мама сказала: «Сынок, может, не пойдешь
в этот парк?», я ей ответил: «Мама, я иду туда для тебя.
Если нами и дальше будут править эти чурбаны из АКР,
таким женщинам, как ты, будет только хуже. Для тебя
я здесь сижу, и обещаю, что все будет в порядке».Так и есть. Смотри, сколько здесь продавцов кофе
и чая. Будь мы опасны, они бы нас боялись и не пришли.
А ведь хватило бы единственной гранаты, чтобы обвинить нас во всех смертных грехах и упечь в тюрьму лет
на пятьсот.Демократия в трудные времена
— Не такие уж они невинные. Ты бы видел, как они мой
магазин грабили. Я бы этих панков в асфальт закатал, —
негодует хозяин магазина Метин. Его магазин — мыло,
повидло, жевательная резинка и немного выпивки — закрыт уже неделю. Оккупировавшие парк Гези сначала
стащили у него несколько коробок с печеньем, потом закрасили аэрозолем витрину, а под конец написали на защитных рольставнях ругательства, так что убытки Метин
понес весьма конкретные. К тому же он невероятно огорчен. По его словам, голоса таких, как он, верных избирателей Эрдогана никто не слушает.— Я смотрю новости на иностранных каналах, как молодые турки борются с авторитарной властью, и не верю
своим ушам. Площадь Таксим сравнивают с египетским
Тахриром? Вы там себе на Западе постучите по своим
европейским головам! Разве можно премьера, который
трижды выиграл парламентские выборы и дважды референдум, чей ставленник стал президентом страны, разве
можно такого премьера сравнивать с Мубараком?! Я понимаю, что у людей есть право защищать парк. Но разве
они знали планы Эрдогана? Да ведь он хотел еще деревьев в парке посадить! Ну да, в середине парка построить эти османские казармы, но вокруг парк стал бы
только гуще.— Раз все должно было быть так хорошо, что же тогда
случилось?— То же, что и всегда! С тех пор как Эрдоган выиграл
первые выборы, в СМИ и за границей начались беспардонные, ничем не обоснованные нападки. Вот уже десять
лет я слышу, что он исламист, что он введет шариат и превратит Турцию во второй Иран. И всем глубоко плевать,
что за это время турецкая экономика вышла в мировые
лидеры. Что экспорт вырос в три раза. Что у нас в три раза
больше инвестиций, дорог, всего!Я начинал пятнадцать лет назад с маленького киоска
в плохом районе, а сегодня у меня пять магазинов в разных частях города. Тружусь не покладая рук и никогда
не жалуюсь. Тем, что имею, я во многом обязан правительству, которое помогает малому бизнесу. Да и крупному, впрочем, тоже. Неслучайно турецкая биржа сегодня
показывает самые быстрые темпы роста в мире.— А ислам? Почему запрещают стюардессам красиво
одеваться?— Да я тебя умоляю! Будь они такими исламистами, как
о них говорят, разве я смог бы продавать алкоголь? За них
голосует весь восток Турции, там люди очень консервативные, алкоголь для них хуже черта, поэтому правительству приходится время от времени перед ними расшаркиваться. Там многие уже давно ворчали, что, отправляясь
в паломничество в Мекку турецкими авиалиниями, они
не желают видеть стюардесс в мини-юбках. Это правда
сложно понять?Но главное — наш премьер чертовски прагматичен.
И управленец отличный. Вы не хотели нас в Евросоюзе?
Пеняйте на себя. Уже сегодня по уровню заработной
платы и жизненным стандартам мы обгоняем Болгарию
и Румынию, а может, и Грецию. Еще пара лет, и Евросоюз
будет умолять нас вступить в него.— Метин, а ты знаешь, что даже в Китае в тюрьмах сидит
меньше журналистов, чем в Турции? Ваш премьер — прекрасный правитель, но ведь его правда тянет в авторитаризм. Для меня протесты в парке Гези — это как желтая
карточка. Как предупреждение: премьер, не иди этим путем.— Знаешь, — Метин делает глубокий вдох и некоторое
время смотрит на холодильник с алкоголем, словно хочет найти там подтверждение тому, что он вот-вот скажет, — время сейчас непростое. И по мне, пусть лучше
мою страну ведут, может, и жесткой, зато уверенной рукой. До Эрдогана в нашей политике был бардак похлеще,
чем в итальянской. Ни одного решения не могли принять,
всем заправляла мафия. Экономика катилась в тартарары.
Сейчас все это удалось изменить. Кроме того… — Метин делает паузу и переводит взгляд с холодильника с алкоголем на висящий над дверью портрет. Это портрет
Мустафы Кемаля, отца современной Турции. Такие порт-
реты висят почти в каждом турецком магазине, парикмахерской, в кабинетах врачей, госучреждениях и ресторанах. Ататюрк для турков поистине святое. — Он ведь
тоже правил авторитарно, — произносит наконец Метин
и переводит взгляд с портрета на меня.Наследие Ататюрка
Меня не удивляет, что Метин долго не отваживался вслух
сравнить Эрдогана с Ататюрком. Ататюрк умер еще
до начала Второй мировой войны, но для протестующих
он по-прежнему остается важнейшей точкой отсчета.
На окраине парка я наткнулся на двух яростно спорящих
парней, на вид обоим было чуть меньше тридцати.— Если не пойдешь с нами, значит, ты не настоящий
турок, — кричит один из них. — Тебе плевать на демократию, на развитие. На наследие Ататюрка!— Это тебе плевать на Ататюрка! — кричит второй
и рвется в драку.Друзьям приходится их разнимать, потому что они вот-вот, прямо как на деревенской свадьбе, набьют друг другу
морды. С Ататюрком не шутят. В парке Гези на него ссылались почти все, кроме разве что курдов (Ататюрк перечеркнул их надежды обрести самостоятельное государство),
радикальных левых и анархистов. Даже у веганов были с собой его фотографии. Даже у коммунистов был плакат, на котором между Ататюрком и Лениным стоял знак равенства.Когда полиция решила отбить парк Гези, первым делом она в семь часов утра сбросила нелегальные баннеры
с изображением Ататюрка с центра его имени. Сбросила
лишь затем, чтобы повесить очередной баннер, на сей раз
легальный.— Мустафа Кемаль оккупировал бы парк Гези вместе
с нами! — кричит девушка в джинсовой рубашке, увешанной булавками, и с пирсингом в носу. — Дело не в деревьях, дело в республике!Несколько часов спустя в Анкаре премьер Эрдоган
говорит очень похожие слова, выступая в меджлисе, турецком парламенте. С той лишь разницей, что слова его
направлены против тех, кто оккупировал парк.Немного уроков
— Я с начальной школы столько не учился, сколько
здесь, — радуется Метин, бухгалтер в госучреждении.
Лучше не писать, в каком именно, хотя, скорее всего, его
и так уволят, несмотря на больничный, выписанный ему
знакомым врачом на время протестов. Но дело шито белыми нитками — Метин заболел именно в тот день, когда
на Таксиме впервые разорвались гранаты со слезоточивым
газом. Учреждение подчиняется мэру Стамбула Кадиру
Топбашу. А тот во всем подчиняется премьеру Реджепу
Тайипу Эрдогану. Вряд ли он потерпит, чтобы в рядах его
сотрудников завелись раскольники, призывающие к свержению правительства.— А мне все равно, — говорит Метин и для пущей убедительности хмурит брови и цокает, что в Турции означает крайнее неодобрение. Мы сидим перед зеленой палаткой фирмы Quechua, эту палатку он поставил со своей
девушкой между буфетом, временно превращенным
в пресс-центр парка Гези, и площадью с великолепным
фонтаном. — В правительстве все решают люди из АКР,
то есть Партии справедливости и развития. Мои коллеги
по работе за обедом обсуждают, кто в какую мечеть ходит и что именно имел в виду пророк Мухаммед, когда
говорил о женщинах. Я совершенно серьезно, они о таких вещах спорят. Среди нас есть несколько неверующих,
но до недавнего времени мы не высовывались. Никто
из моих сослуживцев на Таксим не явился. Предпочитают
сидеть тихо, ведь всем известно, что лучше государственной должности ничего не найдешь.— А чему вы учитесь в Гези?
— Много чему! Вот ты, например, знаешь, сколько горит
экскаватор? Вот видишь, не знаешь. Если его не тушить,
то он может гореть целый день, хотя через несколько часов в основном горят уже только шины. Сходи туда, где
они хотят построить мечеть, там увидишь наш автопарк.
У нас там несколько экскаваторов, трактор, грузовик.
Мы его зовем Мэтр, потому что кто-то пририсовал ему
отличную улыбку — прямо как в мультике «Тачки».Из-за премьера нам пришлось научиться защищаться
от слезоточивого газа. Этими масками, которые здесь
на каждом шагу продают по три-четыре лиры за штуку,
можешь дома телевизор украсить. Уж лучше взять несколько бумажных платков и смочить их водой. А от газа
отлично помогает лук или лимон.О людях мы тоже много узнаем — психология толпы
в чистом виде. Сюда каждый день приходили парень с девушкой. Он радикал, она смотрела на него как на святого.
Он подбивал народ устроить протесты по всему городу,
поджечь американское консульство, несколько машин,
какой-нибудь магазин. И что? Стоило только появиться
полиции, как он первым свалил, даже газ не успели распылить. Зато его девушка осталась и неплохо справлялась.
Наверное, сама удивилась, что ее парень оказался таким
yarrak. Что значит yarrak? Ну, мужской половой орган.Эрдоган не Мубарак
Для Сундуз, домохозяйки из Стамбула, протесты в парке
Гези — science fiction. Мы беседуем в ее просторной квартире в богатом либеральном районе Мачка. У мужа Сундуз свой бизнес в текстильной сфере, он ездит по всему
миру, а она проводит время в стамбульских торговых
центрах и в гостях у не менее удачно вышедших замуж
подруг. Парк Гези отсюда всего в нескольких километрах,
но кажется, будто до него как до Луны.— Мои дети участвовали в протестах, — говорит Сундуз. — У дочери неподалеку салон красоты, она его открыла настежь для демонстрантов. Те ходили туда пописать и освежиться. Но я полжизни прожила в Германии
и иначе смотрю на эти протесты. На мой взгляд, ничего
ужасного в Турции не происходит. Мечеть? У нас много
мусульман, значит, много и мечетей. Люди жалуются,
что все больше женщин носят платки. Но это неправда.
По данным исследований, их все меньше. Но те, кто
носит платки, стали чаще выходить из дома. А это ведь
хорошо, правда? Когда они по домам сидят, то их мужья
бьют. Пусть лучше выходят.— А авторитарные амбиции премьера? А газ?
— Ну да, газ. Обрати внимание: премьер использовал
слезоточивый газ, и скандал на весь мир. СЛЕ-ЗО-ТО-ЧИ-ВЫЙ ГАЗ! Не оружие, не войска. Не выехал ни один
танк, просто пришел отряд полиции и навел порядок,
точно так же, как в любом другом европейском городе.
В Германии я не раз такое видала, и мир не бился в истерике и не сравнивал ее с ближневосточными сатрапами.Будь он Мубараком, стрелял бы на поражение.
Будь он Асадом, сравнял бы полстраны с землей.
А он использовал газ, точно так же, как это делает полиция в Париже или Берлине. Говорят, он не всегда прислушивается к чужому мнению? А разве Маргарет Тэтчер
прислушивалась? А Жак Ширак? Если молодежь думает,
что в странах Евросоюза можно оккупировать площадь
в центре города и не получить в ответ газ, значит, она понятия не имеет о Европе. В то же время Турция — гораздо
более европейская страна, чем полагают многие. Более
европейская, чем думает сам Эрдоган. Конечно, я вижу,
что его клонит в авторитаризм, может, он и впрямь возомнил себя султаном. Но, с другой стороны, Европейский
союз — главный партнер турецких бизнесменов. А Эрдогана кормит бизнес. Он покричит, побушует, но никогда не сделает ничего вопреки интересам людей, которые
приносят деньги.Турция спустя год после Гези
Во время оккупации парка Гези и акций поддержки для
протестующих погибло семь человек — шестеро демонстрантов и один полицейский, под натиском толпы
упавший с моста в городе Адана. Более восьми тысяч
человек были ранены. Двенадцать демонстрантов лишились зрения в результате действия слезоточивого газа,
удара баллоном с газом или избиения полицией. Парк
стоит на прежнем месте, хотя в нем уже нет палаток, гитар, багламов и флагов. Зато в него вернулись геи и, как
и раньше, назначают там свидания. В турецких тюрьмах
сидит больше журналистов, чем в любой другой стране
мира. Директоров медиахолдингов зачастую запугивают.
Символическое значение обрел документальный фильм
о жизни пингвинов, который станция CNN Turk показывала на пике протестов. Другие каналы транслировали
танцевальные конкурсы или повторы политических дебатов. Журналисты общественного телевидения, открыто
выразившие свое возмущение в социальной сети «Фейсбук», потеряли работу. Турция по-прежнему остается экономическим лидером в регионе, хотя тот, кто в 2013 году
купил акции турецких компаний, понес убытки.Партия премьера Эрдогана продолжает лидировать
во всевозможных опросах. Еще до протестов в Гези авиалинии Turkish Airlines разрешили стюардессам пользоваться помадой. В 2013 году, третий раз подряд, эта авиакомпания была названа лучшей в Европе.1 Акции протеста, прошедшие в мае — июне 2013 года в Стамбуле и ряде
других городов Турции, получили название «Оккупируй парк Гези».
Джонатан Келлерман, Джесси Келлерман. Голем в Голливуде
- Джонатан Келлерман, Джесси Келлерман. Голем в Голливуде / Перевод А. Сафронова. —
М.: Фантом Пресс, 2015. — 512 с.В издательстве «Фантом Пресс» готовится к выходу роман психолога и автора детективных бестселлеров Джонатана Келлермана и его сына, писателя Джесси Келлермана. «Голем в Голливуде» — напряженный и решительно непредсказуемый детектив о мести и искуплении. В книге смешались древние легенды, полицейские будни (без надежды на праздники), одержимая погоня за неудобной истиной, упрямые попытки смеяться, даже когда впору заплакать, подлинное горе, редкая, но острая радость и — вечная любовь, потому что без нее не бывает вечности.
Гилгул*
Рожденный от матерей Алеф-Шин-Мем, Дух Отмщения, что пилигримом скитается у врат вечности,
сойди в сей несовершенный сосуд, дабы в миру
исполнилась воля Бесконечного, аминь, аминь, аминь.Под невообразимым гнетом разум сплетается, стягивается.
— Восстань.
Приказ мягок, ласков и неукоснителен.
Она восстает.
Чувства сгрудились, словно дети в куче-мале. За локоток она растаскивает их порознь. А ну-ка, слушаться.
Промокший полог, корявые лапы, тоскливый хриплый
вой. В ослепительном пламени мрак высекает контуры:
великанская могила, куча грязи, лопаты, следы сапог
вкруг раскаленной опушки, что потрескивает, остывая.Величественный красивый старик высок, как радуга,
широкие плечи его укрыты ниспадающим черным балахоном, на блестящей лысине круглая шапочка черного
бархата. В лунном свете блестят его добрые карие глаза,
начищенным серебром сияет борода. Губы решительно
сжаты, но в уголках рта затаилась радость.— Давид, — зовет старик. — Исаак. Возвращайтесь.
Через долгое мгновенье появляются два молодца, но
держатся в сторонке, прячась в листве.— Он вас не тронет. Правда… — доброглазый старик
не выдерживает и улыбается, — Янкель?Это не мое имя.
— Да. По-моему, так хорошо. Янкель.
У меня есть имя.
— Ты их не обидишь, правда?
Она мотает головой.
Молодцы робко подходят. У них черные бороды,
их скромные одежды промокли под дождем. Один потерял шапку. Другой вцепился в лопату и беззвучно
молится.— Все хорошо, ребе? — спрашивает простоволосый.
— Да-да, — отвечает доброглазый старик. — Приступайте. Дел много, а путь неблизкий.
Молодцы хватают ее и втискивают в слишком тесную рубаху. Унизительно, когда тебя облачают в кукольную одежду, но это ничто по сравнению с дурнотой,
накатившей, когда она себя оглядывает.Корявые шишкастые лапы.
Широченная грудь.
Бескровное бугристое тело.
Она чудовищна.
И верх издевки — мужской детородный орган. Чуждый и нелепый, он, точно дохлый грызун, болтается меж
бочкообразных ног.Она пытается закричать. Хочет оторвать его.
И не может. Она безвольна, нема, ошарашена, язык
непослушен, горло пересохло. Молодцы втискивают ее
безобразные ступни в башмаки.Давид приседает, Исаак, взобравшись ему на плечи,
капюшоном укрывает ей голову.— Вот так, — говорит ребе. — Теперь никто ничего
не заметит.Закончив облачение, взмокшие молодцы отходят,
ожидая вердикта.Едва ребе открывает рот, ее левый рукав громко
лопается.Старик пожимает плечами:
— Потом подыщем что-нибудь впору.
Они выходят из леса и бредут по болотистым лугам.
Промозглый туман плывет над высоким бурьяном, что
лишь щекочет ей коленки. Дабы не замарать балахоны,
мужчины шагают, задрав подолы; Исаак Простоволосый
натянул воротник рубахи на голову.Подворья оживляют монотонный пейзаж под унылым облачным небом; наконец путники выходят на слякотную дорогу в навозных кучах.
Ребе негромко утешает. Конечно, Янкель в смятении,
говорит он, это естественно. Этакий раскардаш души и
тела. Ничего, пройдет. Скоро Янкель будет как новенький. Янкель сошел во исполнение важного долга.Откуда сошел-то? Видимо, сверху. Но она понятия не
имеет, о чем дед бормочет. И не понимает, с какой стати
он говорит о ней «он» и какой еще Янкель, откуда
взялось это тело и почему оно такое.Она не знает, откуда пришла, и не может спросить;
ничего не может, только подчиняться.Дорога чуть поднимается в гору и приводит в долину.
Там по берегам квелой реки раскинулся спящий город —
черный занавес, вышитый огнями.— Добро пожаловать в Прагу, — говорит ребе.
Первую ночь она стоймя проводит в конуре. Бессловесная, недвижимая, растерянная, уязвленная.
Когда сквозь щели в досках рассвет просовывает
сырые пальцы, дверь распахивается. На пороге женщина.
Чистое бледное лицо обрамлено платком, в ярко-зеленых глазах плещется удивление.— Юдль, — выдыхает она.
Юдль?
А как же Янкель?
Он-то куда подевался?
Совсем запутали.
— Иди сюда, — манит женщина. — Дай-ка посмотрю
на тебя.Она встает посреди двора, и женщина ее обходит,
прищелкивая языком.— Ну и рванье… Ох, Юдль. Это ж надо, а? О чем ты
думал-то?.. Погоди, сейчас вернусь.Она ждет. Выбора, похоже, нет.
Женщина выносит табурет и кусок бечевки, поддергивает юбки.
— Ну-ка, вытяни руку. Левую.
Она машинально подчиняется.
— Не так, вбок. Вот. Спасибо. Теперь другую…
Женщина бечевкой ее обмеряет, поправляя выбившиеся из-под платка темные волосы.
— Да уж, муженек с тобой не поскупился. Он, конечно, святой, но в облаках витает… Нет бы посоветоваться… Стой прямо. Однако ты меня шибко напугал. Наверное, в этом и смысл… Нет, вы гляньте, чего он налепил!
У тебя ж ноги разные.Я урод. Мерзкое чудище.
— Поди разберись, нарочно он так или в спешке…
не знаю. Ну, ходить-то сможешь, я надеюсь.Преступление. Позорный столб.
— Да уж, подкинули мне работы. Надо ж тебя приодеть. Остальное пока терпит. И нечего тебе торчать в
сарае, верно? Конечно, верно, чего тут думать-то. Кстати,
меня зовут Перел. Стой здесь, ладно?Текут часы, солнце уже высоко. Наконец Перел возвращается, через плечо ее переброшена накидка.
— Чего застыл-то? Я же не велела стоять столбом.
Ну да ладно, давай-ка примерим.Дерюжное одеяние торопливо сметано из разноцветных лоскутов.
— Не обижайся, что смогла на скорую руку. Поглядим, может, у Гершома разживемся славным шерстяным
отрезом. Он мне всегда скидку делает. Подберем цвет.
Что-нибудь темненькое, оно стройнит…Слышен мужской голос:
— Перел!
— Я здесь.
Во дворе появляется ребе.
Созерцает сцену.
Бледнеет.
— Э-э… я все объясню, Переле…
— Объяснишь, почему у меня в сарае великан?
— Э-э… понимаешь… — Ребе подходит ближе. — Это
Янкель.— Вот как? Он не представился.
— Ну, э-э… да.
Нет.
— Янкель.
У меня другое имя.
— Он сирота, — говорит ребе.
— Неужто?
— Я… то есть Давид встретил его в лесу… и, понимаешь, он вроде немой… — Ребе смолкает. — По-моему,
он дурачок.И вовсе нет.
— Значит, придурковатый сирота, — говорит Перел.
— Да, и я подумал, что ему опасно бродить одному.
Перел разглядывает огромную голову:
— Да уж, в такой кумпол не промахнешься.
— И потом, было бы жестокосердно бросить его.
Я должен подавать пример общине.— Поэтому ты запер его в сарае.
— Не хотел тебя беспокоить, — говорит ребе. —
Час был поздний.— Верно ли я все поняла, Юдль? Давид Ганц, который
безвылазно сидит в бет-мидраше** и которому мать приносит свежие носки, вдруг ночью забредает в лес, где встречает немого безмозглого великана, почему-то приводит его к тебе, и ты даешь ему кров не в доме, а в сарае.Пауза.
— Примерно так.
— Но если он немой, как ты узнал его имя?
— Ну… я так его назвал. Может, его иначе зовут…
Вот именно.
— С чего ты взял, что он сирота?
Снова пауза.
— Ты сшила накидку? — спрашивает ребе. — Какая прелесть! Янкель, погляди на себя — ты прямо
дворянин.— Не увиливай, — говорит Перел.
— Дорогая, я хотел сразу все рассказать, но задержался — позвали рассудить одно дело, понимаешь ли,
крайне запутанное…Перел машет красивой рукой:
— Ладно. Все в порядке.
— Правда?
— Только парень не будет жить в сарае. Во-первых,
сарай мой и он мне нужен. И потом, это плохо. Это даже
не жестокосердие — это бесчеловечность. Я бы собаку там не поселила. А ты хочешь поселить человека?— Видишь ли, Перел…
— Слушай сюда, Юдль. Внимательно. Ты поселишь
живого человека в сарае?— Нет…
— Конечно, нет. Подумай головой, Юдль. Люди начнут спрашивать. Кто живет в сарае? Никто. Тем паче
этакий детина. «Он не человек, коль живет в сарае, —
скажут люди. — Разве в сарае живут?» — Перел цокает
языком. — К тому же это срам. «Значит, вот как ребе
принимает гостей?» Этого я не допущу. Пусть поселится
в комнате Бецалеля.— Э-э… думаешь, там ему будет лучше? А может…
то есть я хочу сказать… Янкель, извини, что я говорю
о тебе, как будто тебя здесь нет.Меня иначе зовут.
— Будет помогать по дому, — говорит Перел.
— Вряд ли ему хватит… смекалки.
Хватит.
— Хватит. Видно по глазам. Янкель, ты меня понимаешь, а?Она кивает.
— Видал? Глазки-то умные. А лишние руки всегда
пригодятся. Янкель, будь любезен, натаскай воды. —
Перел показывает на колодец в углу двора.— Переле…
Пока супруги спорят, где ее лучше разместить и что
сказать людям, она тупо ковыляет к колодцу. Какое
счастье снова ходить! Но радость подпорчена мыслью,
что ходит она не по собственной воле. Натаскать воды.— Дело не в том, что это враки… — говорит Перел.
Натаскать воды. Она вытягивает веревку, подхватывает до краев полное ведро.
— …а в том, что ты не умеешь врать, Юдль.
Опорожняет ведро на землю.
Стой. Погоди. Велено другое.
Натаскать воды. Руки сами опускают ведро в колодец.
— Росток истины пробьется из земли, — возвещает ребе.
— И праведность отразится в небесах, — подхватывает Перел. — Чудненько. Но до тех пор позволь мне
объясняться с людьми.Она выливает второе ведро.
Дура. Велено другое.Но тело действует само, не слушая воплей разума.
Есть приказ натаскать воды, и руки послушно тягают
ведро за ведром. Стравливая веревку, всякий раз она
видит свое кошмарное отражение. Бугристое перекошенное лицо подобно узловатой дубовой коре, кое-где поросшей лишайником; огромная зверская рожа тупа и
бесчувственна. Значит, теперь она такая? Впору утопиться в колодце. Но ей не дано выбирать, как не дано
остановиться, и она опорожняет ведро за ведром, покуда
не слышит хозяйкиного вскрика: двор залит водой по
щиколотку.— Хватит, Янкель! — вопит Перел.
Она останавливается. Сама не понимает, зачем сотворила такую откровенную глупость, и сгорает от ненависти к собственной дури.
— Надо аккуратнее формулировать свои пожелания, — говорит ребе.
— Похоже на то, — говорит Перел и беспомощно
хохочет.Ребе улыбается:
— Ничего, Янкель. Это всего лишь вода. Высохнет.
Она признательна за попытку ее утешить.
Но ее иначе зовут. У нее есть имя.
Она его не помнит.
* Гилгул — еврейское название метемпсихоза (переселение
души умершего человека в новое тело). В традиционном иудаизме считается одной из форм наказания за грехи. Каббалисты
рассматривают гилгул (перевоплощение) не только как наказание, но и как возможность исполнить предназначение и исправить
ошибки и грехи, совершенные в предыдущих жизнях.** Бет-мидраш — часть синагоги, отведенная для изучения священных текстов.
Елена Макарова. Вечный сдвиг
- Елена Макарова. Вечный сдвиг: Повести и рассказы. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 416 с.
Елене Макаровой тесно в одной реальности. Поэтому она постоянно создает новые. И ведет оттуда для нас прямые репортажи при помощи книг, выставок, документальных фильмов и разных художественных средств, делающих невидимые большинству из нас миры видимыми. Елена Макарова — писатель, историк, арт-терапевт, режиссер-документалист, куратор выставок. Сборник ее повестей и рассказов «Вечный сдвиг» издан в «НЛО».
Ни гу-гу
1. Пятого марта, изрядно приняв. Федот Федотович Глушков плыл в тумане. Вместе с ним плыл город, вернее не город, а окраинная его часть, именуемая Теплым Станом.
Достойно отметив двадцать пятую годовщину со дня смерти усатого, Федот Федотович наглотался туману и слился с природой. «Из вашей искры возгорелось пламя, а я сижу и греюсь у костра», — пел Федот Федотович чуть ли не во весь голос и не оглядываясь по сторонам, поскольку он был в тумане. Будучи в состоянии необычайной приподнятости духа, он стоял на перекрестке, вернее, он предполагал, что это перекресток, поскольку красные огоньки вспыхивали и гасли в четырех направлениях, и курил «Родопи». Сигарета нежно тлела во мгле.«Жизнь прекрасна, — размышлял Федот Федотович. — Какие люди! Смелые, в высшей, в высшей степени интеллигентные, а пирожки!» И Федот Федотович поцеловал палец с сигаретой. Сигарета обожгла рот и упала на асфальт. Пытаясь сохранить равновесие, он нагнулся и поднял сигарету. Она намокла, и Федот Федотович раздавил ее носком ботинка. «Все прекрасно! — провозгласил он. — И не надо, понимаешь, этой мрачности, безысходности».
Туман просачивался сквозь пальцы, застревал между ногами. Ни неба, ни земли, желтые и зеленые огоньки возникали и гасли, как салют на замедленной кинопленке. «А молодежь! Какая молодежь! С идеалами! Не сопливые интеллигентишки, не „здравствуй, мой милый шкафчик“! Ишь, сада им жалко, виш-не-во-го! — воскликнул Федот Федотович и вспомнил восхитительные пирожки с консервированной вишней. — Продали Россию! Не большевики продали, они просто довели дело до конца. Тьфу!» Федот Федотович плюнул и услышал громкий звук. Не вслух ли он говорит? Не надо бы, — подумал он, и ему почудилось, что туман рассеялся и что он стоит напротив какой-то светящейся будки. «ГАИ!» — мелькнула мысль и тут же потонула в тумане.
«Жить везде хорошо, — решил Федот Федотович, — а там что, разве все-все плохо было? Нет, было и хорошо. Какие восходы — а-а-а!.. какие закаты — о-о-о!.. Сплошняк из красного дерева! — прыснул Федот Федотович. — Прошу любить и жаловать эстета. А эстет — это я, Федот Федотович Глушков! Разве сегодняшняя молодежь может оценить свободу по-настоящему?» Эх-хе-хе, как они на нас смотрели! Завидовали, шельмы, а мы — по кругу, кто, когда и где узнал, что усатому — каюк, усатому — йохтур, невесть откуда всплыло «йохтур», то ли с азербайджанцем сидел, то ли на воле повстречался.
«Господа, господа! — Федот Федотович мысленно расправил бабочку и постучал вилкой о рюмку. — Господа, выпьем за Деникина!» — и перекрестился. Молодежные веяния, славные Братья во Христе, особенно тот, что сидел слева, здоровенный битюг с рыжей бородой по имени Серафим. «Сколько сил достанет, надо жить на этой земле и ни с места, отдаться воле Господней и жить». — «Правильные мысли», — одобрил Серафима Федот Федотович и вступил в огромную лужу. Загребая ботинками ледяную воду, он пытался, было, напевать «Плыви, мой челн, по воле волн!», но вдруг рассердился и в исступлении затопал ногами, нарушая тем самым состояние туманного блаженства. Все-таки человек он пожилой, простудится, кто будет за ним ухаживать?
Зря напустился на кинетическое искусство, плохо ли, когда собственноручная скульптура из алюминиевых трубок за тобой ухаживает: «Федот, выпей аспиринчику!» Но Федот — идеалист, он лепит прекрасное, искусство, так сказать, для него самого, а не для подачи лекарства и установки клизмы.
«Долой кинетическое искусство! — шумел Федот Федотович, прыгая на одной ножке и пытаясь вылить воду из ботинка. — Да здравствует чистое искусство! Ура Нике Самофракийской!» Тут Федот Федотович плюхнулся в лужу и, сидя в ней, стал рассуждать таким образом: на Сретенку не попасть — где тут что, он понятия не имеет, а вот где дом, откуда он вышел? Сейчас, сейчас, давай-ка сориентируемся, — повелел сам себе Федот Федотович и, встав на четвереньки, вперился в туман. Где-то меж землей и небом, в самой середке, брезжил желтый свет. «Туда!» — скомандовал Федот Федотович и, двигаясь в нужном направлении, скрылся в тумане.
2. Облик героя. Пока он куда-то идет и ни о чем не думает, кроме как скорее добраться туда, откуда он вышел, и там подсушиться, поведаем, кто такой Федот Федотович.
В первую очередь, он интеллигент. И, как большинство представителей этого слоя, человек нереализованный, нечто вроде пленки, которую нерадивый фотограф все собирался проявить, да завозился, замешкался и забыл. А сынишка фотографа вынул ее из кассеты и засветил.
Силы от рождения он был исполинской, на таких, как говорится, землю пахать. Вот на нем и пахали. Запрягали в лагере вместо лошади, за что он получал двойную порцию баланды. Здоровьем после всего этого Федот Федотович сильно подкачал. И уж совсем было вышел в тираж, а тут — ку-ку усатому.
На поселении, за чертой сто первого километра, он попил козьего молока, набрался сил и задумался о будущем. За десять лет он самообразовался, научился говорить и писать по-немецки, читать, правда, не научился, поскольку читать там по-немецки было нечего. Еще он научился резать из камня и дерева портреты товарищей, так что даром времени не терял. И стал Федот Федотович на воле скульптором, и вступил в МОСХ, и мастерскую получил, и женился. Но неудачно. Плохо женился, так что мы пока это пропустим.
Пусть наш герой будет удачником. А что выпил — так с кем не бывает, тем паче, что он скульптор и член МОСХа.
Только почему было сказано, что он нереализованный? Сказано было в том смысле, что скульптор он никому не известный, мастерская у него плохенькая, жить не на что — заказов мало, да и те, что перепадут — по пьянке, а по пьянке много не огребешь. Федот Федотович писал и стихи, но их не печатали. Стихи в таком роде:
Решил я продать свой тюремный бушлат,
На рынок пошел и разделся до пят.
Стою я весь голый, но не на бушлат —
На тело младое девицы глядят.
Берите, — прошу их, — одежду мою,
На деньги с бушлата вам розы куплю,
Девицы хохочут, берут мой бушлат,
И вот уж монеты в ладони звенят.
Спасибо, девицы, спасибо, друзья,
Хоть гол как сокол, зато сыт теперь я!3. Туман сгустился, и Федот Федотович потерял в нем себя. Это обнаружилось, когда он собрался опустить руку в карман, чтобы достать из него «Родопи». Без курева невозможно ориентироваться в пространстве, в котором вообще ориентироваться было невозможно, поскольку оно состояло из тумана и мерцающих огней. Так вот, кармана он не обнаружил, не обнаружил плаща, а также остальных частей тела, включая голову. «Это проделка братьев во Христе, — решил Федот Федотович (под Федотом Федотовичем здесь подразумевается не он сам, в мокрых ботинках и плаще из кожзаменителя, а его лучшая часть, которая после смерти должна отлететь к Богу).
«Неужто я умер и душа, отставшая от тела, уже существует без меня неизвестно где? А может, — пронзила догадка, — тело отправилось к жене, ей кроме моего тела ничего не нужно».
Освободившись от семидесяти двух килограммов, Федот Федотович ни на шутку растерялся. Что делать с полной свободой, обретенной в тумане? Свободой в смысле мысли, в смысле слова и в смысле перемещения в пространстве.
4. А в это время… В Козлихинском переулке, дом 7, кв. 47, билась посуда Дулевского фарфорового завода.
— Как напьешься, так домой являешься! Где ты так вывалялся, ирод проклятый?
При упоминании об ироде тело Федота Федотовича виновато икнуло. Видно, душа, отделившаяся от тела, еще не потеряла с ним связь.
— А наследил! Федот, разувайся, снимай ботинки, тебе говорят! Почему ты молчишь, скажи же что-нибудь, Федотушка! — Сменив гнев на милость, жена опустилась перед ним на колени и развязала шнурки, с которых стекала черная жижа. — Не можешь ты без меня! — заключила она, встряхивая на балконе плащ из кожзаменителя. — Пропади оно пропадом, чистое искусство! Искусство чистое, а сам замурзанный.
Раздев Федота Федотовича догола, она свела его в ванную и поставила под холодный душ.
— Ик! — сказал Федот Федотович, и жена беззвучно зарыдала.
— Ты за заказ-то получил? — спросила она, улучив момент для долгожданного разговора. — Федо-от, ты деньги принес?
Голое тело Федота Федотовича покрылось фиолетовыми гусиными цыпками.
— Это все Лубянка! — сказала она, в надежде, что магическое слово вернет Федоту дар речи. Но тот лишь тихо икал, что и было ответом обездушенного тела страдающей супруге.
— А я сапоги купила, итальянские, у одной бабы на работе, — прошептала жена и выключила воду. Она бережно обтерла закоченевшее тело Федота Федотовича махровым полотенцем. — Gotobed! — cкомандовала она, и Федот Федотович, осторожно переступив через край ванны, встал на кафельный пол. — Иди же, чистое искусство! — подпихивала она его к постели. — Люби меня, Федот! — велела жена, и Федот любил ее, что, как выяснилось, можно делать даже в таком, из ряда вон выходящем, состоянии.
5. Свобода от лжи несносной. Утренний туман воскресил в памяти события странной ночи. «Кажется, я потерял себя, — подумал Федот Федотович и полез в карман за „Родопи“. Карман был пуст. — Тьфу ты, дурак раздурацкий! Сигареты ты потерял, а не себя. Вот он ты, весь на месте». Для вящей убедительности Федот Федотович ощупал свое тело и успокоился.
Заталкивая тело в троллейбус, Федот Федотович пытался восстановить в памяти события вчерашней ночи. «Значит, так, — думал Федот Федотович, поглядывая на народ, который мог заметить, что он не взял билет, а народ у нас — общественный контролер и все такое… — Следователя не боялся, а какого-то общественного контролера трушу, — признался себе Федот Федотович, и его охватила тоска. — Господа, выпьем за Деникина, — вспомнил он и посмотрел на лица пассажиров.
— Да, оторвались мы от народа, непоправимо оторвались. Непостоянное человек создание: сегодня — один, завтра — другой, послезавтра третий, и так далее, по числу дней.
Свобода, свобода, свобода от лжи несносной… Опальный бард! И я наплел несусветной муры… Друзья мои, выходит, мы собрались только для того, чтобы отпраздновать день смерти усатого! Что же это получается, мертвый и впрямь хватает живого!»
6. Федот и Иван.
— Юбилейный лысачок! — сострил Федот Федотович, распахивая дверь мастерской.
Сосед уже стучал молотком по голой гипсовой лысине.
— Заходи, — пригласил его Иван Филиппович, продолжая работать.
Гипсовые Ленины хитренько щурились на своего создателя.
— Ты бы хоть за занавеску их убрал!
— Мне натура нужна, — пожаловался Иван Филиппович, — это в юности я их на раз делал, а теперь то лоб огурцом, то глазницы с пуговицу. Этот в Самару пойдет, — погладил Иван Филиппович ленинский лоб.
Федот и Иван получили от МОСХа подвал на двоих. Иван тоже сидел, но не по 58-й, а по уголовной. Он все понимал, но у него, в отличие от Федота, была большая семья. Федот в душе считал Ивана прохиндеем, но виду не показывал, что так считает.
— Ты бы его с себя лепил, — сострил Федот, радуясь этой остроте, как новой.
Но если в каждой шутке есть доля истины, то в этой шутке она помещалась вся без остатка, поскольку Иван Филиппович был вылитый Ленин. По этой причине его сторонились прохожие и у него не было друзей. Все подозревали в нем стукача, хотя, насколько известно, Ленин стукачом не был. Из-за рокового сходства с вождем мирового пролетариата Иван Филиппович был на подозрении у властей и у диссидентов. Вот и у Федота мелькнула было мысль взять Ивана на празднование смерти усатого, мелькнула и исчезла. А то подумают — привел Ленина на конспиративную квартиру, еще и в диссиденты запишут!
— Иван, а как ты считаешь, если б диссиденты пришли к власти, зажали бы они нас в кулак или действительно дали глотнуть свободы?
— Где ты вчера был? — спросил Иван, зная, что утренние мысли соседа определяются вечерними разговорами.
— А был я, Ваня, в славном обществе свободных людей.
— Иностранцы, что ль? — сощурился Иван и выковырял гипс из угла ленинского глаза.
— Был один. Но главное, пришли туда, Иван, братья во Христе, святая молодежь. Старушкам помогают, с детьми инакомыслящих гуляют по четыре часа в день.
Топот и гиканье прервали Федотов рассказ. Ворвалась ватага детей.
— Привет вождю, — поприветствовали ребятишки Ивана Филипповича. — Куда кидать?
— Сюда, ребятушки, — указал Иван Филиппович на доску, и дети, засучив рукава, принялись кидать в нее комья глины.
— Кого здесь слепите? — поинтересовались ребята, закончив стрельбу по доске.
— Здесь будет триптих, — объяснил Иван Филиппович. — Маркс, Энгельс и Ленин.
— На мороженое дашь? — спросили ребята.
— Завтра, завтра приходите, — ответил Иван Филиппович, ласково выпроваживая детей из мастерской. — Подшефный класс, хорошо работают, — похвалил он детей и, взяв дубину, заровнял поверхность будущего барельефа. — Я, как видишь, и без братьев во Христе обхожусь, — сказал Иван и сдул с Ильича гипсовую пыль. — Ты, Федот, очень разбазариваешься. Друзей — целая Москва, а дело стоит. Я твою Нику Самофракийскую устал поливать и тряпками обматывать. Ты бы хоть развернул ее да поглядел, как она у тебя осела, каркас из головы торчит. Иди и работай!
— Там еще и бард был, опальный. Свобода, свобода, свобода от лжи несносной…
— Хватит, Федот! Иди и работай!
— Пойдем со мной, Иван, я сегодня одиночества не перенесу.
— Не человек тебе нужен, а опохмелка, — заявил Иван Филиппович и застучал молотком по резцу.
Александр Стесин. Ужин для огня. Путешествие с переводом
В своей новой книге Александр Стесин возвращается в Африку — на этот раз в Египет и Эфиопию. Во время непредсказуемой поездки с другом-индусом он постоянно обнаруживает внезапное родство и предельную дальность культур, и паролями здесь то и дело служат имена писателей, знаменитых и малоизвестных. От Пушкина до Гумилева, от Бэалю Гырмы до Данячоу Уорку. Именно рассказы Уорку вдохновили Стесина на необычное путешествие — «путешествие с переводом», и в этой книге вместе с травелогом вы найдете переведенные рассказы одного из лучших африканских писателей XX века.
3. ПУШКИНСКИЙ ДОМ
У Айелу для нас была запланирована обширная программа. Он хотел не столько рассказывать, сколько показывать — в первую очередь свое педагогическое мастерство, выражавшееся в умении переводить древнюю культуру Абиссинии на язык современного ширпотреба. Энергичный, крепкий старик, он был одет в щегольскую черную кожанку и затрапезные брюки с пятнами под ширинкой. Своим видом и повадками он напомнил мне книготорговцев с развалов на Брайтон-Бич, тех, кого моя мама называла «старичок-кочерыжка». Когда мы только приехали в Америку, один из таких «кочерыжек» продавал мне, подростку, паленые кассеты с записями советского рока, по которому я тогда тосковал. На дворе был девяностый год, и старичку было, наверное, лет семьдесят, но, раскладывая передо мной свой товар, этот человек сталинской эпохи демонстрировал познания, которым позавидовал бы любой патлатый завсегдатай Ленинградского рок-клуба. Он даже использовал молодежный сленг, да так бойко, что вполне мог бы сниматься в известной рекламе Альфа-банка: «С каждым клиентом мы находим общий язык».
Айелу был того же сорта. Если тридцатипятилетний Уорку был погружен в события и реалии прошлого, о которых мог знать разве что из книг или рассказов старших, то его семидесятилетнего соприхожанина куда больше занимали вопросы поколения MTV и компьютерных гаджетов. Впрочем, Айелу был подкован по самым разным предметам (недаром Уорку назвал его «ходячей энциклопедией») и, в соответствии с лозунгом Альфа-банка, готов был найти общий язык с каждым клиентом. Так, в разговоре со мной он мгновенно переключился на тему русской литературы и стал перечислять известные ему имена. Я, в свою очередь, старался не ударить в грязь лицом и выжать из памяти ответный список эфиопских авторов. Благо, в университете, пока Деми читала Джойса и Андрея Белого, я корпел над курсовыми по африканской литературе.
— Лео Толстой, Теодрос Достоэвски, Антон Чэхоу, — загибал пальцы Айелу.
— Афэуорк Гэбрэ Иесус, Хаддис Алемайеху…
— Микаэль Шолохоу! Эскиндер Солдженыцэн! Патэр… Патэрнак, Живаго Патэрнак?
— Бырхану Зэрихун, Бэалю Гырма…
— Гырма? А что ты о нем знаешь?
— Я читал его повести. «За горизонтом» и еще что-то.
— Гырма был любимчиком Дерга, его даже назначили министром пропаганды. А потом он взял и написал «Оромай».
Ты читал «Оромай»? Это была первая книга против Палача и его режима. Палач вызвал Гырму к себе, предлагал отречься, а Гырма отказался. И в тот же вечер исчез. Смелый был человек.
— Данячоу Уорку, — не унимался я.
— Хм… Этого я не знаю. Надо же, и откуда только у тебя такие познания? Тебе надо выступать по радио. Но, говоря об эфиопской литературе, ты не назвал главного.
— «Слава царей» 1?
— Эскиндер Пушкин! Он, конечно, русский поэт, но и эфиопский тоже. Сегодня вечером ты узнаешь почему.
— Сегодня вечером, насколько я понял, мы приглашены к Зелалему.
— К какому еще Зелалему?
— К брату Уорку.
— Зелалем подождет, сходите к нему завтра. Ты иврит знаешь?
Знаешь, что такое «бэт лехем»?
— Вифлеем?
— Бэт лехем! Это значит «дом хлеба». На иврите и на амхарском «бэт» — это дом. Сейчас мы пойдем в Бэт Георгыс, а вечером — в Бэт Эскиндер.
Что такое «бэт Эскиндер», было известно одному Айелу, а вот про Бэт Георгыс написано на первой странице любого путеводителя по Аддис-Абебе. Одна из главных достопримечательностей города. Восьмигранный собор Святого Георгия, купающийся в зелени пихт и акаций. В нем, как в пущенной по волнам бутылке, запечатано послание потомкам. Это послание — история итало-эфиопской войны, вернее, войн, начавшихся еще в XIX веке, когда с присоединением Папского государства к Сардинскому королевству Италия озаботилась проблемой колониальной экспансии. Проблема состояла в том, что основная часть темнокожего мира была уже порабощена другими носителями «бремени белого человека». Свободными оставались только княжества Африканского рога, многие из которых сплотил эфиопский Бисмарк, император Теодрос II. Туда и устремились итальянские завоеватели. Сперва были высланы научные экспедиции, чьи карты и отчеты предполагалось использовать впоследствии при продвижении военных отрядов. Затем настал черед дипломатии: в 1889 году был подписан Уччиалльский договор о вечной дружбе и сотрудничестве двух держав. Текст соглашения был составлен послом Италии, и, как позже выяснилось, амхарский вариант весьма отличался от итальянского. К примеру, в амхарской версии документа говорилось, что в вопросах внешней политики царь царей Эфиопии может прибегать к услугам правительства его величества короля Италии; в итальянской же версии глагол «может» был заменен на «согласен». К тому моменту, как переводческая «неточность» обнаружилась, итальянские войска уже продвигались через Эритрею. Обнаружилось и другое: император Менелик II, славившийся незаурядным умом и политической интуицией, тоже втайне собирал армию, готовясь к отражению возможной атаки даже в момент подписания Уччиальского договора. Знал он и то, что итальянская армия несравненно лучше вооружена и имеет численный перевес. Но на стороне Менелика была история. Дело в том, что за предыдущие две тысячи лет в эфиопских летописях было зафиксировано всего тридцать лет без войны. Все остальное время прошло в феодальной резне и битвах с мусульманскими соседями. Словом, жители Африканского рога имели возможность поднатореть в военном деле как никто другой. Так что беспрецедентное событие, произошедшее 27 октября 1895 года, в исторической перспективе кажется не таким уж удивительным. «Случилось то, что в Абиссинии убито и ранено несколько тысяч молодых людей и потрачено несколько миллионов денег, выжатых из голодного, нищенского народа. Случилось еще то, что итальянское правительство потерпело поражение и унижение», — писал Лев Толстой в обличительном обращении «К итальянцам». Речь шла о сражении при Адуа, о первом случае в истории человечества, когда темные туземцы разгромили европейскую армию.
Именно в память об Адуа и был возведен Бэт Георгыс, полностью спроектированный и построенный итальянскими военнопленными. И именно поэтому сорок лет спустя, в период фашистской оккупации, Муссолини приказал перво-наперво сжечь собор. Впрочем, из актов возмездия разрушение собора было самым безобидным. Так, например, после неудавшегося покушения на африканского наместника дуче, маршала Родольфо Грациани, итальянские войска получили приказ в течение трех дней истребить максимальное количество мирного населения Эфиопии. Для достижения наилучших результатов рекомендовалось использовать иприт. Операция была проведена блестяще: по некоторым оценкам, число убитых превысило триста тысяч. Примечателен и тот факт, что одним из наиболее ярых сторонников «актов возмездия» был глава католической церкви, папа Пий XII. По слухам, собор был сожжен с его благословения. В послевоенные годы Бэт Георгыс был отреставрирован по указу императора Хайле Селассие и украшен витражами знаменитого Афэуорка Тэкле. «Хоть я и не православный, но Бэт Георгыс почитаю святыней из святынь», — сообщил Айелу.
После Бэт Георгыса мы побывали в Национальном музее, где посетители имеют возможность познакомиться с первой жительницей Эфиопии, австралопитеком Люси, чей возраст археологи оценивают в 3,2 миллиона лет; на суматошном Меркато, самом крупном рынке на всем континенте; в городском зоопарке, где в клетках мечутся черногривые абиссинские львы, а смирившиеся с судьбой пеликаны невозмутимо спят стоя; в соборе Св. Троицы, где покоится прах последнего монарха, и еще в каких-то храмах. Программа и вправду была насыщенной.
В саду Национального музея стоял скромный памятник русскому поэту. Чугунный бюст, такой же, как и другие в этом саду. Он выглядел так, как будто стоял здесь всегда. Да и где же еще ему быть? Здесь, но не в смысле прародины, не «под небом Африки моей», а просто здесь, между шиповником и кигелией. Часть скульптурного парка, образец окончательной анонимности. Айелу дружески похлопал классика по плечу («А вот и наш Эскиндер!»), предложил сфотографировать нас вместе. На фотографии моя рожа получилась восторженно бессмысленной, а пушкинский бюст — расплывчатым и почти неузнаваемым.
— Странно, — задумчиво произнес Айелу, — имя у него эфиопское, Эскиндер, а вот имя отца — совсем не наше.
— Вам известно даже его отчество? — удивился я.
— Ну конечно. Пушкин.
— Пушкин — это не отчество, а фамилия.
— Но все-таки его отца звали Пушкин. Откуда такое имя? Эфиопы так своих детей не называют.
— Он был эфиопом по материнской линии. И потом, фамилию «Пушкин» придумал не дед Эскиндера и не прадед.
— А кто же?
Действительно, кто? Я и забыл, что у эфиопов не бывает фамилий. Есть только имена и отчества. Если человека зовут Уорку Тэсфайе, значит отца его звали Тэсфайе. Часто имя для ребенка выбирается таким образом, чтобы сочетание имени и отчества составляло законченное предложение (например, имя-отчество известного драматурга Менгисту Лемма в переводе означает «Ты — государство, которое процветает»). Если же имя отца неизвестно, его заменяют чем-нибудь еще, каждый — на свое усмотрение. Вот почему Уорку сказал, что «отчество» Деми для эфиопского уха звучит странно. В переводе с амхарского оно означает «бабочка». Наверняка сама Деми и придумала. С другой стороны, почему странно? Ведь многие сочинители брали псевдонимы, — то ли чтобы провести границу между собой и своим писательским альтер-эго, то ли потому, что выдуманное — долговечней. Не только литература, но и вся история сплошь состоит из псевдонимов. Взять хотя бы тот же собор Св. Георгия, его попечителей и разрушителей: Хайле Селассие, Пий XII… Вымышленные имена. Кто помнит сейчас настоящее имя фашиствовавшего папы римского? «О, многие, — заверил меня Уорку, — его звали Эудженио Пачелли, у нас это имя помнят многие…» Эфиопия помнит ФИО Пия. Чем не строчка для кынэ?
Разговор о кынэ зашел у нас еще утром, когда наш экскурсовод доказывал мне, что Эфиопия — родина поэзии вообще и русской поэзии в частности. Чтобы разъяснить специфику кынэ Прашанту, Айелу продекламировал известный английский каламбур — четверостишие с использованием топонима Тимбукту (Timbuktu): «When Tim and I to Brisbane went, / We met three women, cheap to rent. / As they were cheap and pretty too, / I booked one and Tim booked two».
Но это был пример из языка ширпотреба; настоящее кынэ — нечто совсем иное. Стихотворная форма, возникшая много веков назад, во время правления шоанского императора Эскиндера (вот она, магия имени), и до сих пор считающаяся чуть ли не высшим достижением эфиопской литературы. В кынэ присутствуют жесткая метрическая структура, многочисленные аллюзии и тропы. В основном это стихи религиозного или философского содержания; их главный принцип — двусмысленность, которая в местной поэтической традиции называется «сэмынна уорк» («воск и золото»). Дополнительный смысл часто вкладывается с помощью пантограммы, то есть фразы, смысл которой зависит от расположения словоразделов. В европейской поэтике пантограмма — введение сравнительно недавнее и малоприменимое. Из русских стихов последнего времени можно вспомнить опыты Дмитрия Авалиани («Не бомжи вы / Небом живы», «Пойду, шаман, долиною / Пой, душа, мандолиною»), словесную эквилибристику Льва Лосева или скрытую цитату из пушкинского «Лукоморья» в названии книги Владимира Гандельсмана «Там на Неве дом». Нет никаких оснований полагать, что пантограммы пришли в европейскую поэзию из Эфиопии, да и вряд ли эфиопы были первыми, кто использовал этот комбинаторный прием. Точно так же скандинавских скальдов вряд ли можно считать изобретателями кеннинга («корабль пустыни» перевозил кочевников через Сахару задолго до Старшей Эдды), но только в скандинавской поэзии этот вид метафоры был возведен в принцип.
Однако пантограмма — это далеко не все. Речь о двусмысленности вообще, об условностях и эвфемизмах. О древности поэтической традиции в стране, где первая повесть была написана всего сто лет назад. Может, потому так долго и не было прозы, что было другое: ритуализация языка. Было слоговое письмо геэз, состоявшее из двухсот с лишним знаков, многие из которых были фонетически взаимозаменяемыми, но использовались при написании существительных разных классов (например, графемы «ко» и «ро» в слове «король» должны отличаться от «ко» и «ро» в слове «корова»). Эта силлабографическая избыточность в геэз давала широкие возможности для смысловой игры кынэ. Кроме того, был эзопов язык церкви, особенно наглядно проявлявшийся во время исповеди: когда прихожанин сознавался в том, что «прикусил язык», это означало «я солгал». «Добраться до поварешки» означало «есть скоромное в пост»; «плакать одним глазом» — возжелать; «упасть с кровати» — предаваться блуду… Исповедальная иносказательность. Другими словами, лирика. Отлитое в воске золото, которое по-амхарски — «уорк». Золото — это работа.
Обо всем этом я читал когда-то у Данячоу Уорку, в его эссе об истоках эфиопской поэзии. Но Айелу знать не знал никакого Данячоу. Он только повторял четверостишие про Тимбукту и еще какие-то прибаутки, затащив нас в традиционный кабак, где выступают бродячие певцы азмари. Такие кабаки называются «азмари бэт», дом азмари; название «бэт Эскиндер» Айелу выдумал на ходу — в рекламных целях. Теперь он тыкал пальцем в азмари, выдававшего частушечные импровизации (что-то вроде азербайджанской мейханы), и многозначительно подмигивал мне: вот оно, вот кынэ, вот откуда родом ваш Эскиндер! Мне вспомнилась аналогичная сцена из пушкинского «Путешествия в Арзрум»: «Выходя из палатки, увидел я молодого человека, полунагого, в бараньей шапке, с дубиною в руке и с мехом (outré) за плечами. Он кричал во все горло. Мне сказали, что это был брат мой, дервиш, пришедший приветствовать победителей. Его насилу отогнали…»
Пришли Уорку с Зелалемом. Зелалем, двоюродный брат Уорку, архитектор, недавно вернувшийся из Лондона и только что получивший заказ на проект нового торгового комплекса в Аддис-Абебе, хотел праздновать и пришел уже на бровях. Он был в сопровождении красивой, застенчивой девушки, которую представил нам как свою жену. Позже выяснилось, что они познакомились всего три месяца назад, а через полтора месяца после их знакомства она объявила, что ждет ребенка, и Зелалем дал обещание жениться.
— Айелу! — Кричал Зелалем. — Куда ты нас привел? Что это за дыра? Эти люди приехали, чтобы увидеть Тобию-красавицу2, а ты привел их в какую-то задницу!
— Я привел их сюда, чтобы показать древнюю традицию… — Неуверенно защищался Айелу.
— Это не традиция, это задница! Здесь хотя бы пожрать дадут?
— Уорку, уйми своего пьяного родственника! — взмолился старик.
— Если он пьян, значит, ему надо поесть, — строго сказал Уорку, — да и нам не помешало бы.
— Эши3, эши, сейчас закажем…
Две девушки в нарядных камизах4 поднесли чайник и таз, над которым все вымыли руки. Одна из девушек сняла крышку с мэсоба, скатертью расстелила инджеру, а с краю положила еще несколько блинов, сложенных в восьмую долю. Уорку раздал каждому по кусочку.
— Хорошо хоть, здесь дают нормальную пищу, а не китайское дерьмо, — обрадовался Зелалем и, повернувшись к нам с Прашантом, удостоверился: — Я надеюсь, вы не китайцы? Я против китайцев ничего не имею, хоть они и дурят нашего брата. Но если не они, то еще кто-нибудь. Я против них ничего не имею. Но они жрут жареных тараканов, а это противно. Я этого понять не могу. Выпьем!
— У китайцев своеобразный вкус, — подтвердил Уорку, — если бы Адам и Ева были китайцами, они бы съели не яблоко, а змею.
— Змею, змею! — заливался Зелалем. — И не только змею!
Китаец сожрет любое двуногое, кроме своих родителей, любое четвероногое, кроме парты, и все, что летает, кроме самолета! Выпьем! Принесли еду. На инджере появились горки бараньего и куриного жаркого, чечевичного соуса, тушеных овощей. Яства были разложены по окружности блина-тарелки наподобие лепестков диковинного цветка. Сердцевиной цветка был «кытфо», полусырой фарш со специями и творогом. У эфиопов принято кормить друг друга, и подруга Зелалема, поминутно упрекавшая нас с Прашантом в том, что мы слишком мало едим, решила перейти от слова к делу. Зачерпнув кусочком инджеры пригоршню бараньего «уота» 5, она отправила порцию мне в рот, после чего настала очередь Прашанта.
— А я хочу, чтобы меня кормил Уорку! — заявил Зелалем. — Если не хочет пить, так пусть хоть брата покормит!
Уорку отщипнул чуть-чуть инджеры и, макнув в соус, небрежно сунул кусок в рот Зелалему.
— Сволочь, он дал мне пустую инджеру! Выпьем!
Под руководством Зелалема мы продегустировали все традиционные напитки: медовуху «тедж», водку «ареки», пиво «Святой Георгий». Встав из-за стола, я понял, что еле держусь на ногах. Пойду подышу свежим воздухом… Во дворике пахло цветочной сыростью. Все-таки не прав был Зелалем: не такое уж плохое место этот «азмари бэт». Только зачем было называть его «домом Эскиндера», при чем тут Эскиндер? При чем вообще имя? «Оно умрет, как шум печальный». Имя собственное умирает, превращаясь в нарицательное, в «бэт-эскиндер». Но мы помним и другие программные строчки: «Нет, весь я не умру… И назовет меня всяк сущий в ней язык…» Финн, тунгус, калмык, а теперь и эфиоп. Или наоборот: эфиоп — прежде других. Если послушать Айелу, так вся русская поэзия родом из Эфиопии. Вся не вся, но что-то, наверное, есть. Недаром «наше все» и «Ник-то» оба вели свою роднословную от абиссинца Ганнибала.
Из кабака по-прежнему доносилось бормотание азмари, сопровождаемое монотонным аккомпанементом скрипки масанко. Хорошо, что я, хоть одно время и учил, почти не знаю амхарского: можно вообразить все что угодно. Что если этот трубадур декламирует стихи из «Дыггуа»6? Или какиенибудь великие кынэ Йоханныса Геблави, Семере Керестоса, Тэванея7? Можно и ничего не воображать, так даже лучше. Тем более, что в этот момент мою медитацию прервал Айелу. «Вот ты где! Мы уж думали, ты ушел. А я еще одного вспомнил, — пожевав губами, он посмотрел на меня взглядом доки, собравшегося влепить детский мат новичку-противнику, и торжествующе произнес: — Георгыс Сковорода!»
1 «Слава царей» («Кэбрэ нэгэст») — эфиопская книга XIV века, повествующая о происхождении Соломоновой династии.
2 Тобия — разговорное произношение слова «Эфиопия». Кроме того, Тобия — имя главной героини повести Афэуорка Гэбрэ Иесуса «Вымышленная история» (дословно: «История, рожденная сердцем»); поскольку красавица Тобия — вымышленный персонаж, фраза «увидеть Тобию-красавицу» имеет иронический подтекст.
3 Ладно (амхар.).
4 Женская сорочка из шелка или хлопка.
5 Жаркое, для приготовления которого используется сложный набор специй «бербере» и пряное топленое масло «нитер киббэ».
6 Средневековое собрание «календарных» песен, авторство которых приписывается поэту Яреду, жившему в VI веке н.э. Для записи этих песен в XV веке была создана специальная нотная грамота.
7 Эфиопские поэты Средневековья.
Джон Уильямс. Стоунер
- Джон Уильямс. Стоунер / Пер. с англ. Л. Мотылева. — М.: АСТ: Corpus, 2015. — 352 с.
В издательстве Corpus вышла книга лауреата Национальной книжной премии США Джона Уильямса, писателя ХХ века, чей роман «Стоунер» неожиданно обрел вторую жизнь в 2000-х. В центре произведения — крестьянский парень Уильям Стоунер, который, увлекшись текстами Шекспира, отказывается возвращаться после колледжа на родительскую ферму и остается в университете продолжать учебу, а затем и преподавать. Все его решения, поступки, отношения с семьей, с любимой женщиной и в конечном счете всю его судьбу определяет страстная любовь к литературе.
Глава I
Уильям Стоунер поступил на первый курс университета Миссури в 1910 году, когда ему было девятнадцать. Восемь лет спустя, когда шла Первая мировая, он получил степень доктора философии и преподавательскую должность в этом университете, где он учил студентов до самой своей смерти в 1956 году. Он не поднялся выше доцента и мало кому из студентов, у которых вел занятия, хорошо запомнился. Когда он умер, коллеги в память о нем приобрели и подарили университетской библиотеке средневековый манускрипт. Этот манускрипт и сейчас можно найти там в отделе редких книг; он снабжен надписью: «Передано в дар библиотеке университета Миссури в память об Уильяме Стоунере, преподавателе кафедры английского языка. От его коллег».
Студент, случайно натолкнувшись на это имя, может вяло поинтересоваться, кто такой был этот Уильям Стоунер, но вряд ли его любопытство пойдет дальше вопроса, заданного мимоходом. Преподаватели, не особенно ценившие Стоунера при жизни, сейчас редко о нем говорят; пожилым его имя напоминает о конце, который их всех ждет, для более молодых это всего-навсего имя, звук, не пробуждающий воспоминаний и не вызывающий из небытия личность, с которой они могли бы ассоциировать себя или свою карьеру.
Он родился в 1891 году на маленькой ферме недалеко от поселка Бунвилл посреди штата Миссури, примерно в сорока милях от города Колумбии, где находится университет. Хотя его родители, когда он появился на свет, были молоды — отцу исполнилось двадцать пять, матери всего двадцать, — Стоунер даже в детстве думал о них как о стариках. В тридцать отец выглядел на все пятьдесят; сутулый от трудов, он безнадежными глазами смотрел на участок засушливой земли, который позволял семье кое-как перебиваться от года к году. Для матери вся ее жизнь, казалось, была долгим промежутком, который надо перетерпеть. Морщинки вокруг ее бледных отуманенных глаз были тем более заметны, что тонкие прямые седеющие волосы она зачесывала назад и стягивала на затылке в пучок.
С самых ранних лет, какие Уильям Стоунер помнил, у него были обязанности по хозяйству. В шесть лет он доил костлявых коров, задавал корм свиньям в свинарнике рядом с домом и собирал мелкие яйца, которые несли тщедушные куры. И даже когда он стал ходить в сельскую школу в восьми милях от дома, весь остальной день от темна до темна был у него наполнен всевозможной работой. Под ее тяжестью в семнадцать его спина уже начинала сутулиться.
На этой одинокой ферме он был единственным ребенком, и необходимость труда сплачивала семью. Вечерами все трое сидели в маленькой кухне, освещенной одной керосиновой лампой, и смотрели на желтое пламя; нередко за час, отделявший ужин от сна, там не раздавалось никаких звуков, кроме скрипа стула от перемещения усталого туловища да еле слышного потрескивания потихоньку проседающих деревянных стен.
Дом был квадратный в плане, и некрашеные бревна крыльца и вокруг дверей покосились. С годами дом приобрел цвет сухой земли, серо-коричневый, с белыми прожилками. На одной его стороне была общая комната, продолговатая и скупо обставленная: стулья с прямыми спинками, грубые столы; рядом — кухня, где семья проводила большую часть того малого времени, что могла проводить вместе. Другую половину дома составляли две спальни, в каждой — железная кровать, выкрашенная белой эмалью, один прямой стул и стол с лампой и тазом для мытья. Полы были щелястые, из некрашеных, трескающихся от старости досок, и пыль, которая поднималась сквозь щели, мать каждый день заметала обратно.
Школьные задания он выполнял так, словно это были такие же дела, как на ферме, разве лишь несколько менее утомительные. Когда он весной 1910 года окончил школу, он ожидал, что на него теперь ляжет больше полевой работы; отец за последние месяцы стал на вид более уставшим и каким-то медлительным.
Но однажды вечером в конце весны, после того как они вдвоем весь день окучивали кукурузу, отец, поужинав на кухне и подождав, пока мать заберет со стола тарелки, заговорил с ним:
— На той неделе сельхозконсультант заходил.
Уильям поднял на него глаза от круглого кухонного стола, покрытого клеенкой в красно-белую клетку. Он ничего не сказал.
— Говорит, в университете в Колумбии открыли новый колледж. Сельскохозяйственный. Говорит, тебе бы там поучиться. Это четыре года.
— Четыре года, — повторил Уильям. — И не бесплатно же.
— Жилье и питание можешь оплачивать работой, — сказал отец. — У твоей матери там двоюродный брат поблизости живет. Книги и прочее — это купишь. Я буду присылать в месяц доллара два-три.
Уильям положил ладони на клеенку, которая тускло отсвечивала под лампой. Дальше Бунвилла, до которого было пятнадцать миль, он еще ни разу из дому не отлучался. Он сглотнул, чтобы голос звучал ровно.
— Думаешь, сможешь сам тут управиться? — спросил он.
— Управимся, я и мама твоя. Верхние двадцать буду пшеницей засевать, ручной работы станет меньше.
Уильям посмотрел на мать.
— Ма? — спросил он.
Она ответила бесцветным тоном:
— Делай, как папа говорит.
— Вы правда хотите, чтобы я поехал? — спросил он, точно наполовину надеялся на отрицательный ответ. — Правда хотите?
Отец изменил положение тела на стуле. Посмотрел на свои толстые мозолистые пальцы — в их складки земля въелась глубоко, несмываемо. Сплетя пальцы, поднял руки со стола движением, похожим на молитвенное.
— Я вот мало чему учился, — сказал он, глядя на свои руки. — После шестого класса бросил школу, стал работать на ферме. В молодости никогда учебу высоко не ставил. Но сейчас не знаю. Земля с каждым годом суше, работать все тяжелей; я мальчиком был — на ней лучше все росло. Консультант говорит, сейчас есть новые способы, как вести хозяйство, в университете, мол, этому учат. Может, он и прав. Иногда работаю в поле, и мысли приходят… — Он замолчал. Сплетенные пальцы сжались туже, и он уронил руки на стол. — Мысли приходят… — Он покачал головой, хмуро глядя на свои руки. — Давай-ка двигай туда по осени. А мы с мамой управимся.
Это был первый раз, когда отец при нем говорил так долго. Осенью Уильям отправился в Колумбию и записался на первый курс сельскохозяйственного колледжа.
Он прибыл в Колумбию с новым черным шерстяным костюмом, заказанным по каталогу в «Сирсе и Робаке» и оплаченным скопленной за годы материнской выручкой за куриные яйца и прочее, с поношенным отцовским пальто, в синих сержевых брюках, которые в Бунвилле он раз в месяц надевал в методистскую церковь, с двумя белыми рубашками, с двумя комплектами рабочей одежды и с двадцатью пятью долларами наличных денег, которые отец занял у соседа под осенний урожай пшеницы. Из Бунвилла, куда родители рано утром привезли его на своей запряженной мулом телеге без бортов, он двинулся дальше пешком.
Стоял жаркий осенний день, и на дороге из Бунвилла в Колумбию было пыльно; он шел почти час, потом с ним поравнялся грузовой фургон, и возница предложил его подвезти. Он кивнул и сел к нему. Сержевые брюки были до колен красные от пыли, загорелое обветренное лицо покрылось пылью, смешанной с потом. Всю долгую дорогу Уильям неуклюже вытряхивал пыль из брюк и приглаживал прямые песочного цвета волосы, которые никак не хотели лежать ровно.
До Колумбии добрались под вечер. Возница высадил Стоунера на окраине городка и показал на группу зданий под высокими вязами:
— Вон он, твой университет. Там будешь учиться.
Несколько минут после того, как фургон поехал дальше, Стоунер стоял неподвижно, глядя на университетский комплекс. Никогда раньше он не видел ничего столь впечатляющего. Красные кирпичные здания окружала обширная зеленая лужайка с купами деревьев и каменными дорожками. Стоунер испытывал благоговение, но под ним, под этим священным трепетом вдруг возникла безмятежность, неведомое прежде чувство безопасности. Было довольно поздно, но он долго ходил вокруг кампуса, ходил и смотрел издали, словно не имел права приблизиться.
Уже почти стемнело, когда он спросил у прохожего, как выйти на Эшленд-Грэвел — на дорогу, ведущую к ферме Джима Фута, двоюродного брата его матери, на которого он должен был работать. К белому каркасному двухэтажному дому, где ему предстояло жить, он подошел в темноте. Футов он ни разу до той поры не видел, и ему было не по себе из-за того, что он явился так поздно.
Они встретили его кивками и испытующими взглядами. Несколько неловких секунд он простоял в двери, а затем Джим Фут жестом позвал его в маленькую, слабо освещенную общую комнату, заставленную мягкой мебелью, с посудой и безделушками на тускло поблескивающих столах. Садиться Стоунер не стал.
— Ужинал? — спросил Фут.
— Нет, сэр, — ответил Стоунер.
Миссис Фут поманила его за собой пальцем. Стоунер последовал за ней через несколько комнат на кухню, где она показала ему на стул, стоявший у стола. Поставила перед ним кувшин с молоком и положила несколько ломтей холодного кукурузного хлеба. Молока он выпил, но хлеб жевать не мог, до того пересохло во рту от волнения.
Фут вошел в кухню и встал подле жены. Он был коротышка, всего каких-нибудь пять футов три дюйма, с худым лицом и острым носом. Жена была выше его на полголовы и дородная; под очками без оправы толком не разглядишь глаз, тонкие губы сжаты. Оба, пока Стоунер пил молоко, смотрели на него очень пристально.
— Кормить и поить скотину, задавать с утра корм свиньям, — быстро проговорил Фут.
— Что? — переспросил Стоунер, взглянув на него рассеянными глазами.
— Это твои утренние дела, — сказал Фут, — до занятий в колледже. Вечером опять же поить и кормить, собирать яйца, доить коров. Колоть дрова, когда будет время. В выходные подсоблять мне в чем понадобится.
— Да, сэр.
Фут изучающе смотрел на него еще несколько секунд.
— Колледж, надо же, — сказал он и покачал головой.
Так что девять месяцев он за кров и стол делал все, что было перечислено. Вдобавок пахал и боронил, корчевал пни (зимой пробиваясь сквозь три дюйма мерзлой земли) и сбивал масло для миссис Фут, которая покачивала головой с сумрачным одобрением, наблюдая за тем, как деревянная маслобойка с хлюпаньем ходит вверх-вниз.
Его поселили на втором этаже в бывшей кладовке; из мебели там имелись чугунная продавленная кровать с тонким перьевым матрасом, сломанный столик с керосиновой лампой, шаткий стул и большой сундук, служивший ему письменным столом. Зимой все тепло, что он получал, просачивалось к нему сквозь пол с первого этажа; он заворачивался в обтрепанные одеяла и покрывала, которыми его снабдили, и, читая книги, дул на онемелые пальцы, чтобы не рвать страниц.
Он выполнял свою учебную работу так же, как работу на ферме: тщательно, добросовестно, не испытывая ни удовольствия, ни подавленности. К концу первого курса средняя оценка у него была чуть ниже чем «хорошо»; он был доволен, что его результаты не хуже, и его не огорчало, что они не лучше. Он понимал, что узнал то, чего не знал раньше, но это значило для него одно: на втором курсе он, вероятно, сможет учиться так же неплохо, как на первом.
На летние каникулы он вернулся к родителям на ферму и помогал отцу с полевыми работами. Отец спросил его раз, как ему нравится в колледже, и он ответил, что очень нравится. Отец кивнул и больше ни о чем не спрашивал.
Только на втором курсе Уильям Стоунер понял, ради чего он учится.
Ко второму курсу он стал в кампусе довольно заметной фигурой. В любую погоду носил один и тот же черный шерстяной костюм с белой рубашкой и галстуком-ленточкой; из рукавов пиджака торчали запястья, брюки сидели на нем странно — можно было подумать, он обрядился в униформу с чужого плеча.
Футы перекладывали на него все больше работы, а вечерами он подолгу сидел за учебными заданиями; он шел по программе сельскохозяйственного колледжа, которая обещала ему диплом бакалавра, и в первом семестре второго курса у него было две главные дисциплины: химия почв, которую преподавал его колледж, и полугодовой обзорный курс английской литературы, который довольно-таки формально обязывали пройти всех студентов университета.
С естественно-научными предметами он после первых недель стал справляться без особого труда: просто надо было сделать то-то и то-то, запомнить то-то и то-то. Химия почв заинтересовала его в общем плане; до той поры ему не приходило в голову, что бурые комья, с которыми он всю жизнь имел дело, — не только то, чем они кажутся, и он смутно предполагал теперь, что познания по части почв могут ему пригодиться, когда он вернется на отцовскую ферму. А вот обязательный курс английской литературы обеспокоил его, вывел из равновесия так, как ничто раньше не выводило.
Преподавателю было немного за пятьдесят; звали его Арчер Слоун, и в его манере вести занятия проглядывало что-то презрительное, как будто между своими познаниями и тем, что учащиеся могли воспринять, он видел такую пропасть, что преодолеть ее нечего было и думать. Студенты в большинстве своем боялись и не любили его, а он платил им за это иронически-отчужденным высокомерием. Это был человек среднего роста с продолговатым лицом, чисто выбритым и изрезанным глубокими морщинами; он то и дело привычным жестом запускал пальцы в копну седеющих курчавых волос. Голос у него был сухой, невыразительный, слова сходили с еле движущихся губ лишенные красок и интонации, но длинные тонкие пальцы при этом двигались грациозно, убедительно, словно придавая словам форму, какой не мог придать голос.
Вне учебных аудиторий, работая на ферме Футов или моргая при тусклом свете лампы за домашними занятиями в своей чердачной каморке без окон, Стоунер часто ловил себя на том, что перед мысленным взором вставала фигура этого человека. Уильяму не так-то просто было вообразить себе лицо кого бы то ни было из других преподавателей или вспомнить что-нибудь особенное о занятиях с ними; между тем образ Арчера Слоуна постоянно маячил на пороге сознания, в ушах то и дело звучал его сухой презрительный голос, которым он небрежно характеризовал то или иное место в «Беовульфе» или двустишие Чосера.
Стоунер обнаружил, что не может справляться с этим курсом так же, как с другими. Хотя он помнил авторов, произведения, даты и кто на кого повлиял, он едва не завалил первый экзамен; второй он сдал ненамного лучше. Он читал и перечитывал то, что задавали по литературе, так усердно, что начали страдать другие дисциплины; и все равно слова, которые он читал, оставались словами на странице и он не видел пользы в том, чем занимался.
В аудитории он вдумывался в слова, которые произносил Арчер Слоун, словно бы ища под их плоским, сухим смыслом путеводную нить, способную привести куда надо; он горбился над столом, за которым плохо помещался, и так стискивал его края, что под коричневой загрубелой кожей пальцев белели костяшки; он хмурился от сосредоточенности, он кусал нижнюю губу. Но чем отчаянней старались Стоунер и его однокурсники на занятиях Арчера Слоуна, тем прочней делалась броня его презрения. И однажды это презрение переросло в злость — в злость, направленную на Уильяма Стоунера лично.
Группа прочла две пьесы Шекспира и заканчивала неделю его сонетами. Студенты нервничали, были озадачены и в какой-то мере даже напуганы тем напряжением, что нарастало между ними и сутулой фигурой за преподавательской кафедрой. Слоун прочел им вслух семьдесят третий сонет; его глаза кружили по аудитории, сомкнутые губы кривились в саркастической улыбке.
— И что же этот сонет означает? — отрывисто спросил он и оглядел всех с мрачной безнадежностью, в которой сквозило некое удовлетворение. — Мистер Уилбер?
Нет ответа.
— Мистер Шмидт?
Кто-то кашлянул. Слоун уставился темными блестящими глазами на Стоунера.
— Мистер Стоунер, что означает этот сонет? Стоунер сглотнул и попытался открыть рот. — Это сонет, мистер Стоунер, — сухо проговорил Слоун, — поэтическое произведение из четырнадцати строк с определенной схемой рифмовки, которую, я уверен, вы помните. Он написан на английском языке, на котором вы, полагаю, некое количество лет изъясняетесь. Его автор — Уильям Шекспир, поэт давно умерший, но занимающий, несмотря на это, немаловажное место в иных из умов.
Он смотрел на Стоунера еще несколько секунд, а затем взгляд его затуманился и невидяще устремился за пределы аудитории. Не глядя в книгу, он прочел стихотворение еще раз; его голос смягчился и обрел глубину, как будто на короткое время этот человек слился со словами, со звуками, с ритмом:
То время года видишь ты во мне,
Когда один-другой багряный лист
От холода трепещет в вышине —
На хорах, где умолк веселый свист.Во мне ты видишь тот вечерний час,
Когда поблек на западе закат
И купол неба, отнятый у нас,
Подобьем смерти — сумраком объят.Во мне ты видишь блеск того огня,
Который гаснет в пепле прошлых дней,
И то, что жизнью было для меня,
Могилою становится моей.Ты видишь всё. Но близостью конца
Теснее наши связаны сердца!Он умолк; кто-то откашлялся. Слоун повторил последнее двустишие — его голос опять стал обычным, плоским:
Ты видишь всё. Но близостью конца
Теснее наши связаны сердца.Вновь уставив взгляд на Уильяма Стоунера, Слоун сухо произнес:
— Мистер Шекспир обращается к вам через три столетия. Вы его слышите, мистер Стоунер?
Уильям Стоунер почувствовал, что, вдохнув некоторое время назад, он так и сидит с полной грудью. Он осторожно выдохнул, отчетливо ощущая, как перемещается по телу одежда. Оглядел комнату, отведя глаза от Слоуна. Солнечный свет, косо проходя через окна, падал на лица студентов так, что они, казалось, светились изнутри в окружающем сумраке; один моргнул, и по щеке, где на юношеском пушке играло солнце, пробежала легкая тень. Стоунер вдруг понял, что его пальцы уже не сжимают так сильно крышку стола. Глядя на свои руки, он медленно повернул их; он подивился тому, какие смуглые у него ладони с тыльной стороны, как затейливо вправлены ногти в округлые кончики пальцев; ему казалось, он чувствует, как незримо движется кровь по крохотным венам и артериям, как она, беззащитно и нежно пульсируя, проходит от пальцев во все уголки тела.
Слоун снова заговорил:
— Что он вам сообщает, мистер Стоунер? Что означает его сонет?
Стоунер медленно, неохотно поднял взгляд.
— Он означает… — произнес он и чуть приподнял руки со стола; ища глазами фигуру Арчера Слоуна, он почувствовал, что их чем-то заволакивает. — Он означает… — повторил Стоунер, но окончить фразу не смог.
Слоун посмотрел на него с любопытством. Потом коротко кивнул и бросил: «Занятие окончено». Ни на кого не глядя, повернулся и вышел из аудитории.
Студенты, тихо ворча, переговариваясь и шаркая, потянулись в коридор, но Уильям Стоунер не обращал на них внимания. Оставшись один, он несколько минут сидел неподвижно и смотрел перед собой на узкие дощечки пола; лак с них был напрочь стерт беспокойными подошвами студентов прошлых лет, студентов, которых ему не суждено было ни увидеть, ни узнать. Сидя, он заставил свои собственные подошвы проехать по полу, услыхал сухой шорох кожи о дерево, почувствовал сквозь нее неровность настила. Потом встал и медленно вышел на улицу следом за остальными.
Холодок поздней осени давал себя знать, проникая сквозь одежду. Он огляделся вокруг, посмотрел на оголенные деревья, на изломы их сучьев на фоне бледного неба. Студенты, торопливо идя через кампус на занятия, задевали его локтями; он слышал их голоса и стук их каблуков по плитам дорожек, видел их лица, румяные от холода и немного опущенные из-за встречного ветра. Он глядел на них с любопытством, как в первый раз, и чувствовал себя очень далеким от них и в то же время очень близким. Он держал это чувство при себе, пока торопился на следующее занятие, и держал его при себе всю лекцию по химии почв, слушая монотонный голос профессора и записывая за ним в тетрадку то, что надлежало потом вызубрить, хотя зубрежка уже в те минуты становилась ему чужда.
Во втором семестре второго курса Уильям Стоунер отказался от базовых научных курсов и прекратил учебу в сельскохозяйственном колледже; вместо этого он записался на вводные курсы философии и древней истории и на два курса английской литературы. Летом, когда он опять вернулся на ферму помогать отцу, он о своих университетских делах помалкивал.
Елена Бочоришвили. Только ждать и смотреть
- Елена Бочоришвили. Только ждать и смотреть. — М.: АСТ: CORPUS, 2015. — 416 с.
Живущая в Канаде Елена Бочоришвили пишет по-русски, но корни ее маленьких повестей — в Грузии, в наивных картинах Нико Пиросмани и мудрых трагикомедиях великого грузинского кино. В ее текстах речь идет о странных людях, которые влюбляются и расстаются, а если умирают, то только оттого, что у них почему-то больше не получается жить дальше. Бочоришвили следует традициям магического реализма, но лишает свои произведения придуманного волшебства, оставляя лишь магию повседневности. В книгу «Только ждать и смотреть» вошли четыре ранее не публиковавшихся произведения Елены Бочоришвили и три текста, уже издававшиеся на русском языке.
Мои душистые старички и благоухающие старушки
Первая часть
1
Пока они были живы — я не писал. Я еще помнил, как голубые волосы Эммочки развевались на ветру. Она носила челку и длинные локоны — странная прическа для пожилой женщины. И цвет! Я с трудом различил ее лицо на фоне неба. Эммочка позвонила в дверь, и отец сказал: «Это она! Она всегда приходит, когда я в трусах». Я открыл дверь и отпал. Я впервые видел женщину моего роста, если не считать парочку чемпионок-баскетболисток, похожих на переодетых мужчин. Портрет красавицы в дверной раме. Я был потрясен. Я не знал, что красота еще допустима после семидесяти лет. Мне казалось, что в этом возрасте наступает глубокая старость — халат, шлепанцы и зубы в стакане. Положим, насчет зубов я не слишком ошибался.
Потом, с годами, цвет волос становился гуще, как небо к полудню, голубыми оставались только глаза. Все последние годы ее прическа уже не менялась — она собирала волосы в пучок на макушке. Стог сена, в который попала молния, или пламя газовой плиты. Чем она душилась? Наверное, духами, что были подешевле, она ведь не умела тратить, только копить. Я как сейчас ощущаю этот запах. Он застрял в воздухе, висит, как шарик. Здесь побывала благоухающая старушка.
Я часто заставал их за разговором на кухне — женщину с синими волосами и моего отца, мужчину в трусах. Щеки Эммочки слегка розовели — говорю же, надо было рисовать ее не карандашом, а пастелью, карандаш лучше схватывает движение, а ее красота была в цвете! — и она бормотала что-то о своих детях. Она пыталась оправдать внешний вид моего отца — мол, он ей как сын, это неважно. Вряд ли она смутилась бы больше, если бы я застал их в постели: перешел бы бледно-персиковый в насыщенный красный? Каков он, цвет женской гордости? И чем он отличается от цвета стыда? У Эммочки было пятеро детей, и мой отец говорил, что в их семье счет пять — ноль: она проиграла их всех.
Я никогда не говорил отцу, что однажды Эмма пришла к нам домой ночью, когда я был один. И снежинки сверкали на ее плечах как звезды. Зачем? Он ведь верил, что Эмма ему настоящий друг, а я верил, что каждый человек имеет право на ошибку.
Или Шапиро — единственный, кто отказался позировать для моей портретной галереи и ушел, как испарился. Он так усиленно скрывал свою жену, что я был уверен — он живет один. Зак Полски смеялся: «Спросите Шапиро о сексе в СССР, он вам расскажет! Или нет, лучше спросите его жену!» Я отбивался: «Но ведь его жена не из Союза!» «А вы спросите про секс, при чем здесь Советский Союз?» — удивлялся Зак. Когда Шапиро умер, мы даже не присутствовали на похоронах, потому что его жена никому из нас не позвонила, да мы и не знали, что она есть, точнее была. Некоторых из них я любил так сильно, что отдал им часть своего сердца, когда они ушли. А некоторых, признаюсь, ненавидел. И они тоже унесли кусочек моего сердца, потому что ненависть — палка о двух концах. Только о ненависти я забыл, а о любви — нет. Ни с кем из людей, которых я потерял, я не состоял в родстве, но они были моей семьей, частью моей судьбы, моей жизни, куда больше, чем просто родная кровь. Все эти душистые старички и благоухающие старушки. Я рисовал их карандашом, потому что у меня не было денег на краски, и ни один из них — даже те, кто завещал свои арт-коллекции музеям, — не захотел вкладывать «в себя». Портреты вышли черно-белыми, а во сне я вижу их в цвете. Гораздо позже, когда я разбогател наконец на краски, я сделал свою первую картину в цвете, «Ремейк». Потом был скандал — «Смерть в пустой галерее», «Кто эта женщина?», «Врачам не удалось спасти…». И, как это бывает, именно благодаря скандалу ко мне пришла какая-то слава. Критики писали: «В творчестве автора популярной иллюстрированной книги „Секс в СССР“ был депрессивный черно-белый период, выйдя из которого автор создал „Ремейк“».
Но это не так. Я хочу сказать, что в тот черно- белый, карандашный период моей жизни, когда были живы мои старички и старушки — и это почти четверть века назад, — я был восторженно, упоительно, восхитительно счастлив, и по силе эмоций, по бешенству цвета, по экстазу, по оргазму счастья я могу сравнить этот период лишь с днем, когда родилась моя дочь.
2
Вопрос о том, кто мой отец, мало волновал меня в детстве. В нашем доме вечно болтались мужчины, готовые назвать меня сыном. Иногда они приводили своих детей от других браков, и какое-то время у меня даже были братья и сестры, семья. Все это очень непривычно для Грузии, у нас мужчина если развелся, то пропал. Подозреваю, что не все «папы», дарившие мне футбольные мячи, были официально разведены. В Грузии мужчины слишком рано женятся, и женщины, соответственно, слишком рано выходят замуж. Тебе еще нет двадцати, а у тебя уже жена и ребенок, и это на всю жизнь, а живем мы на Кавказе очень долго. И вокруг весна, и даже мандарины пахнут сексом. Надо же как-то найти выход! Порой жены маминых кавалеров приходили бить нам стекла, иногда терпели, потому что мудро решали: муж перебесится мои и вернется, а случалось, даже гордились тем, что им изменяют не с кем-нибудь, а с самой Лили Лорией. Она была популярной певицей, звездой всесоюзного масштаба, ее песню «Тик-так, тик-так, тикают часы» пела вся страна! Но романы были короткими — сколько там длятся перерывы между гастролями? — и я вырос без отца. Любовь не любит складываться в чемодан.
Ходили слухи, что мой отец — известный театральный актер Нодар К. Соседи шли на его спектакли лишь для того, чтобы лично убедиться. Смотрите, как вылитый: глаза, нос, рот, фигура, а цвет волос?! Маркс и Энгельс, издалека не различишь. В деревне, куда мать сбрасывала меня на лето, как листовку во вражеский лагерь, родственники поднимали тост за мое здоровье: «За сына нашего знаменитого… не будем называть фамилию… который в таком-то спектакле исполняет такую-то роль… конечно, вы все его знаете, а что нам еще показывают по телевизору?» Мне тоже хотелось думать, что актер театра — мой отец, должен же у человека быть отец, и хорошо, что знаменитый, хоть и в республиканском, а не во всесоюзном масштабе. Я не хотел стричься, потому что кудри служили неопровержимым доказательством: как часто вы встречаете грузина-блондина? Даже то, что в двенадцать лет я был почти одного роста с театральным актером, меня не смущало — это спорт вытянул меня в длину, и я ем за двоих.
— Нодар К. — мой отец? — спросил я маму.
— Нет, — сказала она.
«Надо было спросить у него! — подумал я тогда, — Мужчины все знают лучше!» Нодар К. постоянно присылал нам пригласительные в театр, а ходил я с родственниками, которых у нас в доме была целая армия. Вряд ли он присылал эти пригласительные для матери, он ведь знал, что она на гастролях где-нибудь в Новосибирске, значит, он хотел видеть в зале меня. Я не отставал. Мать переходила из одной комнаты в другую, пыталась сбежать от меня, а я — за ней. Мы жили в большой квартире, много комнат и много дверей. С ней никогда нельзя было «сесть и поговорить», она все делала на ходу, даже ела. Ненавидела бесконечные грузинские застолья. «У нее шило в заднице», — говорили мне тетки, ее сестры.
— А почему не Нодар К.? — настаивал я. — Я вас в детстве много раз видел вместе! Я помню, он водил меня в парк, катал на детском паровозе!
— Ты не можешь этого помнить, — отвечала мать, пытаясь уйти от меня подальше, в свою спальню с горами тряпья на полу, — тебе было три года!
Вот тогда я усадил ее на пуфик перед зеркалом. Обнял. Моя мать обожала, когда я ее обнимал, целовал. Она тут же начинала плакать: «Мой сыночек, мой красавчик, какой ты уже большой! Скоро женишься, что со мной будет? Забудешь свою мамочку, жена будет тебе мозги крутить!» Как хорошо я запомнил этот день, этот миг. Зеркало вдруг вспыхнуло от солнца, словно экран телевизора. Солнце запустило свой луч-руку в бутылочки-баночки, во флаконы духов и разбилось на все цвета радуги. Я запомнил лицо моей матери, в слезах, бесконечно любимое. Ее горячие губы на моем лице, возле моего уха. И ее шепот:
«Твой отец — иностранец!»
3
Так вот он кто, мой отец! Очень многое вдруг прояснилось. Почему, например, мою мать не выпускали за границу, даже в Польшу или в Болгарию. Артистам надо было выехать вначале в соцстрану и вернуться, — доказать свою благонадежность. Боже мой, не оставаться же на всю жизнь в Болгарии — там ведь тот же самый Советский Союз! Потом могли выпустить на гастроли в ГДР, Венгрию и «под занавес» в Югославию. Югославия была где-то у самой кромки взлетной полосы, там, где самолет отделяется от земли и поднимается в воздух. Почти капстрана. Одной ногой там, другой здесь. Примерно так, как описывал состояние нашего общества Хрущев: «Мы стоим одной ногой в коммунизме, а другой все еще в социализме», — только Югославия стояла одной ногой в капитализме. Кстати, по анекдоту, Хрущева спросили «из зала»: «И долго еще мы в такой неудобной позе стоять будем?»
И уже потом, когда пройдешь все круги ада, после длительной проверки документов, «бесед» в КГБ — наконец, наконец! — капстраны, А-ме-ри-ка!
Моя мать стала «невыездной» еще в самом начале своей карьеры, потому что позволила себе («Вы что себе позволяете, товарищ Лория?») влюбиться в иностранца. Ей было двадцать лет, она училась в Москве на филологическом факультете, а на одном из студенческих концертов спела песенку «Тик-так, тик-так, тикают часы», и ее заметили.
«Ее рейтинг стал очень быстро повышаться», — сказали бы в стране, где я сейчас живу. Зрители в залах послушно наклоняли головы то влево, то вправо, в такт музыке, словно маятник на часах раскачивался — тик-так, тик-так! О ней потом писали, что «ее голос завораживает слушателя», но мой отец много раз рассказывал мне, что именно его заворожило. «Она была очень сексуальная, настоящая секс-бомба. В ней было столько „поди ко мне“!..» Он заметил ее еще раньше, чем музыкальные критики, скорее всего, почти одновременно с КГБ. Чекисты следили за ним, а вышли на нее. С ним, американцем, они ничего не могли поделать, просто выслали из страны, а она…
«Вы что себе позволяете, товарищ Лория? — орали на нее в КГБ. — Если бы он, на крайний случай, был из дружественной нам страны, какого-нибудь Вьетнама или Камбоджи, но а-ме-ри-ка-нец!..» Из института, ее, конечно, отчислили. Петь не запретили — кому-то наверху нравилась песня про часы. И вот так она всю жизнь гастролировала по Советскому Союзу, не выезжая за его пределы, не подходя даже близко к взлетной полосе. Она была птичкой с разбитым сердцем, что поет в клетке, но и зрители сидели в клетке, поэтому они понимали ее и любили. Подпевали ей дружно: тик-так, тик-так, тикают часы!
Как долго длилось их совместное счастье? Я не знаю. Отец провел в Советском Союзе всего год, с матерью познакомился не сразу. Однажды я спросил его о датах, а реакция была настолько неожиданной и сильной, что больше к этому вопросу я не возвращался. Сестры матери, которые знали о романе только по переписке, имели разноречивую информацию. Бывший одноклассник, а потом кагэбэшник дружески поделился со мной, что вряд ли мои родители провели даже одну ночь вместе, иначе бы ее сразу «взяли». От моей матери трудно было добиться вразумительного ответа. На мой вопрос: «Как долго ты его любила?» она ответила: «Всегда».
4
Моя жизнь резко изменилась с тех пор, как я узнал, кто мой отец. Мне оставалось десять лет, три месяца и четырнадцать дней до встречи с ним, хотя я об этом, конечно, не знал. Да и кто мог знать, что Советский Союз вдруг умрет? Что рухнет Берлинская стена? Надо было быть самым наивным романтиком, чтобы в это поверить. Сейчас я часто слышу или читаю воспоминания бывших советских людей о том, как они предвидели распад страны. Может, и на «Титанике» были люди, которые бегали по палубе и кричали: «Поворачивай! Айсберг! Мы скоро утонем!» А вот я ничего не знал. Шел 1981 год, Горбачев был рядовым членом политбюро, и перестройкой даже не пахло. Но в свои двенадцать лет я перестал быть стариком и превратился в ребенка.
Мне придется сказать два слова о том, как я жил, хотя речь не обо мне. Я родился в конце 1960-х годов, советская часть моей жизнь прошла в основном в эпоху Брежнева. Затяжной период, мило названный «застой». Описать эту жизнь могу так: вы живете в поезде. Поезд едет. По дороге вы понимаете, что сойти с поезда нельзя. Вы начинаете обживаться, пристраиваетесь кое-как на своей жесткой полке. Говорите соседям по вагону: «Ну ничего, жить можно!» И даже убеждаете в этом самого себя. И тут происходит страшное — вы осознаете, что поезд едет в никуда.
Или иначе: вы стоите на полустанке, мимо вас несутся поезда. Ни один поезд не останавливается. Стук, стук колес, и запах, и цвет, непрерывный, и лица — смотрят не по ходу поезда, а на вас. От мельканья окон кружится голова. Очень быстро и рано вы понимаете, что так пройдет вся ваша жизнь: мимо. Босоногий мальчишка, осознавший это, — старик.
Мсье Туччи, пожилому другу отца, труднее всего давалась именно эта часть моих рассказов. Он родился, вырос и всю жизнь прожил в Монреале. Имел возможность уехать, но никогда никуда не уезжал. «Зачем?!» Что я могу сказать? От хорошей жизни не бегут. Трагедия ведь не в том, что тебе не разрешают уехать, а в том, что жизнь — дрянь.Тот день, когда я узнал, что мой отец — иностранец, был одним из самых радостных в моей жизни. Как будто солнце, что ударилось в зеркало, осветило меня счастьем. Солнце протянуло мне луч, а я ухватился за него, как за руку друга. У меня появилась надежда, цель. Я вырвусь, я найду способ, я увижу своего отца. Сейчас я думаю — как быстро это все случилось! Десять лет, три месяца и четырнадцать дней. Но даже если бы пришлось ждать вечность…
«Я буду художником, — мечтал я, пока плыл в одну сторону бассейна, оттолкнулся от стены и назад, — мне не придется рисовать круглую голову Ленина, я буду рисовать все, что захочу. Труднее всего изобразить полет. Даже лепесток, падая, летит! Ленина — это каждый дурак… Мой отец будет гордиться мной! Мой отец…»
«Сандро! — кричал мне тренер. — Не спи!»
В одну сторону бассейна, оттолкнулся от стены и назад. Я действительно часто засыпал, продолжая плыть. Меня расталкивали перед тем, как я вылезал из воды. Я видел цветные сны.
Моя мать ездила по большим и маленьким городам необъятной страны. «Тик-так, тик-так, тикают часы!» Кто-нибудь из родственников всегда ездил с ней — носил чемоданы. Мать привозила груды барахла — в нашей стране все товары были дефицитными. Тряпки потом горками складывали на полу — это подарки родственникам, это друзьям, а это на продажу. Ну да, мы все время что-то перепродавали, чтобы выжить, делали маленький бизнес, запрещенный правительством.
«Мой сыночек, мой красавчик, какой ты у меня маленький! — воскликнула моя мать, когда вернулась с очередных гастролей. — Что ты пристал с этими расспросами о твоем отце? Что ты, ребенок? Не понимаешь, что ты его никогда не увидишь?»
«Увижу! — отрезал я. — Даже если придется ждать вечность!»
И тогда моя мать обняла меня, прижала свое заплаканное лицо к моей щеке и прошептала: «Я не хотела тебе говорить, мой мальчик, но твой отец сумасшедший!»
Рой Якобсен. Чудо-ребенок
- Рой Якобсен. Чудо-ребенок / Пер. с норв. А. Ливановой. — М.: АСТ: Corpus, 2015. — 288 с.
В издательстве Corpus вышел новый роман норвежца Роя Якобсена «Чудо-ребенок», рассказывающий об умном и нежном мальчике Финне, счастливо живущем вдвоем с мамой. Появление сводной сестры героя завязывает крепкий сюжетный узел и вносит много оттенков в понимание любви, верности и предательства. Фоном главному действию служит любовно и скрупулезно воссозданный антураж шестидесятых — время полных семей и женщин-домохозяек, время первых спальных пригородов, застроенных панельными четырехэтажками, это первые нефтяные деньги и первые предметы роскоши: обои, мебельные стенки и символ нового благоденствия — телевизор.
Глава 2
Уже на следующий день мы с мамой отправились в Орволлский торговый центр приглядеть обои. И это прям чудо, потому что мамку
мало того, что со всех сторон окружают опасности, ей еще требуется много времени, чтобы
тщательно всё обдумать; та зеленая краска, на которую мы
вот только что зря ухлопали деньги, возникла, к примеру,
по воле не какой-нибудь случайной прихоти, но тщательной работы ума, не прекращавшейся с прошлого
Рождества, когда нас пригласила на кофе с печеньем пожилая пара с первого этажа, а у них все стены оказались
не такого цвета, как у нас, и выяснилось, что соседи сами
их перекрасили, кисточкой. А еще в другой раз мама зашла за мной к моему приятелю Эсси, а там отец семейства
перенес дверь, и вход в маленькую комнату стал не из гостиной, а из прихожей, так что теперь шестнадцатилетняя сестра Эсси могла попасть к себе прямо из коридора.
И теперь все эти наблюдения, плюс еще то обстоятельство, что хозмаг, в который мы пришли, прямо-таки светился будущим, возможностями и обновлением, даже
ведра с красками и синие рабочие халаты здесь дышали
чистотой и оптимизмом, от такого и камень растрогался бы, короче, все это сошлось воедино и сложилось
в решительное заключение.— Ну вот, — сказала мамка. — Придется нам все-таки
пустить жильца. Без этого никак.Я с изумлением поднял на нее глаза; мы ведь это
уже обсуждали и, как мне казалось, пришли к соглашению, что ни за что не будем сдавать комнату, как бы туго у нас ни было с деньгами, потому что в этом случае
мне пришлось бы отказаться от собственной комнаты,
которую я любил, и перебраться в комнату к маме.— Я могу спать в гостиной, — сказала она, прежде чем
я успел вякнуть. Так что в этот день дело не ограничилось
закупкой обоев и клея, но было еще сочинено объявление в «Рабочую газету» о сдаче комнаты. Снова пришлось
обращаться к мужичищу Франку; не смог бы Франк, который в дневные часы орудовал бульдозером на строительстве новых кварталов, захватывавших все большую
часть долины Грурюд-дален, в вечернее время перенести
дверь в маленькую спальню, чтобы жильцу (или жиличке)
не пришлось ходить туда-сюда через нашу частную жизнь,
не говоря уж о том, чтобы нам в нашей свежеоклеенной
обоями гостиной не пришлось терпеть топающего туда-сюда абсолютно чужого человека?Иными словами, нас ожидали интересные времена.
Выяснилось, что плотник из Франка никудышный.
В процессе переноса двери грохоту и грязи было не оберись, к тому же работал он все в той же майке с дырками, шумно дышал и жутко потел — и уже с первого вечера начал называть мамку малышкой.
— Ну чё, малышка, ты как кумекаешь, наличники-то те
старые оставить или чё поновее приискать?— Это смотря во что они станут, — отвечала мать.
— Тебе, малышка, недорого, у меня везде свои люди.
К счастью, мамке не пришлось по нраву, чтобы ее
величали малышкой. А уж фру Сиверсен появлялась
у нас как по часам, то чтобы позвать супруга перекусить, то чтобы сообщить, что мусорная машина сегодня
припозднилась. Нужно признать, что я и сам тщательно за ними следил, потому что к приходу соседа мамка каждый раз мазалась губной помадой и снимала бигуди, мне прям недосуг было на улице погулять. Время
от времени фру Сиверсен засылала к нам еще старшую
дочку, Анне-Берит, и тогда мы вместе наблюдали, как
этот здоровенный мужик расправляется с тяжелющими дверными полотнищами и филенками, и как у него
на плечах и спине черные волосы, словно прошлогодние кустики травы по весне, торчат из дырок линялой
майки, которая с каждой стиркой все больше походила
на рыболовецкий трал, а на одежду все меньше; и слушали, как он, в промежутках между замахами, постанывает: — Молоток! Гвоздь! Рулетка! — шутливым тоном,
чтобы мы ему подавали эти предметы; это было здорово. Но когда дверь оказалась наконец на месте, а старый
проем, не прошло и недели, был заделан, обшит новыми
наличниками и вообще, и зашла речь об оплате, Франк
начисто отказался брать деньги.— Ты рехнулся, — сказала мама.
— Зато, может, у тебя найдется чего выпить, малышка, —
сказал он тихонько, будто благодаря успешно проведенной операции у них теперь появился общий секрет. Без
толку стояла мамка со своим кошельком, переминаясь
с ноги на ногу и перебирая свеженакрашенным ноготком две-три пятерки: смотри, сколько у меня, только назови цену; Франк был и остался джентльменом, так что
вместо денег обошелся парой рюмашек кюрасао.— По одной на каждую ногу.
Зато теперь мы хотя бы от него отделались, и можно было начинать клеить обои. Оказалось, что это у нас
получается хорошо. Мамка снова воцарилась на кухонном стуле под потолком, я внизу, ближе к полу. Ту стенку,
на покраску которой у нас ушла целая неделя, мы оклеили целиком всего за один вечер. Потом у нас ушло еще
два вечера на возню вокруг балконной двери и большого окна в гостиной, и еще один вечер, последний,
на оклейку стенки, за которой была моя спальня, где
скоро поселится жилец. Комната преобразилась до неузнаваемости, меня эти перемены потрясли и оглоушили. Мы, правда, не пошли на приобретение джунглей,
мама хотела чего-нибудь менее броского, но ботанический жанр все же выдержали, с извилистыми полосами
и цветами, так что стало похоже на рыжевато-желтый
подлесок. И когда уже на следующий день посмотреть
комнату явились двое желающих, дело пошло.Нет, дело не пошло.
Первые двое, что приходили смотреть комнату,
не приглянулись нам. Потом приходил еще третий,
но ему не приглянулась комната. И мамка как-то сникла от этих неудач. Может, она слишком много просила за комнату? Или слишком мало? Раньше-то она поговаривала о том, что, может, стоит переехать куда-нибудь из Орволла, найти себе что-нибудь попроще, может
быть, в том районе, где они с мужем жили прежде, в Эвре-Фоссе, где люди все еще вполне обходились одной
комнатой и кухней. Но тут внезапно подоспело письмо, написанное вздыбленным почерком; некая Ингрид
Улауссен, незамужняя, тридцати пяти лет, как она отрекомендовалась, спрашивала, нельзя ли прийти посмотреть комнату в ближайшую пятницу.— Да-да, — сказала мама.
А сама взяла и вероломно не оказалась дома, когда
я на следующий день пришел из школы вместе с Анне-Берит и Эсси. Такого со мной еще никогда не приключалось: ткнуться носом в запертую дверь. Которую
так и не открыли, сколько я ни трезвонил. Такой поворот выбил меня из колеи начисто. И Эсси позвал меня
к себе, где его мать, одна из немногих матерей, на которых я мог положиться, кроме своей собственной, утешала меня, мол, мамка наверняка просто вышла в магазин за продуктами, вот увидишь, а ты пока поделай
уроки вместе с Эсси, ему как раз пригодится помощь
в его неравной борьбе с буквами, да и считает он тоже не ахти как.— Ты же так хорошо учишься, Финн.
Ну да, с учебой все шло как надо, это было частью
нашего с мамкой договора, деликатного распределения
сил в семье из нас двоих. Меня угостили бутербродами
с сервелатом, что я обычно очень даже высоко ценю,
но кусок в горло не лез; слишком всё было странно, и если уж у тебя есть мать, то это тебе не шуточки, что она
вдруг взяла да исчезла. Я сидел рядом с Эсси за его простецким письменным столом, держал в руке карандаш,
чувствовал себя сиротой и не мог написать ни буковки.
Слишком это было на нее не похоже. Теперь уж больше часа прошло. Нет, всего четырнадцать минут прошло. Только спустя почти два часа на дорожке, ведшей
к нашему корпусу, послышался какой-то шум; оказалось, это чихал глушитель заштатного грузовичка, задним ходом сдававшего к дому. Тут и мамка выпрыгнула
из кабины в платье, в котором обычно ходила на работу
в свой магазин — длинном в цветочек, и бегом бросилась ко входу. На бордово-красных дверцах грузовичка было красиво выведено буквами с золотой окаемкой
«Стурстейн: мебель & домашний инвентарь». Здоровый
мужик в рабочем комбинезоне опустил борта машины,
оттуда выпрыгнул его напарник, и вдвоем они сняли защитную пленку со стоявшего в кузове дивана, современного дивана в бежевую, желтую и коричневую полоску,
который мамка, значит, решилась-таки купить, исходя
из столь жидкого обоснования как письмо от некоей
Ингрид Улауссен, и вот они спустили диван из кузова
и потащили его к входной двери.К тому времени у меня уже ранец был за спиной,
и я, прыгая через четыре ступеньки, пронесся вниз все
этажи, наискосок прямо по газону и вверх по лестнице следом за теперь нашим громоздким предметом обстановки, который два на чем свет ругающиеся мужика
насилу сумели втащить к нам на третий этаж и, развернув, впихнуть в ту самую дверь, что впервые за всю мою
жизнь целую вечность оставалась на запоре.А в квартире уже ждала мамка с отчаянным и напряженным выражением лица, и выражение это не стало более нормальным, когда она заметила меня, полагаю, видок у меня был не очень, и она сразу принялась оправдываться — мол, в магазине все занимает столько времени.
Но утешала она вяло и, едва расписавшись в получении
нового дивана, сразу же прилегла на него — грузчики
поставили его у стены в гостиной, где раньше у нас никакой мебели не стояло; он туда, в общем-то, очень хорошо
вписался. И я тоже прилег. Привалился к маме под бочок и, вдохнув ее запахи, ощутив на себе ее руки, приобнявшие меня, моментально уснул, анютины глазки, лак
для волос, кожаная обувь и одеколон «4711». Проснулся
я только через два часа, укрытый пледом, а мама уже готовила ужин на кухне, напевая по своему обыкновению.Обеда-то сегодня не получилось, вот она и жарила
яичницу с беконом на ужин, хотя такой ужин, он стоит
любого обеда. А пока мы ели, она мне объяснила, что
есть такая вещь под названием «кредит на обустройство
жилья», если уж совсем вкратце, то суть его в том, что
не нужно копить деньги до покупки, а можно отдавать
после, и это, в свою очередь, значило, что нам, похоже,
не придется ждать незнамо сколько, чтобы позволить себе купить еще и книжный стеллаж, не говоря уж о телевизоре; его собратья как раз тогда полным ходом оккупировали квартиры повсюду вокруг нас, но вскоре мне
уже не придется больше бегать к Эсси всякий раз, как
показывают что-нибудь стоящее.Перспектива вырисовывалась заманчивая. Но что-то
еще чувствовалось в мамке в тот вечер, это что-то заставляло меня задуматься, в ней как будто бы что-то сломалось, и пригасло исходившее от нее ощущение немногословной надежности и безопасности, и я — все еще
травмированный мамкиным исчезновением — в эту
ночь спал не таким крепким сном, как обычно.На следующий день я пошел домой сразу после
школы и на этот раз обнаружил мамку на месте и во всеоружии к приходу Ингрид Улауссен. Мамка тут же принялась шпиговать меня всяческими нравоучениями, как
перед экзаменом; это было совершенно излишне, серьезность момента я и так осознавал.— Чё, что-то не так, что ли? — спросил я.
— Это ты что имеешь в виду? — ответила она на ходу,
подходя к зеркалу; посмотрелась в него, обернулась
ко мне и спросила, поджав губы: — Надеюсь, ты никакой каверзы не задумал?Я даже и не сообразил, на что это она намекает.
Но всего через пару секунд она опять стала сама собой,
с сочувствием глянула на меня как-то искоса и сказала,
что понимает, это для меня непросто, но ведь без этого
не обойтись, понимаю ли я?Я понимал.
Мы были заодно.
Ингрид Улауссен заявилась на полчаса позже назначенного времени, оказалось, что она работает в парикмахерском салоне на Лофтхус-вейен, внешность ее
этому соответствовала, выглядела она как двадцатилетняя девушка, хотя они с мамкой были ровесницы. У нее
были уложенные высоко рыжие как ржавчина волосы,
на которые была нахлобучена маленькая серая шляпка, украшенная ниткой маленьких черных бусинок-капелек, так что казалось, что у шляпки слёзы. К тому же
Ингрид курила сигареты с фильтром и не только писала коряво, но и умудрилась с порога заявить, едва окинув комнату взглядом:— Ну уж очень простенько. Надо было указать в объявлении.
Я был не в курсе, что это значит, но на лице матери быстро сменились три-четыре хорошо мне знакомых
выражения, а потом она выдала, что, мол, некоторым
легко говорить, они не имеют представления, сколько
стоит подать объявление в газету. В ответ на эту информацию Ингрид Улауссен только глубоко затянулась сигареткой и огляделась в поисках пепельницы. Но пепельницу ей не предложили. Видно было, что мамка
уже хочет поскорее закруглиться с этим делом, и она
сказала, что мы вообще-то передумали, нам эта комната и самим нужна.— Уж извините, что вам пришлось зря ходить.
Даже входную дверь перед ней открыла уже. Но тут
вдруг Ингрид Улауссен сникла. Голова с шикарно уложенными волосами медленно, но верно склонилась
на грудь, а длинное угловатое тело качнулось.— Да что же это такое, вам плохо?
Мамка ухватила ее за рукав пальто и потянула за собой в гостиную, усадила на новый диван и спросила,
не принести ли ей водички, или, может, чашечку кофе?И тут произошло нечто еще более непостижимое.
Ингрид Улауссен изъявила желание выпить чашечку кофе, с удовольствием, но мамка не успела даже поставить чайник, как та сплела свои длинные тонкие пальцы и стала их выкручивать, будто свивала два конца веревки, и затараторила быстрым стаккато о своей работе,
о требовательных клиентах, которые, насколько я мог
уяснить, постоянно придирались к ней по каждому ничтожному поводу, и о высокомерном хозяине салона,
но и еще о чем-то таком, из-за чего у мамки совершенно поменялся настрой, и она прогнала меня в спальню
раньше, чем я успел разобраться, в чем там дело.
Сквозь дверь мне были слышны голоса, торопливое бормотание, даже вроде бы плач. Постепенно тональность звучания изменилась, похоже было, что они
сумели о чем-то договориться, даже пару раз невесело
рассмеялись. Я уж было подумал, что они подружились.
Но нет, когда мама наконец выпустила меня, оказалось,
что Ингрид Улауссен и след простыл, а мамка в глубокой задумчивости взялась готовить обед.— А она не будет здесь жить? — спросил я.
— Нет, это я тебе твердо обещаю, — сказала она. —
У нее ни гроша за душой нет. И все у нее наперекосяк.
Ее даже вовсе и не Ингрид Улауссен зовут…Мне хотелось спросить мамку, откуда она знает
все это? И повыспрашивать у нее, как это совершенно незнакомый человек доверился ей вот так запросто? рой якобсен чудо-ребенок
Но за те полчаса, что я просидел взаперти, на меня накатило какое-то странное нехорошее чувство, ведь ответов на мои вопросы могло быть два: либо мамка была с ней знакома раньше, либо она узнала в ней саму
себя. И поскольку мне не хотелось получить ни одного
из этих ответов, то я сосредоточился на еде, но подспудно зрела во мне догадка, что о каких-то сторонах жизни мамки я ничего не знаю, и речь не только о внезапном ее исчезновении днем раньше, в четверг, ибо это
исчезновение все же имело своим объяснением диван;
но чтобы совершенно чужой человек заявился в наш донельзя бедный событиями, но теперь слишком расфуфыренный дом и, едва присев на только что купленный
диван, потерял самообладание и раскрыл перед нами все
свои секреты, вслед за чем был немедленно отправлен
восвояси; тут передо мной была не только абсолютно
неразрешимая загадка, но и загадка, ответа на которую
я, может быть, и не хотел получить.Так что я сидел себе тихонечко и тайком поглядывал на мамку, нервную, боящуюся темноты, но обычно
такую надежную и вечную мамку, мой прочный фундамент на земле и слон на небесах, и лица ее сейчас было не узнать.
Чеслав Милош. Азбука
- Чеслав Милош. Азбука / Пер. с польск. Н. Кузнецова. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014. — 608 с.
В конце января в Издательстве Ивана Лимбаха впервые на русском языке выходит интеллектуальная биография польского поэта Чеслава Милоша. «Азбука» написана в форме энциклопедического словаря и включает в себя портреты людей науки и искусства, раздумья об этических категориях и философских понятиях (Знание, Вера, Язык, Время и многое другое), зарисовки городов и стран — все самое важное в истории многострадального ХХ века.
Ангельская сексуальность. Когда появляется Единственная? Беатриче не была ни женой, ни невестой
Данте, а всего лишь молоденькой девушкой, которую
он иногда видел издали. Однако в «Божественной комедии» она встречает его и ведет, после того как Вергилий покидает поэта в последнем круге чистилища.
Этот средневековый идеал далекой и боготворимой
женственности постоянно появляется и в поэзии трубадуров Лангедока. Возвеличивание женщины как той, кто
посвящает в amore sacro, — в некотором роде отражение культа Марии.Позднее христианская культура поддалась влиянию латинской языческой поэзии, а это не способствует возвышенной любви, хотя красота дам и воспевалась
в бесчисленных стихах. А уж восемнадцатый век, Век
разума, и вовсе отличался свободой сексуальных нравов, в чем первенствовала Италия, так что дневники
Казановы, похоже, описывают не только его приключения.Единственная, предназначенная судьбой женщина
характерна для романтизма, и, вероятно, Вертер должен был застрелиться, не сумев добиться ее любви. Такая причина самоубийства была бы совершенно непонятна стоикам и эпикурейцам, а также придерживавшимся античной философии поэтам. Но люди конца
восемнадцатого — начала девятнадцатого века, в том
числе и польские романтики, читали совсем иные книги, из которых могли узнать кое-что о браке двух душ.Например, труды Сведенборга, которыми питалось
воображение Словацкого и Бальзака, когда они были
детьми. Кстати, стоит отметить, что «Час раздумий» и
два «сведенборгианских» романа Бальзака — «Серафита» и «Луи Ламбер» — написаны приблизительно в
одно и то же время, в начале 30-х годов XIX века. Людвика Снядецкая была воображаемой любовью Словацкого, зато госпожа Ганская действительно заняла важное
место в жизни крайне чувственного толстяка, а «Серафита» была написана не без мысли о преодолении католической щепетильности любовницы и заключении
брака с хозяйкой Верховни.Ни одна теософская система не приписывает любви
двух людей такого центрального значения, как конструкт воображения Сведенборга. Поскольку чувственный
и духовный миры связаны у него нитями «соответствия», всё, что происходит на земле, получает продолжение и на небесах. Земная любовь не приобретает
форму средневекового аскетизма или платоновской
идеализации. Это любовь, осуществляемая в браке, — телесная, но строго моногамическая. Именно такая любовь есть предвестие небес, ибо все небесные ангелы
были когда-то людьми и сохраняют силу и красоту времен своей молодости, а также пол, мужской или женский. Сохраняют они и чувственное влечение, отличаясь неизменно высокой сексуальной потенцией.
Счастливые земные супружеские пары вновь встречаются и обретают молодость. Оставшиеся одинокими
находят себе небесных партнеров.Ангельская сексуальность у Сведенборга — это не
лишение тела, не бегство в эфемерные миры, какие-то
вечные мечты и грезы. Она физическая, земная в своей
сверхъестественности и разительно отличается от порочной сексуальности лишь тем, что влечение направлено
на одного человека. Полная гармония двух душ и тел —
вот цель земных существ, а если им не удается ее достичь, — тогда небесных, которые вдобавок не знают
усталости и никогда не наскучивают друг другу.В «Серафите» Бальзак вводит мотив андрогинности, то есть такого соединения мужской и женской
души, что вместе они составляют двуполое единство, —
может быть, потому, что, согласно концепции Сведенборга, на небесах умы супругов полностью сливаются воедино, и пара именуется не двумя ангелами, а
одним.Похоже, ни «Серафита», ни письма, в которых Бальзак пытался приобщить пани Ганскую к сведенборгианству, не изменили ее взглядов, разве что содержащаяся в них критика христианских конфессий приправила ее католичество вольтерьянством.
Откуда я об этом знаю? Я не бальзаковед, однако
знание французского позволяет мне обнаруживать комментарии и статьи, которых во Франции множество.
За «Человеческой комедией» Бальзака кроется сложная
философская конструкция, обычно недооценивавшаяся теми, кто видел в нем только реалиста. Несколько
раз переписывавшийся роман «Луи Ламбер», главный
герой которого — гениальный мыслитель, дает представление о двух переплетающихся направлениях: «научном» и мистическом. Во втором немаловажное место
занимает Сведенборг — впрочем, известный Бальзаку,
как и Словацкому, преимущественно из вторых рук.Сведенборгианские образы множества небес и преисподних вдохновляли литераторов — наверное, прежде всего потому, что традиционный христианский
образ ада и вечного наказания не согласовывался с понятием благого Бога. Легче представить себе естественное тяготение подобных к подобным, которые возносятся на небеса или падают в преисподнюю в силу
этого взаимного влечения, а не осуждения. Поэты черпали из Сведенборга полными пригоршнями — например, когда, подобно Бодлеру, взяли у него идею соответствий между чувственным и духовным мирами,
придав им значение символов.