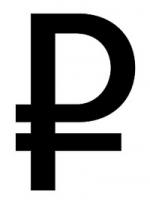Отрывок из книги Лии Аветисян «Вкус армянского гостеприимства»
О книге Лии Аветисян «Вкус армянского гостеприимства»
Армянская национальная психология — причина
и следствие многочисленных комплексов армян,
и еще больших — у их окружения. Восторженный
вызов написан на лице армянина при общении со своими
и чужими, когда он радостно выкладывает информацию
из серии «знаете ли вы» о том, что, например, сексапильные
звезды Ирина Аллегрова и Шер — на самом
деле Ирина Саркисян и Шерилин Саркисян, хотя и не сестры,
а просто однофамилицы! Или что армянами были
отцы других всемирно известных красавиц: Элеоноры
Дузе, Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Анук Эме и Ким
Бейсинджер. А Вивьен Ли с ее фиалковыми глазами была
и вовсе абсолютной армянкой — правда, из индийской
армянской колонии. Лавина этой информации, конечно,
шокирует новичков.
Но это еще «цветочки». Армянин вам сообщит и, как
ни странно, не солжет, что первым премьер-министром
независимой от Индии Бирмы был Ба Мао, крещенный
при рождении как Егия Карапетян. А в самой Индии
основу киноиндустрии, способной тягаться с Голливудом
по количеству выпускаемых фильмов и зрителей,
заложил Торос Шенелян, снявший в
студии «Торос Филм» культовую картину «Бродяга» и открывший
миру Раджа Капура. Выходцем из той же Индии
был Хачатур Аствацатурян, известный как один из наиболее
почитаемых в Китае цивилизаторов по имени Пол
Чатр. Но что там Индостан! Почти все российские лидеры,
начиная с Владимира Мономаха и кончая Андроповым,
— тоже наполовину армяне! И вся эта разноречивая
и неправдоподобная на первый взгляд информация начинает
раздражать любого нормального человека. Особенно
нормального, но слабо в этом плане информированного,
что на самом деле еще более нормально для
неармянина.
Но информированность — штука относительная. Вот
умер секс-символ 60—70-х годов Грегори Пек, и только
после этого весь мир узнал от турецких журналистов,
что любимчик женщин всего мира был уроженцем Анатолии
Григором Ипекчяном, то есть армянином и уроженцем
Западной Армении. Но он не любил об этом
говорить из-за ссоры с местной армянской общиной.
Причина была очень серьезной: в мальчишеской драке
сын актера погиб, а община заступилась за оставшегося
в живых участника драки. Общинный экономизм «Если
уж один погиб, то сохраним хотя бы второго» возмутил
и навсегда отвратил великого актера от своей национальной
среды. Но как бы то ни было, он был обладателем
той замечательной генетической закваски, которая,
пройдя американскую технологическую обработку
в Голливуде, создала уникальный продукт по имени Грегори
Пек.
Особенно хорошо разбирались в генетических тонкостях
турки-османы, которые еще в ХIV веке крали
в Западной Армении
мальчиков, обучали своим специфическим изуверским
приемам и таким образом формировали янычарские
полки, которые своей отчаянной храбростью и кровавыми
зверствами наводили ужас на всю Евразию. С самого
начала и в течение всей службы мальчишек кормили до
отвала. Питанию вообще придавали такое большое значение,
что символом полка была кастрюля, а командир
имел звание чорбаши (по-турецки — суповар). При этом
детям внушали, что хорошо быть только турком, а быть
армянином или греком — стыдно. Выросшие на сытых
харчах и подвергнутые описанной квазипедагогической
обработке янычары стеснялись своего армянского и греческого
происхождения. Лютой ненавистью и презрением
к армянам горели сердца сыновей армянок — кровавого
турецкого султана Абдул-Гамида и классика грузинской
литературы Ильи Чавчавадзе. Возможно, аналогичными
чувствами можно объяснить и круглые глаза Андрэ Агасси,
когда у него спрашивают, не армянин ли он? Но уж его
коллега по теннисному спорту красавец Давид Налбандян
— конечно, самый что ни на есть армянин!
Конечно, национальная стеснительность взрастает
на плодородных почвах иноземных конституций
и специфических граф в анкетах. И самый близкий для
нас с вами пример — из опыта почившей в Бозе страны.
Стоило кадровикам убрать из советских анкет знаменитый
других стеснительных прежде народов резко пошло
вверх без всяких демографических ухищрений. А вот
гражданин Франции Шарль Азнавур счастлив тем, что
он армянин, и гордится своей родиной Францией, которая
позволила ему сформироваться как феномену мировой
культуры и при этом остаться, не стесняясь, армянином.
Конечно, гении принадлежат всему человечеству,
и таланты лучше всего вызревают на почве, сдобренной
многими народами. А потому, если в вашем присутствии
знакомый армянин начнет перечислять имена еще более
знакомых армян, например генералиссимуса Александра
Суворова или мариниста Ивана Айвазовского, не надо
презрительно щуриться: всё равно от вашей неосведомленности
покоренные Альпы не станут низменностью,
а потрясающий «Девятый вал» — штилем.
Знаменитого американского художника Аршила Горки
на самом деле звали Востаник Адоян; французского композитора
Жоржа Карваренца, сына бежавшего из Турции
в Грецию Геворка Карваренца, — Тиран Карваренц (не
удивляйтесь «плохому» имени: в армянском языке «Тиран» значит «Владыка», а в русский и другие языки оно
перешло с негативным оттенком, возможно, от излишнего
рвения его носителей). Анри Вернон родился Ашотом
Малакяном. Ашотом был и дед Анри Труайя — Торосян,
являвшийся основателем города Армавир на юге России
и звеном в знаменитой династической цепи Торосян —
Тарасов — Труайя. Армянином был и лучший таможенник
России из «Белого солнца пустыни» Павел Луспекаев, никогда
не скрывавший это в анкетах, чья фамилия с головой
выдает его княжеское происхождение — Лусбекян.
Егию Папахчяна мы знаем как Илью Шапошникова, новая
фамилия которого — простой перевод с армянского
прежней фамилии. Таких переводных с армянского фамилий
в мире — пруд пруди. А в России это, например,
Поповичи и Поповы, которые в оригинале — Тертеряны.
Старший брат изобретателя радио Рафаэл был специалистом
по армянскому языку, а дом Поповых — одним из самых
хлебосольных. А уж Ацагорцянам, ставшим в России
Хлебниковыми, и их достойному наследнику Велимиру,
сам Бог велел быть хлебосольными!
Фельдмаршала Мюрата в его родном Карабахе при
рождении крестили Овакимом Мурадяном, а другой наполеоновский
маршал, Пьер, тоже был сыном карабахских
армян Петроса и Маргарит из города Шуши. Сыновьями
армянок были Немирович-Данченко и Станислав
Монюшко, Павел Флоренский и Мишель Легран. А двоюродная
тетка моей мамы (обеих назвали Ашхен) родила
и воспитала одного из самых тонких романтиков XX века,
которого звали Булат Окуджава. И рядом с ним я бы поставила
только Микаэла Таривердиева, обеспечившего своими
чарующими мелодиями непреходящий успех лучшим
кинофильмам советской поры.
Арам Хачатурян всю жизнь был патриотом своего народа,
подтверждая это в словах, делах, письмах, гениальных
музыкальных произведениях, желании быть похороненным
именно в Армении и даже в имени, данном сыну.
И это прекрасный повод, чтобы выпить за хорошее
семейное воспитание, обязательной составляющей которого
в армянских семьях является любовь ко всему армянскому.
Большие армянские застолья
Тост без застолья — как стол без гостей, а в Армении
это большая редкость. Конечно, устроить хорошее
застолье — затея довольно накладная. Но если сравнить
эти расходы с гонорарами психоаналитиков, адвокатов,
ценой антидепрессантов и всевозможными штрафами,
то считайте, что накрыли стол бесплатно. Хотя он и
заменил все вышеперечисленные статьи расходов, и даже
с блеском. Словом, есть в армянской кухне блюда, которые
не лезут в горло не то что в одиночку, но даже в узком
семейном кругу. В самом процессе их приготовления и в
связанном с ними застолье так много куража, что готовят
их, когда армянская душа просит праздника. А праздник
без друзей и любимой родни — это уже не праздник,
а сплошная тоска. Тоска по тому, что еще совсем недавно
было, а теперь, под влиянием всеобщей глобализации,
может стать, как у среднестатистических европейцев.
Пока же любой армянин — от очень важного до самого
захудалого — имеет право обидеться, если друг устроил,
к примеру, Хаш, а его не пригласил. И вот почему. Большое
Армянское Застолье — не только хороший повод выпить
и позубоскалить под специальный закусон, но это
еще смотр и инвентаризация действующих сил. Если тебя
не пригласили, значит, ты заживо выбыл из строя. А это
даже хуже, чем посмертно. Так что единственный способ
реабилитации — самому устроить аналогичный обед.
А уж приглашать забывчивого друга, дав ему урок великодушия,
или, наоборот, — отплатить той же монетой, можно
решить самостоятельно.
Каждый из описываемых в этой главе обедов имеет
свой обязательный набор закусок, овощей, специй, напитков
и даже того, что с собой следует принести, чтобы
несоответствие формату не обидело гостей или хозяев.
Еще одно дополнительное условие — тосты, которые удивительно
легко разряжают атмосферу, будучи сплавом вековечной
мудрости и актуальной шутки.
Они произносятся в проверенной веками последовательности,
позволяющей гостю выразить уважение
к семейному очагу хозяев, затем — к родителям, ну и так
далее, вплоть до женщин и других объектов мужских мечтаний.
Именно так выстроилась здесь «горячая» десятка,
а самостоятельный подбор тостов потребует от вас понимания
момента, преференций и колоссального жизненного
опыта, которые и формируют настоящего тамаду.
А впрочем, тосты — это искусство не меньшее, чем кулинария,
и ему следует учиться особо.
Но какими бы цветистыми ни были ваши тосты, общение
за столом будет затруднено, если вы окажетесь абсолютным
профаном в вопросах истории и культуры армян.
Вот почему я предусмотрела для вас возможность блеснуть
за армянским столом знаниями из области малоизвестного.
Армянские семейные обеды столь же традиционны,
сколь и вкусны, а потому и выделены в отдельную
главу, которая расскажет вам об армянской кухне, армянах и особенностях их непреодолимого национального
менталитета.
А чтобы вам было легче применить на практике полученные
кулинарные знания и правильно распорядиться
отпущенным на устройство коллективного обеда бюджетом,
каждый из описанных в главе обедов я привела
из расчета на 10 персон. Несмотря на то, что продукты
и способы их приготовления объединены под страшным
медицинским названием «Рецептура блюда», всё у вас получится
вкусно и красиво, обещаю!
Армянские сказки
В армянских сказках щуки и золотые рыбки не встречаются.
И не только потому, что они редкие гости
в здешних водоемах, а по той простой причине, что
армянские Емели и Иванушки зарабатывают свое счастье
не сетями, а горбом.
Есть, к примеру, сказка «Анаит». Суть ее сводится к тому,
что царевич Вачаган влюбляется в обычную деревенскую
красавицу Анаит, а та заворачивает из своей избушки сватов со всеми их дарами. При этом красавица заявляет: «Ты,
Вачаган, сегодня, может, и принц, но случись завтра какой
путч или перестройка, и станешь наверняка обычным
бомжом-интеллектуалом. А потому осваивай-ка смежную
с принцевой, но дельную специальность. Иначе не видать
тебе меня, хоть я и простая труженица села».
После неожиданного отпора Вачаган впадает в небольшую депрессию, но, доверившись женской интуиции, начинает брать частные уроки по ковроткачеству.
И даже посылает своей ненаглядной в глубинку образчик творческих достижений, сплошь усеянный звездами
и вообще изображающий гелиоцентрическую систему.
Дизайн и качество ковра оказываются на таком высоком
экспортном уровне, что сельская красавица, представьте себе, соглашается переехать из деревенской хибары
в царский дворец и даже стать будущей царицей.
Вы думаете, это и есть хеппи-энд армянской сказки?
Вы их (я имею в виду нас, армян) плохо знаете. На следующий день после свадьбы вездесущая мамаша принца
отправляет с гонцами в деревню, как это в наших краях
до сих пор водится, красные яблоки и бутылку красного
вина, символизирующие благодарность за уцелевшую,
несмотря на потрясающую красоту, девственность Анаит,
и свадебные празднования продолжаются. Но тут как раз
случается арабское нашествие, царь с царицей погибают,
и в ходе военной операции принц одномоментно становится царем и попадает в плен к неприятелю.
Поскольку дармовая
рабсила ценилась
всеми и всегда, то
после удачного похода
арабский халиф
выстраивает пленных
в шеренгу и заполняет
справа налево
на каждого из них по
анкете. Вачаган называет
в качестве основной
специальности
не династическую, а
фабрично-заводскую,
и его отправляют в
один из багдадских
застенков, где принцу
спускают производственный
план по
ковроткачеству, и он
приступает к творчеству
в условиях, накарканных его раскрасавицей-женой.
Между тем молодая царица практически осваивает
управление государством и заодно усиливает разведку,
надеясь найти любимого. Тут придворные маркетологи
сообщают ей, что на рынке появились ковры подозрительного
астрономического дизайна по не менее астрономическим
ценам. Не по возрасту мудрая царица тут же
узнает милого не по походке, но по творческому почерку,
а выйти на закрытый объект было уже делом техники.
Через какое-то время Анаит без санкций международных
организаций врывается на боевом коне в темницу вместе
с группой вооруженных экспертов и спасает Вачагана от
неминуемой болезни Боткина в антисанитарных условиях
застенков. Как вы думаете, за что благодарил ее спасенный
из полона супруг? Совершенно верно, не за факт освобождения,
но за осознание необходимости выбора специальности,
востребованной международным рынком труда!
Конечно, не все армянские сказки такие назидательные,
и герои в них — не сплошь принцы и принцессы.
Есть в них и люди из народа, как, например, деревенский
враль и хвастунишка Назар. Поверившие его болтовне
наивные соплеменники даже выбрали его демократическим
путем в цари. Что из этого получилось — ясно из
сказки и стало особенно понятно в начале
когда любимую народом сказку про храброго Назара запретили
ставить в театрах Армении, как наводящую на
крамольные аналогии с актуальным правителем.
Народную сказку «Анаит» записал в конце позапрошлого
века замечательный армянский писатель Казарос
Агаян — автор рассказов, повестей и романов. Но если вы
спросите любого армянина, что числится в литературном
послужном списке Агаяна, то первое, что он выпалит,
будет эта сказка: так она популярна благодаря созвучности
с миропониманием народа.
В случае с Чанахом, о котором речь пойдет дальше, доподлинно
известна его родина: это Гюмри — богатый на
художников, кузнецов, артистов, архитекторов, поэтов
и других выдумщиков район на северо-западе Армении,
упоминавшийся Ксенофонтом как Гюмниас, известный на
родине как Kumhri, переименованный Николаем I в Александрополь
в честь его супруги, а большевиками — понятно
в честь кого — в Ленинакан.
Гюмрийцы — горцы даже по всеармянским понятиям,
так как живут на горном плато высотой 2000 м над
уровнем моря. Отсюда их независимый нрав и склонность
смотреть на всех свысока не только в буквальном
значении этого слова. Особенно — на ереванцев, живущих
ниже, но утащивших у гюмрийцев из-под носа титул
и преференции столицы еще в период Первой республики.
Хотя у гюмрийцев такая бездна самоиронии, что сарказм
в адрес всей остальной, негюмрийской, части населения
земного шара кажется простительным. Очевидцы
рассказывают, что один из пострадавших после Спитакского землетрясения 1988 года, очнувшись в палатке, где
над ним колдовали врачи-французы, первым делом произнес:
«Ничего себе тряхнуло — прямиком в Париж провалился…» И подобная реакция на события никого здесь
не удивляет, но постоянно радует, так как выговаривается
это всё на каринском диалекте армянского языка, словно
специально созданном для юмора, подобно украинскому
— для русских.