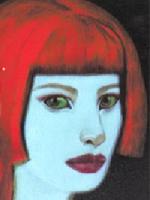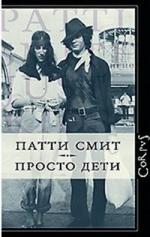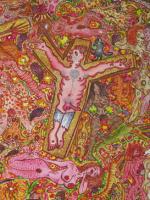Предисловие к книге Юрия Сигова «Необычная Америка: За что ее любят и ненавидят»
О книге Юрия Сигова «Необычная Америка: За что ее любят и ненавидят»
Мой давний приятель, человек, который много чего повидал
в жизни и много где побывал, как-то с разочарованием посетовал,
что надоело ему искать по белу свету приключения
и чуть ли не ежемесячно совершать новые открытия. Посещение
самых экзотических стран его больше не привлекало,
знакомиться даже с самыми интересными и неординарными
людьми вконец опостылело, но каких-то новых «адреналиновозатаскивающих» авантюр где-то «подкорно» ему все же хотелось,
а вот где их взять — непонятно.
И тогда он решил заняться, так сказать, «глубинным копанием» того, что ему казалось абсолютно понятным и известным.
Иными словами, заняться своего рода «духовнофилософской
археологией», в которой есть место не столько
обычным земным радостям, сколько сплошным сомнениям и разочарованиям: вот что-то казалось совершенно понятным
и ясным, а потом вдруг — раз! — и полное замыкание.
Между прочим, вы никогда не задумывались, что больше
всего (по крайней мере последние лет пятьдесят) в России
любят пообсуждать? Оказывается, склонны мы вести разговор
вовсе не о погоде, не о здоровье первых лиц государства
или последнем писке моды — что отечественной, что забугорной
— и даже не о «светских» скандалах… Любят у нас
поговорить, оказывается, о двух самых доступных и в то же
время абсолютно далеких для большинства вещах — о футболе
и об Америке.
Ведь кого ни спросишь — вне зависимости от возраста,
уровня интеллекта или наличия чувства юмора, — всяк
на пальцах вам объяснит, что надо сделать, чтобы любимая
команда (не важно, как она называется — «Амкар» или Chelsea)
всегда выигрывала, и кого надо поставить главным тренером
сборной, чтобы она в конце концов куда-нибудь прорвалась.
И не столь важно, что сам рассуждающий, возможно (и скорее
всего), никогда в своей жизни даже резиновый мяч по асфальту
не гонял, не говоря уж о гроссмейстерском кожановиниловом.
Но, уверяю вас, лишь затронь эту тему, и любой,
будь то министр или дворник, тут же выскажет свое веское
мнение по всем футбольным вопросам, стараясь ни в коем случае
не показать себя дилетантом или клиническим невеждой.
С Америкой дело посложнее. О ней не просто любят рассуждать,
на нее при случае (и при отсутствии такового) могут
со знанием дела сослаться, попенять каким-нибудь крепким
американского замеса словцом или выражением (зачастую
не понимая его подлинного смысла, но это в конце концов
не самое главное!) и даже пригрозить неведомым «американским
агрессорам», которые, словно назло России и многим
другим странам мира, стремятся всех выстроить по ранжиру,
а непокорных — так еще и прилюдно проучить.
Когда над бывшим Союзом висел прочно скроенный «железный
занавес», об Америке не то чтобы втайне мечтали, но говорили
каким-то завороженно-таинственным тоном. Всем было
известно, что где-то там, в заграничном далеке, такое государство
вроде бы как и существует, но попасть туда простой человек
(да и непростой тоже) с одной шестой части света ни при каких
условиях никаких шансов не имел. А те, кто «от партии и правительства» в Штаты попадал «в короткую или длинную командировку» в силу своей профессии (да и для того, чтобы пустили
в Америку еще хотя бы разок), упорно твердили об ужасах
«развитого империализма», будто все эти «ужасы» их любимой
стране (какой, правда, не уточнялось) из-за «бугра» угрожают.
В этом плане ничего не изменилось и в «послезанавесные»
времена: все те же «доверенно-проверенные лица» все так же
рвутся в Америку во все те же «ответственные командировки»,
в душе изо всех сил завидуя (не дай бог признаться!) этим самым
американцам. Но по роду своей оплачиваемой государством
работы они вынуждены с Соединенными Штатами бороться
перманентно и — что показательно! — абсолютно бессмысленно.
Причем более всего опасаются они не столько того,
что США действительно что-то плохое сделают той же России,
сколько того, что по каким-то причинам может «не сложиться»
их прорыв в» американское» будущее.
И даже покинувшие СССР еще в
советских граждан, осевшие на Брайтон-Бич самого «капиталистически
загнивающего» города мира Нью-Йорка, ничего
особого в наше понимание Америки не внесли. Да, кое-какой
народ по разного рода родственным линиям (да и то с распадом
Союза) в Америку попадал, что-то оттуда привозил и даже
кое-что рассказывал о той малопонятной и абсолютно чуждой
для нашего человека заокеанской жизни.
На первый взгляд может показаться удивительным, но это
действительно так: не способствовала пониманию Америки
и долгие годы активно работавшая на создание образа «империалистического
врага» советская медийная пропаганда. Были
времена, когда в США находилось одновременно до 30 советских
корреспондентов всех мастей, названий и «крыш». Они регулярно
и в точно установленное время с экранов телевизоров
и страниц центральных газет вещали то о пышно-шевелюрной
Анджеле Дэвис, то о неугомонном докторе Хайдере, то о чудодевочке
Саманте Смит, с которой в тогдашнем Союзе отождествлялось
некое «новое американское мышление».
И уж хлебом не корми, а дай порассуждать об Америке,
что раньше, что сегодня, российским политикам и ответственным
государственным мужам. Причем чем чаще они попадают
с визитами «заклятой дружбы» и «взаимоневыгодного сотрудничества» в Америку, тем с большей уверенностью вещают
о всяких таинственных американских напастях — от направленных
на Россию тысячах американских ракет с самонаводящимися
и самоотворачивающимися головками до зловредных
торгашей с Уолл-стрит, которые то ли российский рубль хотят
куда-то опустить, то ли сделать цену за баррель нефти такой,
что вся российская экономика разом развалится. А уж что тогда
будет и произойдет с самой Америкой и со всем остальным
миром — просто страшно подумать.
И что больше всего поражает в этих «компетентных рассуждениях» — отсутствие ясности: зачем и для чего «американскими
примерами», вывезенными из собственных командировок,
люди козыряют? И стоит ли вообще так уж откровенно
демонстрировать свой псевдоантиамериканизм, чтобы понравиться
таким же псевдопатриотам?
Ведь, по правде говоря, у каждого из этих критиков, кого
ни возьми, именно там, в «загнивающих Штатах», и деньги
(причем немаленькие) лежат в банках или крутятся на бирже,
и особнячок давно облюбован и построен, и американский паспорт
или уже есть, или хотя бы разрешение на жительство получено (а если не у самого, так у ближайших родственников,
а у детей — обязательно).
Так что если «попросят» его по каким-то причинам с уютного
и насиженного места во властных структурах в России (где
почти всегда такой «попрошенный» как раз и занимался тем,
что поносил эту самую Америку почем зря), то именно там,
в Соединенных Штатах, он и найдет себе приют-прикрытие
в виде стипендиатства от фонда или иной структуры, обслуживающей
американское правительство.
Это только несведущим кажется, что российская власть
и все те организации, которые определяют международную политику
страны, являются по духу антиамериканскими. Смею
заверить, отнюдь нет: просто в России принято и необходимо
все время поносить Америку, обличать ее скрытую от глаз
трудящихся политическую вредность, военную наглость и финансовую
алчность. А еще для борьбы со всем этим «злом» создавать
разного рода отделы, главки и службы. На деле основная
цель работающих в этих теплых местечках (пусть в душе,
а не официально, на бумаге) — попытаться самим хоть немного
пожить в Америке. Либо на худой конец за счет каждодневной
критики США создать себе в России условия, максимально
приближенные к «ненавистным» американским «реалиям».
Поговорите с нашими хоккеистами, баскетболистами, разного
рода учеными — доцентами с кандидатами, которым удалось
волей судьбы оказаться в Америке и получить тамошний
паспорт… Российский-то, правда, они, как правило (исключения
есть, но правилом они так и не становятся, хотя для их детей,
родившихся в Америке, ситуация уже кардинально меняется
с отношением к этой стране), хранят для одной-единственной
цели: чтобы навещать родных и близких, не утруждая себя получением
российской визы.
А вот для жизни у них на руках самый надежный и, как оказывается,
втайне желаемый паспорт США, с которым и визы многих стран не нужны, и жить куда комфортнее и безопаснее,
чем по российским официальным документам.
Тут стоит отметить еще вот какой вроде бы небольшой,
но весьма, думаю, показательный нюанс. В Америке значительное
количество бывших и нынешних российско-советских
граждан живет потому, что чувствуют они себя там комфортно
и в безопасности. Но вот в американское общество большая
часть из них «перетекать» не намеревается (хотя не особо это
у них получается), да и желания они не проявляют, чтобы понять
это уникальное для всего остального мира общество.
И дело здесь вовсе не в чужеродном английском языке, который
все же не китайский или венгерский и минимальному
освоению и изучению элементарно поддается. Просто так намного
удобнее: американскую политику знать не желаю, а американцев
в душе круто-люто ненавижу — на праздники с ними
по-людски не выпьешь, да и с размахом не погуляешь.
Но зато в этом вечнозеленом долларовом обществе любому
уютно и тепло, особенно в Майами с Лос-Анджелесом. Так
что лучше (да и намного престижнее) обосноваться и строить
будущее и свое, и своих детей с внуками именно в Америке,
какой бы империалистически-алчной она ни была и как бы
скучно с американцами по сравнению с русскоязычным братом
ни было.
Проработав много лет в США, я поначалу удивлялся, какое
же количество наших граждан, на словах понося и желчно
критикуя эту страну, стремятся тем не менее при любой возможности
осесть в ней, а если самим не удастся, то непременно
привезти в нее своих детей. И при этом приложить все усилия,
чтобы именно с американским, а не каким-то другим будущим
связать свои дальнейшие жизненные перспективы.
Скажу откровенно, что почти всегда речь в таких случаях
шла вовсе не о конченых циниках или «продажных антисоветчиках», для которых традиционно все то, что плохо для СССР и России, — непременно в радость Америке и ее начальству.
Нет, речь идет о людях вроде бы самых обычных и цивилизованных
— о биологах и хоккеистах, физиках с химиками, компьютерщиках
с математиками, о музыкантах многочисленных
симфонических оркестров. В общем, о всех тех, кому не столько
нужна была таинственная и никем до сих пор не осознанная
«американская мечта», сколько укромное и комфортное место,
где не будет «доставать» все еще живущая и процветающая совковая
бюрократия и давящее всех подряд без разбору — причем
по никому не понятным причинам — не меняющееся с годами
совковое государство.
И здесь сформировался весьма любопытный парадокс.
Народу из бывшего СССР в Америку по всем направлениям
— что официальным, что разного рода «иммиграционнодопускающим» — попадает с каждым годом все больше
и больше. А вот осознанного неповерхностного понимания
Америки что у живущих в России, что у тех, кто из нее перебрался
в Штаты, как не было, так и нет.
Может быть, и нужды-то особой в этом «глубококопании
американских руд» не просматривалось. Действительно,
ну зачем голову ломать? И так все ясно: Америка для России
— это сильный и коварный соперник (может быть, уже
и не враг, но кто его знает?), мешающий России везде, где
только можно.
А уж если копать всерьез и попытаться понять, как так получилось,
что США при всех издержках и минусах превратились
в сильнейшую мировую державу, то тогда неизбежно придется
задумываться о самой России, о ее мало кому понятном
нынешнем социальном строе и тех людях, которые управляют
вверенным им государством.
Безусловно, многие в той же Америке из российских
что бывших, что нынешних граждан (вне зависимости от того,
удалось им обзавестись вожделенными американскими паспортами или нет) периодически сталкиваются и со сложностями
юридической системы этой страны, и с ее весьма ненадежно
и избирательно функционирующей медициной, и с имеющей
все шансы дать сто очков вперед российской, поразительной
по бестолковости и бессмысленности местной бюрократией,
да и с полицией, о которой, правда, по сравнению с ее российскими
коллегами принято выражаться только в возвышенных
чувствах.
Многие из наших соотечественников годами работают
в Соединенных Штатах и, естественно, вращаются в насквозь
«проамериканских» трудовых коллективах. А в них правила
игры не просто сильно отличаются от тех, по которым мы
играем у себя дома, они в корне другие и замешены на абсолютно
других и философии, и понимании самой сути отношений
между людьми.
Что же касается самих американцев, то им Россия, откровенно
говоря, по барабану: лишь бы ракеты оттуда не полетели
и не сотрясали ее социальные и другие, идущие волнами через
границы катаклизмы.
Большей части американцев вообще кажется, что было бы
намного лучше жить, если бы не только Россия, но и весь мир
были населены если уж не точными их копиями, то по крайней
мере очень похожими на них индивидуумами. И на полном
серьезе считают, что остальным просто не повезло, что они
уродились «неамериканцами». И, знаете, в чем-то они, как мне
кажется, правы: ведь миллионы людей со всего света рвутся
перебраться на жительство именно в США, а отнюдь не американцы
бегут из своей страны как черт от ладана.
Или вот еще: американцы вроде бы давно всем осточертели
со своей назойливой демократией во всех ее проявлениях —
особенно за границами США. И чем больше они ее навязывают
окружающему миру, тем их все больше терпеть не могут (даже
некоторые номинальные союзники). Но на деле это не так.
«Достав» весь остальной мир своим «продемократическим мессианством», Америка, как это ни кажется странным, именно
за счет подобного поведения неизбежно укрепляет, на удивление
многочисленных недругов, свои позиции в самых различных
уголках нашей планеты.
Возьмем еще одно устоявшееся заблуждение: дескать, Америка
— чуть ли не самая свободная в мире страна и в плане
«народопользования» этими свободами ей на земле нет равных
(чего стоит свобода продажи оружия, а потом пальба
по всем подряд — от школьников и учителей до конгрессменов
и президентов). Но все, как известно, в нашей жизни
относительно. А уж в американской — тем более. Прожив
немалое время в Соединенных Штатах, я воочию убедился,
что свободы как таковой в стране по большому счету не так
уж и много.
Пока не столкнешься с американским государством и чудовищной
бюрократией местного разлива, то о приличном уровне
свобод в США вполне можно и потолковать. Если сравнить
имеющиеся в распоряжении американских граждан свободы
(особенно те, что существовали до событий 11 сентября) с тем,
что я, например, видел в Саудовской Аравии или тех же постсоветских
государствах Центральной Азии, то разница на самом
деле отнюдь даже не символическая.
Однако за исключением малого и в какой-то степени среднего
бизнеса, в Америке в плане некой «полной свободы», которую
себе многие, не знающие этой страны, представляют,
особо не разгуляешься. Правда, большинство американцев
не считает все это какой-то «несвободой» или неким гибридом
«ограниченной вольности». Зато любые ограничения, накладываемые
на них родным государством (многие из которых
невероятно абсурдны и нелепы), американцы рассматривают
как неизбежные и даже «правильные издержки» свободного
развития страны и ее граждан.
При всех подобных «свободных метаморфозах» американцы,
по моим наблюдениям, вообще не видят в мире себе
равных, сколько бы они ни заседали в Совете безопасности
ООН и какими бы «стратегическими партнерами» ни нарекали
периодически то Россию, то другие страны. А посему невероятно
наивен тот, кто ждет от США некоего мифического
«равноправного партнерства». Потому и Россия, и постсоветские
страны, да и многие другие крайне заблуждаются, ожидая
от Соединенных Штатов какого-то даже минимального учета
их интересов (опять-таки не стоит придавать особого значения
риторике и прописным буквам, фиксируемым в двусторонних
соглашениях между Соединенными Штатами и другими
государствами). Этого никогда не было раньше и не будет
в будущем.
При том что рядовые американцы на порядок свободнее
граждан многих других стран, их отношение к религии
или церкви в стране можно сравнить, по моим наблюдениям,
только с самыми «зацикленными» исламскими государствами,
где религиозные начала — сама суть жизни, ее философское
осознание.
Многие почему-то уверены, что большая часть из того,
что у себя дома построили американцы, базируется исключительно
на протестантской религии и ее ключевых постулатах.
Я не совсем с этим согласен, и вот почему. Наверняка так было
на начальном этапе возникновения США как независимого государства
и еще сравнительно недавно, то есть как минимум
до обрушения башен Всемирного торгового центра и дымящихся
развалин Пентагона.
А вот затем, на мой взгляд, безграничная вера в свободу
и демократию стала гораздо чаще подменяться как внутри самой
Америки, так и вне ее бизнес-прагматизмом, который с религиозными
добродетелями пересекается все чаще, но реально
взаимодействует все реже и реже.
Кстати, есть еще одна любопытная черта американского
общества, о которой многие иностранцы предпочитают либо
вообще не думать, либо пенять гражданам США, ссылаясь
на их якобы клиническое невежество и малообразованность.
Судите сами: за всю свою историю Америка дала миру (я имею
в виду деятелей культуры с мировым именем) не так уж много
великих художников, поэтов и музыкантов, даже если учесть
тот факт, что они сюда съезжались тысячами в течение прошлого
века со всех концов света.
Но зато именно Соединенные Штаты прославились на весь
мир плеядой неординарных и ярких политических деятелей
(со времен отцов-основателей США до сегодняшних дней).
Причем эти люди не только оказывали и продолжают оказывать
огромное влияние на жизнь самих американских граждан,
но и чуть ли не полностью переписывали и, вне сомнения, будут
перекраивать мировую историю и ход ее важнейших событий
(здесь достаточно упомянуть Ф. Рузвельта, Г. Трумэна
и Дж. Буша-младшего, да и Б. Обама еще своего последнего
слова не сказал).
Именно американские политики сначала у себя дома, а потом
«на выезде» стали ярыми противниками таких типично
британских общественных институтов, как монархия, аристократия,
тирания по отношению к собственным гражданам
и отказ от религиозных свобод.
Существует еще одно заблуждение, касающееся Америки.
Якобы здесь возникла какая-то особая, искусственно созданная
всемирная нация — ни на кого не похожая и, может быть,
поэтому никому не желающая подчиняться. Как только ни называют
Америку — и «плавильным котлом», и «сборной перебродившей
солянкой», и даже родиной «новой человеческой
расы».
На самом же деле в Америке происходит действительно
уникальный по своей сути мировой социальный эксперимент по сбору со всего света желающих жить богато и свободно.
И хотя эксперимент этот еще далеко не окончен, в плане «нового
многонационального единения» людей в США каких-то особых
успехов (по крайней мере пока) добиться, на мой взгляд,
по разным причинам не удается.
Как бы ни пыжились китайцы, индусы, арабы, африканцы,
латиноамериканцы или восточноевропейцы (особенно
в первом поколении) вызубрить слова американского гимна
или имена президентов страны, они гарантированно по жизни
будут объединены только американскими паспортами общеустановленного
образца (да и то только те, кому повезет). А вот
обитать в Штатах они будут по большей части внутри замкнутых
национальных иммигрантских районов (причем знаменитый
нью-йоркский Брайтон-Бич — еще далеко не худший
вариант), по минимуму соприкасаясь с окружающей их «новорасовой» Америкой.
Кстати, многие американцы вообще не понимают, почему им
вообще надо с кем-то за пределами собственной территории считаться
и уж тем более учитывать чьи-то интересы. В их восприятии
даже самые позитивные события или отдельные аспекты
жизни граждан других стран не воспринимаются как нечто такое,
что заслуживало бы если не уважения, то как минимум тщательного
изучения на предмет перенятия позитивного опыта.
Для американцев и в политике, и в повседневной жизни
(в отличие от тех же китайцев или японцев) абсолютно
не характерно что-то планировать на годы вперед, искать
какие-то «длинные ходы» в тех или иных жизненных ситуациях.
Они традиционно действуют решительно и если уж бьют,
то непременно первыми и наотмашь.
Говорят, что американцы вообще ни с чьим мнением
не считаются (даже с мнением своих союзников), поэтому даже
самым верным друзьям с ними неуютно. На самом деле Америка
долгие годы была сама по себе — пуп земли, ни от кого особо не зависящий и одновременно диктующий всем, кто попадал
под «горячую руку», как жить им на земле бренной.
Попробуйте убедить простого американца, что где-то живут
лучше, чем в его родной стране, умнее, практичнее да и просто
счастливее. Гарантирую, результата вы добьетесь обратного.
Всех, кто с подобным подходом не согласен, американцы
привыкли при необходимости воспитывать не только словесными
увещеваниями, но и на межгосударственном уровне —
с помощью «большой военной дубинки». Если учесть, что военный
бюджет США намного больше, чем затраты на военные
нужды следующих за ними 19 стран мира, то бояться что рядовым
американцам, что самому сильному в мире государству
вроде бы некого.
Но наступило на горе Америки 11 сентября, и стало очевидно,
что все американские стереотипы восприятия жизни
не просто безнадежно устарели, но и стали создавать огромные
проблемы остальному миру. И этот самый «неамериканский
мир» весьма туманно стал оценивать поведение Соединенных
Штатов в том, что касается дальнейшего развития человечества,
а также будущего этой страны.
А еще остальному миру кажется (и он абсолютно уверен
в этом), что американцы — самая воинственная нация на земле.
Этим американцам не просто до всего есть дело, в попытках нести
«добро и счастье» всем другим Соединенные Штаты готовы
снести голову любому, кто им в этом мешать попытается.
Мало того, все войны, которые вели США в последние несколько
десятков лет (и ведут нынче в Ираке и Афганистане)
и от которых страдали миллионы людей на планете, в самой
Америке воспринимались как действия неизбежные и правильные,
потому как направлены они были на разгром враждебных
американской философии жизни сил.
Тут уж впору не просто принимать к сведению такую особенность
характера американцев и политики этой страны (особенно если с ней приходится иметь дело), но и все время надо
быть готовым к бурной реакции Соединенных Штатов на то,
что им может показаться «неправильным» или «не совсем демократичным».
А если учесть, что ответить США военным путем мало
у кого на сегодня хватит возможностей и решительности,
то не стоит удивляться, что «новая мировая раса» может в любой
момент и в любой точке планеты фактически любого «построить», оставшись при этом абсолютно безнаказанной.
Давно принято считать, что само выражение «открыть Америку» уже потеряло какой бы то ни было рациональный смысл.
Об Америке, по крайней мере у нас в стране, всё и все давнымдавно
знают. И в том, что она из себя представляет и представляла
раньше, разбираются не хуже самих американцев.
Будет любопытно и познавательно, как мне кажется, прочитать
здесь написанное и тем, кто об Америке давным-давно
все знает (или думает, что знает, что на практике оказывается
далеко не одним и тем же), и тем, кто не особо этой страной
интересуется, но сохраняет в душе некую «недосказанную зависть» к тому, что она и в окружающем мире, и у себя дома
вытворяет и — что еще загадочнее — собирается выкинуть
дальше.
Так уж сложилась жизнь нашей весьма небольшой,
но агрессивно настроенной планеты, что от Америки на ней
не спрятаться, да и «забить» на США и их мировое влияние
при всем желании не удается. Слишком уж большая Америка
страна во всех смыслах, и слишком многое в мире от ее поведения
зависит. Да и всем ее соседям, что ближним, что дальним,
от американского характера достается по полной программе,
а в будущем такая тенденция, на мой взгляд, гарантированно
сохранится.
Сразу хочу предупредить: возможно, о чем-то, написанном
здесь, вы уже слышали или читали. Но это будет лишь первое
и, смею вас уверить, достаточно обманчивое впечатление. Американцы
и сами признают, что при своем практически неконтролируемом
доступе к информации они слишком мало знают
как о себе, так и о своей стране.
Поэтому не удивляйтесь, что, возможно, и вы откроете
для себя «неизвестную Америку». Тем более что каждый
по жизни волен открывать ее для себя ровно столько раз, сколько
раз попытается осознать сущность бытия и свои перспективы
на будущее, причем и в том случае, если они к Америке
никакого отношения абсолютно не имеют…