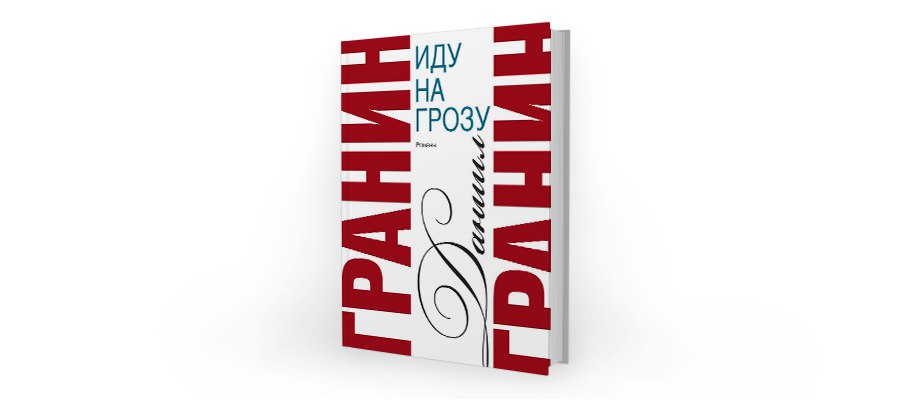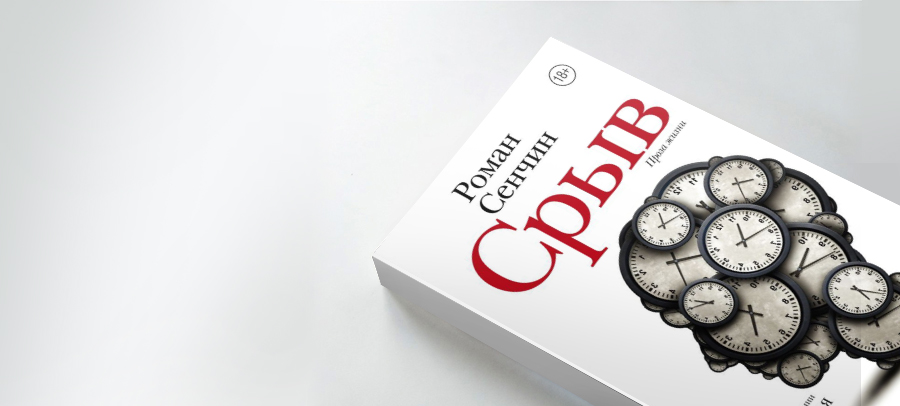В конце мая в Петербурге побывала Галина Юзефович. Журнал «Прочтение» поговорил с обозревателем о ее новой книге, о том, чем литературный критик похож на чирлидера и почему, высказываясь публично, нужно всегда быть готовым к ответной реакции.
— Чем является ваша книга «Удивительные приключения рыбы-лоцмана»: способом диалога с читателем или формой архивации ваших текстов?
— Мне кажется, что архивация собственных текстов тиражом три с половиной тысячи экземпляров — это немножко самонадеянно. Конечно, для меня это попытка диалога. Я каждую неделю пишу что-то про книги, но каждую же неделю кто-нибудь обязательно приходит и говорит: «Это все здорово, спасибо, а почитать-то что?» И в этом смысле удобно иметь такой компендиум всего: «Почитать-то что?» — а я на это сразу: «Вот, пожалуйста, книжка, пойдите выберите». Кроме того, мне показалось, что будет хорошо, если мои разрозненные тексты заживут вместе, если станет видно, что и с чем я сравниваю, как в целом устроена моя система координат. Если я говорю, что роман X — это лучший роман года, то важно понять, какие еще романы стоят в этом ряду: может, год был так себе и я выбираю среднее из плохого, или наоборот — год получился ого-го, и мне надо выбрать шедевр среди блестящих книг. Мне кажется, что в этом смысле — создания поясняющего контекста — моя книга тоже работает. Нет человека, который бы внимательно читал и конспектировал все мои обзоры на «Медузе» — и слава богу. Книга же создает более или менее целостную картину.
— У вас часто выходят тексты — наверное, должны быть какие-то планы на будущее, может еще книга?
— Да, я уже подписала договор, книга должна выйти, надеюсь, к осени. Она будет немного иного рода — не сборник рецензий, а сборник эссе о чуть более общих закономерностях в литературе. В основе — лекции, которые я читаю в Совместном бакалавриате ВШЭ-РЭШ, осталось их только «перелить» в эссеистический формат. Например, чем американский роман функционально отличается от английского и почему английский почти всегда демократичней и понятнее иноязычному читателю? Или, например, за что на самом деле дают Нобелевскую премию, как она устроена, зачем нужна и почему никому никогда не нравится итог. Примерно такие тексты я хочу собрать под одной обложкой — и она тоже, я надеюсь, будет иметь некоторую практическую ценность для читателя, хотя и не в таком прямом, прикладном смысле, как «Удивительные приключения рыбы-лоцмана».
— Идея первой книги была вашей или ее предложило издательство?
— Конечно, издательство — мне бы самой, честно говоря, и в голову не пришло, у меня куда более скромные амбиции. Но Елена Данииловна Шубина из «АСТ» сказала как-то: «Галя, а давайте сделаем книжку». Я сначала думала, что это совершенно нереалистичный план — мне казалось, что у меня и текстов-то на нормальную книжку не наберется, да и вообще все, что есть, страшно устарело. Но Шубина мне очень помогла: во-первых, убедила, что текстов хватит и не все устарело, а во-вторых, буквально взяла меня за ручку и помогла собрать из разрозненных фрагментов что-то более или менее цельное.
— Каким образом вы выбираете книги для обзоров?
— У меня тонко и сложно настроенная система оповещения: во всех местах, где может зазвонить, висят колокольчики. Знаете, как рыбаки — они раскидывают снасти и вешают колокольчики, чтобы не сидеть постоянно рядом, не сводя глаз с поплавка. У меня хорошие контакты с издателями, редакторами, книжными агентами — они сообщают мне о своих новинках и находках, а кроме того, есть много людей, которые мне могут указать на что-то, что я пропустила. В русской литературе мой компас земной — Елена Макеенко, обозреватель «Горького», она сейчас читает отечественой прозы раза в три больше, чем я. Переводчица и книжный обозреватель Анастасия Завозова — мой бесценный советчик в области зарубежной литературы, она регулярно приходит ко мне и говорит: «У нас собираются переводить книгу американского писателя Икс, и это здорово, вам надо». И, как показывает опыт, почти никогда не ошибается. В сфере фантастики и близлежащих областей мой эксперт и наставник — Василий Владимирский, человек, к которому я всегда прихожу с вопросом: «Мне показалось, что вот эта фэнтези хорошая — это мне зря так показалось?» На что Вася немедленно выкатывает мне список и говорит: «Это, кончено, неплохо, но для начала ознакомься с…» Есть и разные другие люди — и профессионалы, и нет, которые в нужный момент могут меня «дернуть» и которых могу «дернуть» я. Кроме всего прочего, я, конечно же, читаю практически всю критику, которая выходит по-русски, и значительную часть критики по-английски, я слежу за тем, что нового выходит в России и в мире. А дальше уже начинается процесс чистого произвола: я собираю все это в кучку и начинаю открывать, просматривать, и если я понимаю, что что-то заслуживает внимания, тогда дочитываю до конца и включаю в свои планы. Если понимаю, что прямо сейчас я не могу себе позволить это прочесть, потому что на ближайшие две-три недели у меня все забито, то просто беру на заметку.
— Почему вы оказались среди того небольшого количества критиков, которые востребованы?
— Я, как в старом анекдоте про «ненастоящего сварщика», не совсем настоящий критик. Я с огромным уважением и интересом отношусь к моим коллегам из толстых журналов, но они делают совершенно другую вещь: нормальная критика — это скорее то, чем занимаются они, а не я. Я же, как сказал мой друг и коллега Александр Гаврилов, не столько критикой занимаюсь, сколько создаю позитивный образ читателя. То есть я абсолютно не озабочена — и это совсем не поза, поверьте — какой-то литературной жизнью, какими-то нюансами литературного процесса и развитием литературы как системы, я даже почти ни с кем из писателей не знакома лично и не хочу знакомиться. Моя относительная востребованность (мы все понимаем ее степень, она тоже довольно камерная) обусловлена тем, что читатель видит во мне своего полномочного представителя. Не человека, который залез на табуреточку и говорит о тонком, сложном и умном, а такого же читателя, как он сам, просто располагающего чуть большим количеством времени для чтения. Я думаю, именно поэтому другим читателям относительно легко себя со мной соотнести. А кроме того, я регулярна: много читаю и много пишу. Мне кажется, это важно — регулярность присутствия. Потому что если раз в год кто-нибудь (даже очень умный человек) выбегает и кричит: «А-а-а, новый Гоголь народился!» — его мнение мало о чем говорит, потому что мы не понимаем, на что он опирается, какая у него точка отсчета, из какого множества он выбирает. Может, он просто сто лет книжек не читал и забыл, что это вообще-то здорово — вот вам сразу и Гоголь.
— Сказанное вами соотносится с тем, о чем писал Сергей Чупринин по поводу разницы между книжными и литературными критиками. Вы с ним согласны?
— Да, конечно, абсолютно. Я вообще не люблю слово «критик» по отношению к себе, я предпочитаю называться «книжный обозреватель», «book reviewer», потому что критик — это же другая работа. Критик — это человек, который собирает какие-то конструкции из конечного набора объектов. У меня нет задачи выяснить, кто более велик — писатель Шишкин или писатель Водолазкин. У меня нет задачи проследить их взаимовлияние, нет задачи понять, куда это все идет и чем кончится. Моя задача гораздо более локальна — я просто рассказываю о новых книгах, которые мне нравятся и близки. Я всегда говорю, что критики (в смысле, настоящие критики) — это специалисты по лесу, его экологии и биогеоценозам. А я — я специалист по деревьям, древовед, если угодно.
— Для многих людей ваше слово становится истиной в последней инстанции, но ведь любая критика субъективна, так ведь?
— Это тонкая и печальная тема — об ответственности автора за то, как используется его слово. Мы не всегда можем отвечать за интерпретацию того, что мы пишем, и я в этом смысле не исключение. Я постоянно говорю своим читателям: не верьте мне. Точнее, верьте не только мне. Книга — это инвестиция денег, времени, эмоций. Прежде чем решаться на нее, лучше проконсультироваться хотя бы с двумя экспертами, а лучше с тремя — ну, и своей головой тоже подумать. Но многим проще назначить себе один-единственный ориентир и им пользоваться, даже если ориентир регулярно заводит куда-то не туда. Мной как ориентиром удобно пользоваться по чисто техническим причинам: я всегда есть — протяни руку, и дотянешься. Я сижу в своем фейсбуке и пощу бесконечные цитаты из книжек, которые читаю, а каждую субботу мой обзор можно найти на «Медузе». И тут я, понятное дело, выигрываю у авторов, которые присутствуют в медийном пространстве нерегулярно, от случая к случаю. Мне, конечно же, льстит, что многие мне доверяют, но лично мне хотелось бы жить в более диверсифицированном мире. Я бы хотела, чтобы ориентиров — надежных, постоянных, а не «проблесковых» — было много. Именно поэтому я всегда говорю: не ограничивайтесь моей страничкой или моей колонкой, ищите еще. Не знаю, заметно ли это, но если я полюбила какую-то книжку, то я обязательно найду еще пять других текстов, которые будут подтверждать, что эта книжка хорошая, и запощу их у себя. Словом, мне бы хотелось, чтобы читатель был более внимателен, более избирателен и рефлексивен, но это, к сожалению, не то, на что я могу повлиять.
— В какой момент вы поняли, что вы профессиональный критик?
— Ни в какой. У меня до сих пор нет на этот счет какой-то окончательной уверенности. Периодически я чувствую себя Хлестаковым — впрочем, думаю, это нормальное состояние для любого человека, я не склонна по этому поводу впадать в панику. Но если меня тряхнуть и всерьез спросить: «По какому праву ты вообще считаешь, что имеешь право высказываться о литературе?», я на самом деле знаю ответ на этот вопрос. Он звучит так: «Потому что я правда очень давно и очень много читаю». Мне кажется, это то единственное, что делает мое суждение сколько-нибудь правомочным и ценным. Никаких других объяснений у меня нет.
— Как вы поступаете с плохими книгами?
— У меня есть два метода: я их либо игнорирую, либо пишу о них как о социокультурном феномене. Иными словами, я пишу про плохую книгу, только если она очень важная и симптоматичная, и тогда я пытаюсь понять причину ее успеха. Нельзя просто отмахнуться от «Пятьдесяти оттенков серого», хотя с литературной точки зрения мы все понимаем их ценность. Но если пятьдесят миллионов человек по всему миру что-то в ней такое вычитали, значит, что-то в ней и правда есть — просто это «что-то» не про литературу, а про какую-то тонкую сцепку между обществом, литературой и психопатологией обыденной жизни. Ну, а в целом мне кажется, что писать про совсем плохие книги, в которых я не могу найти ничего хорошего, ничего увлекательного, — это бесплодное занятие. Зачем? Места мало, времени мало, у читателя мало сил и интереса. Зачем фиксировать внимание на том, в чем ты не видишь ценности?
— Кто из публицистов вас вдохновляет, к чьему мнению вы прислушиваетесь?
— Я совокупно прислушиваюсь к тому, о чем пишут на сайте «Горький», — мне кажется, там есть много интересных голосов. Мне очень интересно, что пишет и думает Валерия Пустовая: мы с ней никогда не сходимся во мнениях (причем даже тогда, когда кажется, что сходимся), но мне очень любопытно, как и о чем она думает. Мне интересна Анна Наринская — мы с ней очень разные, и по вкусам, и, если так можно выразиться, по методологии, но это как раз и хорошо. На вашем сайте бывает много любопытного, хотя и с совокупным «Прочтением» я редко согласна в оценках и каких-то эмоциональных мотивациях. Я вообще люблю читать про книжки почти так же сильно, как читать сами книжки. Поэтому любое осмысленное высказывание на книжную тему мне кажется интересным, вдохновляющим, заслуживающим внимания. Я восхищаюсь Мичико Какутани (и вообще постоянно читаю книжную рубрику The New York Times), New York Review of Books, Guardian, я подписана на множество блогов о книгах и книжном бизнесе в Telegram — словом, я вполне всеядный потребитель околокнижного контента.
— Как вы относитесь к критике в собственный адрес?
— Я с благодарностью и симпатией отношусь к любой критике, которая основывается на априорном интересе и сочувствии к объекту. Вот, например, Борис Кутенков написал в журнале «Знамя» абсолютно разгромную рецензию на мою книгу, и я за нее очень благодарна, потому что это разгромная рецензия человека, который прочитал мою книгу внимательно и с уважением. На мой взгляд, большая часть его претензий не вполне обоснованна (нельзя требовать от человека, чтобы он красиво прыгал, если он занимается тяжелой атлетикой, и наоборот), но рецензия Кутенкова — это осмысленный, вдумчивый разбор. С ним можно спорить, не соглашаться, но обижаться определенно не на что.
Но я очень плохо отношусь к желанию пнуть меня, чтобы самоутвердиться за мой счет: «Вот сейчас я ка-а-ак пну Юзефович, и все увидят, какой я умный». Такого рода критика меня огорчает и обижает — не лично даже, я не очень обидчивый человек, а скорее как свидетельство несовершенства мира. Точно так же меня огорчают люди, которые пишут: «Прочитал я хваленый роман писателя Х. Фантастическое говно». Мне кажется, так говорить неэтично, это не суждение, а обесценивание в чистом виде (мало на свете вещей, которые я бы не любила сильнее, чем обесценивание). Но если человек прочитал, подумал, не согласен и хочет поспорить, оспорить или развенчать — что ж тут плохого, это прекрасно, только кланяться и благодарить.
— В каких областях гуманитарного знания вы чувствуете себя неуверенно?
— Примерно во всех, кроме, пожалуй, античной древности и современной прозы. Я очень плохо знаю историю русской литературы и никогда в жизни не решусь судить о литературе XVIII–XIX веков — я много читала, разумеется, но мое знание фрагментарное, не системное. Я очень плохо разбираюсь в поэзии и ничего никогда про нее публично не говорю, чтобы не опозориться. У меня, конечно, есть какие-то любимые поэты, но я никогда не осмелюсь абсолютизировать свой вкус в этой области. Скажем, я очень люблю стихи Александра Кабанова или Марии Степановой, но это мое частное, персональное, сугубо непрофессиональное мнение, потому что я не владею контекстом в должной мере. Мне кажется, что поэзия — это самая моя большая дырка, хотя и в философии (за вычетом опять же античной и раннехристианской) я тоже не сильна. Но вообще мне кажется, что самое важное — хорошо осознавать свои границы и не соваться с оценочными суждениями туда, где ты не компетентен. Я очень стараюсь за свои границы не высовываться.
— Считаете ли вы себя флагманом литературной критики?
— Я не знаю, что это такое, то есть — нет, не считаю. Я считаю, что вообще «литературная критика» как целостное понятие распалось: нет сегодня никакой одной магистральной «литературной критики». Есть странные люди в Instagram или Youtube, у которых десятки тысяч подписчиков и которые рассказывают про книги. Они говорят каким-то своим птичьим языком, которого я не понимаю и который едва ли поймет мой читатель, но огромное количество людей их любит, читает и смотрит. Они флагманы? Не знаю — да, наверное, в своей нише они флагманы. Ну, а я — я маленький флагман маленькой ниши имени меня, в которой тоже говорят на каком-то особом птичьем языке. И помимо моей ниши есть еще множество других маленьких книжных критик, у которых свои флагманы, свои читатели, своя аудитория, свой понятийный аппарат, свои объекты исследования, свой птичий язык. Так что никакого одного флагмана в современной критике быть не может — слишком уж она сегментирована.
— В адрес молодых литературных критиков звучит множество негативных оценок. Как вы думаете, чего им не хватает?
— Я не верю в то, что существует такая категория, как «молодые критики». Вот поди сравни вас и Алену Бондареву, например. Или вас и Бориса Кутенкова, или Бондареву и Кутенкова. Все очень разные. Единственная проблема, которую я могу диагностировать, скорее поколенческая, чем литературно-критическая. И она, как мне кажется, в наибольшей степени связана с изменением парадигмы хранения и использования информации, а также со сменой образовательных моделей. Я еще успела поучиться в университете в те времена, когда за любое красивое обобщение больно били — предполагалось, что смысл обучения состоит не в выстраивании эффектных концепций, а в накапливании информации и ее систематизации. То есть люди моего поколения и старше — это такие ходячие википедии (кто большего объема, кто меньшего), зачастую не способные сделать какое-то обобщение.
Сегодня же необходимость хранения информации в голове фактически отпала — вся мудрость мира находится на расстоянии вытянутой руки во внешнем облачном хранилище, поэтому люди, скажем, младше тридцати, по моим наблюдениям, иногда избыточно легко относятся к обобщениям. Современная система образования направлена не на то, чтобы удерживать и сохранять информацию, а на то, чтобы ее умело аранжировать. Поэтому молодые — и молодые критики в том числе — легче поддаются соблазну концептуализации: прочитав три американских романа и еще про два погуглив, сделать вывод относительно всех остальных американских романов. В результате получается что-то вроде «американская литература в среднем…» — и алле-оп, красивая закругленная концепция, выстроенная на заведомо недостаточном материале. Это слабая, уязвимая позиция, в ней всегда легко найти дырки и противоречия: прочитать один роман Сергея Носова и сразу судить о его творчестве в целом, в капле прозревать море, а «в прутике, раздавленном ногой» видеть «чернорукие леса», как писал Николай Тихонов, — это все, конечно, очень приятно и увлекательно, но не всегда осмысленно. Я даже не готова сказать, что это так уж однозначно плохо — многия знания без способности к концептуализации не многим лучше. Просто такой подход — давайте назовем его «поверхностным» и «недостаточно фундированным» — цепляет, ранит, раздражает людей нашего поколения, потому что нам-то за каждое обобщение приходилось платить кровью.
Что же касается пинания молодых критиков… Пинают всех и всегда, и молодых, и старых — это нормально. Обидчивость и ранимость — те вещи, которые нужно оставить за бортом, если решил заниматься литературной критикой, потому что критик — даже самый добрый, чуткий и аккуратный — все равно наносит раны. А если ты ранишь, будь готов к тому, что кто-то захочет ранить тебя.
— Наверное, любое слово, сказанное громко и вслух — так, чтобы его слышали много людей, — не всем придется по душе, как вы считаете?
— Конечно — именно поэтому нужно быть готовым к ответочке в любой момент, и к этой мысли нужно просто привыкнуть: если ты открываешь рот в публичном пространстве, рано или поздно к тебе придет кто-то, кто захочет сделать тебе больно. И более того, я уверена, что лишать людей этой возможности — нечестно и недемократично. Вот у меня, например, в фейсбуке очень много народу, и при этом комментарии открыты для всех, а еще меня можно тегать кому угодно — только для не-друзей есть предварительный просмотр. Как результат, ко мне регулярно приходят и пишут такое, что даже я с моим десятисантиметровым хитиновым панцирем начинаю огорчаться. Друзья меня спрашивают: почему ты не закроешь комментарии для не-друзей? А я их не могу закрыть, потому что я же пишу не только для друзей, а значит, всякий человек должен иметь возможность прийти и вступить со мной в полемику. А вот как он это сделает… Ну как сумеет, так и сделает — кто-то будет вежлив, кто-то даст с ноги или обзовет «тупой курицей». Это жизнь, детка.
— Нужна ли, по-вашему, литературная критика?
— Я думаю, что есть люди, которым она нужна, причем разным людям нужна разная критика (впрочем, я уже говорила, единой-то и нет давно). Я примерно понимаю, кому нужно то, что делаю я. Я обращаюсь не к тем, кто читает, как я, по пять книг в неделю, — они не моя целевая аудитория, их очень мало, и они без меня отлично справляются. Я обращаюсь к людям, которые читают одну-две-три книги в месяц и хотят, чтобы это были хорошие, подходящие именно им книги. Именно для них работаю лично я, и здорово, если им со мной будет хорошо. Если же брать чуть более широко, то, на мой взгляд, общая работа всех людей, так или иначе пишущих о книгах и литературе, состоит в том, чтобы быть немножко чирлидерами. Все-таки, как ни крути, идея пропаганды чтения (ненавижу это выражение, но не могу придумать другого) — это важно. Для меня нет большей радости, чем когда человек говорит: «Благодаря вам я снова начал читать современную литературу». Я это слышу раз пять в году, и каждый раз — это счастье. Чтение сжимается, люди перестают читать или читают меньше — не настолько меньше, как кажется алармистам, но все-таки меньше. Движущиеся картинки наступают по всем фронтам, ассортимент развлечений только увеличивается, а это значит, что на каждый конкретный его вид у человека остается меньше времени и внимания. Если мы — условные «книжные люди» — хотим и дальше жить в мире, где книги пишут, издают, покупают, читают и обсуждают, мы должны руками раздвигать пространство чтения, заманивать сюда людей, показывать им, что здесь хорошо. Думаю, в итоге мы проиграем, но это не значит, что этого можно не делать.
Фотография на обложке интервью: Sveta Mishina
Полина Бояркина