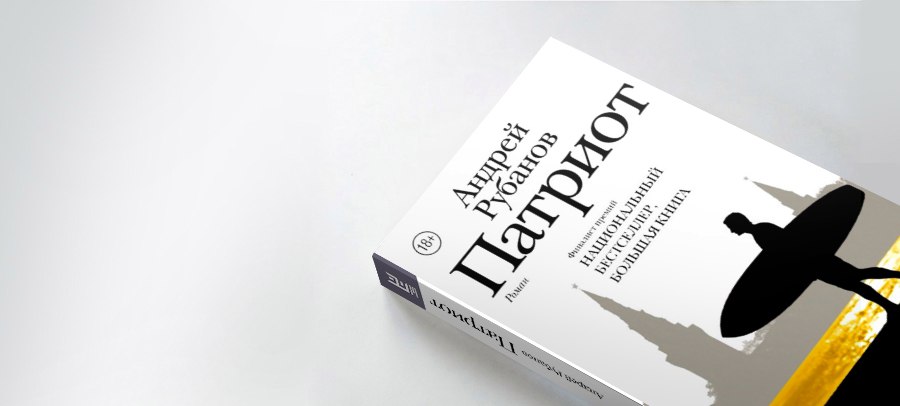- Майя Кучерская. Ты была совсем другой: одиннадцать городских историй. — М.: Редакция Елены Шубиной, 2017. — 350 с.
Обними меня
1.
Поздним вечером снова явились дровосеки.
Просочились из соседней комнаты, сквозь щель в лопнувших обоях под самым потолком. Приземлились к стопам ее, к подножию тонкого, крепкого дерева по имени Вера. Толпа человечков из книги сказок с пахучими цветными картинками, так и не убранной отчего-то с полки, давно уже заставленной учебниками и взрослыми книжками, — в серых зипунах, голубых шапчонках, сапожках, с топориками за поясами, пилами, вспыхивающими серебром, желтыми тесачками. С девичий мизинец ростом.
Чуть помедлили, точно соображая, как ловчей, и вдруг взобрались, во мгновение ока, деловито, щекотно — с угрюмцой в мелких бровках, собранностью в телах. Распределились. Начали!
Кто пристроился на плече и пилил щучкой плечо ее нежное, в одно движенье порвав любимый темно-зеленый свитер. Купленный в любимом GAPe — десять лет назад. Кто примостился к ключице, кто — на бедро, кто ближе к кисти. Правила гравитации на них, похоже, не действовали, тем не менее самые осторожные, опоясавшись крепкими заготовленными заранее веревками, что колесиками висели до поры через плечо, повисли альпинистски на локтях, предплечьях, коленях — с особенной жадностью накинувшись на те места, где сподручней пилить и сечь топориками, где рядышком кости. Балаган это был наверняка — невсерьез эти веревочки, иначе как же бежали вы по потолку и стенам, не теряя равновесия, уверенно, твердо?
Рубить, пилить, тесать, посапывая, вскрикивая бодрыми голосками — ух, эх, взяли — судя по интонации, слов она не понимала, дровосеки перекрикивались на неведомом языке.
Девятый день продолжалась эта пытка. По накопившемуся за это время опыту Вера знала: сбросишь их, цыкнешь порезче — посыплются как горох и сбегут, сгинут. Но боль никуда не исчезнет. Плавно, неторопливо и неотвратимо она лишь изменит форму — и вот уже не дровосеками, морозной колкой рыбой вплывет через рот, режа острыми плавниками нёбо, скользнет в глубину, начнет пожирать внутренности, грызть и перемалывать зубами живую плоть. Или просто заполнит скулы, шею и сведет, так что ни двинуться, ни промычать хоть полслова. Или забьется в глаза и задергается неостановимым тиком. А может, и совсем обыденно: разольется багровым подтеком по темени и прикинется мигренью силы такой, что только накрыть голову подушкой. Или, испугавшись эдакой физиологической прозы, собьется в четком двухцветном видении: она, белая Вера, лежит на дне оврага, из горла хлещет черная кровь, почему из горла, не спрашивайте меня, возможно, потому что оно бредит бритвой и хочет орать.
Нет, уж лучше так, с топориками, давайте, озверевшие мальчики-с-пальчики, хотя бы забавно и если б не так больно, даже было б смешно.
Это и был Глашин отъезд. Вот почему выступали, нападали они всегда — эти дровосеки, рыбы, пули — из Глашиной комнаты, что пустела теперь за стеной. Вот кто сжимался в разящую денницу — пустота. И вот оно как, оказывается, бывает, когда старшенькие вылетают из гнезда. Хотя на самом деле и того хуже: то, как Глаша уехала, был отдельный, прощальный ее номер.
Раз, другой Вера ей повторила, как будто рассеянно, глядя мимо: надеюсь, ты не забудешь убраться перед отъездом. Надеюсь, оставишь здесь все в полном порядке.
В последнее время Глаша убираться у себя перестала вовсе, на полу лежали то носок, то вывернутые трубочками наизнанку джинсы, то бумажный носовой платок мятый. В предотъездный месяц, готовясь к сессии, дочка и вовсе переехала заниматься на кровать — на столе высились книжные и тетрадные горы, завалив и клавиатуру, и до подбородка компьютер, ничего, вместо него был теперь у Глаши макбук, щедрый подарок родственников на совершеннолетие.
В суете, в коллективном закрывании чемодана, под неостановимый сеанс связи с Максимом, который постоянно прощался с Глашей, подключаясь из австралийского далека, под хохот трех дочкиных друзей (один был с зелеными волосами и железной серьгой, другой — щупленький, с кулачком вместо лица, зато в очках с черно-оранжевой пятнистой оправой, и любимая подружка человеческого вида), за возбужденными уточнениями, положены ли паспорт, где конверт с деньгами, сквозь последние звонки родственников — Вера и не заметила, что там с комнатой, убралась ли. Но вернувшись из аэропорта, отплакав сдержанно на заднем сидении такси и, слепо, с непонятным чувством войдя к Глаше, застыла.
Порядок в комнате был идеальным. Действительно полным.
Бежевое покрывало натянуто, как в казарме, — ни складочки. Только розовый уголок подушки без наволочки чуть торчит. Ни привычных зверят, ни книжных завалов на столе.
Стены, на которых висели ее рисунки, постер с двумя обнимающимися обезьянками — мама и выросшая дочка? Тимкина жар-птица, подаренная Глаше на день рожденья, — светло-голубые, голые. На столе, тоже оголившемся, — компьютер, под черной клавиатурой вырванный белый листок в виде ромашкового овального лепестка — пустой. Но где же тетради, книги? Она открыла ящик стола — мертво, аккуратно лежали в древнем металлическом пенале (вместе покупали не для школы, для кружка по астрономии) ручки, карандаши, ластики. И ни бумажки.
Распахнула шкаф — только тихо качаются вешалки. Ни блузочки, ни футболки! Ряд голых плечиков, скелетов живой одежды. За другой дверцей — пустые полки, ни носка, ни шарфика. Неужели все увезла с собой? А варежки? Там же не бывает нормальной зимы! И все шапки? Или раздала девчонкам — они шли и шли вереницей ее провожать все последние дни.
А обувь? Зимние сапоги? Вот здесь внизу шкафа — наваленная пыльной кучей обувь лежала всегда. И невозможно было не расчихаться. Но не было и обуви. Когда, куда она все это выкинула, подарила? Не спросясь, не посоветовавшись, как всегда в последнее время.
Я УЕХАЛА. МЕНЯ БОЛЬШЕ ТУТ НЕТ.
Я БЫЛА, А ТЕПЕРЬ ОТБЫЛА.
Вот что сообщала им Глаша. Без двусмысленностей, без лишних всхлипов. И суть слова «отбыла» вдруг открылась Вере во всей режущей жути.
Когда умерла мама, было не так, тоже страшно больно, и голым оказался мир и она сама, но оттого ли, что последние годы жили они в разных городах или что мама последние годы действительно превратилась в одуванчик, безобидный, не обижающийся, почти бессловесный — и из вдруг раскрывшегося провала в небе, куда унеслась вместе с майским сквозняком ее душа, полил свет, ощущение близкого до шевеления волос на голове присутствия невидимого мира и почти блаженства затопило Веру. Такое явственное скопление тысяч и тысяч душ ее, вопреки всему, развеселило — и выносимой оказалась скорбь. Перед лицом маминого ухода ее, Верина, жизнь не казалась бессмысленной, пустой, напротив, каждая минута налилась плотью смысла. Потому что была подсвечена открывшимся другим миром. И несколько недель она жила, этим смыслом питаясь. Но возможно, дело было в том, что мамина смерть не отменяла ее жизни, наоборот — подтверждала, что ее-то жизнь продолжается и будет еще длиться долго, спокойно, уверенно. Мама распахивала ворота …
Дочкин отъезд их затворил. Просунул сквозную дубовую балку, не пошевелить. Глашино отбытие значило — жизнь не продолжится, жизнь позади, потому что главное в ней уже прожито. Жизнь прошла. Никогда больше Вера не родит детей, никогда не поедет в Коломенское на рынок детской одежды и не будет бродить меж рядов с ползунками, слюнявчиками и комбинезонами. Не прижмет к щеке цыплячье-желтенький чепчик в горошек, сладко предвкушая. Занятия для беременных, специальные упражнения на коврике каждый день, мучительно долгие роды, животная боль и непонятно откуда взявшаяся маленькая лохматая девочка с черненькими волосами — никогда. Глашино явление в свет сопровождал громовой фейерверк, салют. Всех ваша дочка победит, шутила акушерка — это был теплый вечер Дня Победы.
Тогдашний муж, из самых упертых новобранцев быстро растущего в 1990-е православного войска, настоял назвать дочку по святцам — Глафирой, 9 мая праздновалась не только победа, но и день девы мученицы. Рядышком, на расстоянии всего дня—двух, были и Анастасия, и Мария, и Анна, но он уперся: в день дочкиного рожденья — Глафира. Она уступила и в тот раз, как в сотни предыдущих, потом последующих, пока не устала, намертво и страшно быстро. Через полтора года после рождения Глаши Вера влюбилась в другого, и как! Теперь-то ясно было, от отчаяния — сбежав в любовную страсть к первому встречному (Глашенькиному массажисту, приходившему разминать ее девочку молодому врачу с выпуклыми голубыми глазами и нежным провинциальным акцентом), рванула от ежеминутного домашнего ада, с обязательными молитвами на ночь и пред едой, ежевоскресным причащением Глаши, сначала ее раздень — потом одень, в одиночестве — папа прислуживал в алтаре, с неукоснительным приготовлением постных блюд, которые получались у нее кое-как. Муж никогда ни в чем ее открыто не упрекал, только подшучивал, только смотрел, качал головой на ее пересоленную чечевицу, он был старше ее на 14 лет — бородатый, степенный, с положением и даже открытым с друзьями-математиками кооперативом по продаже техники, первых компьютеров… Новой своей любви Вера от него не скрывала, не могла да и не хотела скрывать, во всем призналась почти сразу, после очередного свидания, проходившего прямо тут, на супружеском ложе, во время Глашкиного дневного сна. Призналась, вдруг осознав, что не в состоянии, не может обнимать сейчас другого. Муж выслушал ее беззвучно и долго, долго молчал, ей казалось, ждал раскаянья, слез — напрасно. Наконец, уточнил: «Похоже на предательство. Думаешь, это то самое, чего ждут всю жизнь?» Она ответила, не выныривая из горячечного любовного тумана: в этом я даже не сомневаюсь! Муж предложил не торопиться, съездить к старцу, помолиться, спросить совета — она отказалась наотрез. Через несколько дней он исчез, без объяснений и записок, вот так же, как 16 лет спустя Глаша, свез все вещи, любимые книги, обувь, пока Вера была на работе. И все-таки тогда она, передернув лопатками от нахлынувшей было обиды, но сразу же сбросив ее как ненужное покрывальце с плеч, все равно обрадовалась, засмеялась: свобода. Как удачно сложилось все. Выдохнула и от души поблагодарила Бога, забыв про Глашу.
Глаше нужен был папа. Но папа никогда больше не появился, не позвонил, не поинтересовался дочкой, разумеется, не пытался присылать денег, закрепив ощущение: предатель — он. Вера знала, бывший муж уехал в Америку, вроде бы устроился там в какую-то фирму, но затем и последняя связь с ним оборвалась: их общий старый друг, который и приносил ей новости, вскоре отправился туда же, где русские программисты были нарасхват. Друг прислал в конверте цветную фотографию (он в белых шортах и красной футболке стоит под цветочной аркой какого-то местного парка, на ярко-зеленой калифорнийской траве) с веселой надписью на обороте — и окончательно растворился в сиянии Нового Света.
Вскоре выяснилось, ее возлюбленному, молодому доктору с мускулистыми плечами и такими мягкими ладонями, она нравилась в роли замужней дамы, чье положение надежно уберегало его от резких и совершенно ненужных движений; любовь их разбилась о ее свободу и медленно, вязко стекла вниз. Несколько месяцев полумрака и слез разрешились бесчувствием и внезапно новым замужеством. Максим, одноклассник, встреченный на десятилетнем юбилее окончания школы, признался, что все эти годы втайне ждал ее (действительно поздравлял с Новым годом и днем рождения по почте — это и есть «ждал»?). Глаше исполнилось два года, она как раз училась говорить и сразу же стала называть Макса папой.
И вот 16 лет спустя всем странам предпочла Америку, могла ведь и Германию, и Францию, да просто еще остаться и поучиться в Москве — в Америку! Отчего? Круглая отличница, Глаша все последние годы, едва родился брат, точно бы пыталась доказать: достойна, я достойна, я лучше всех. Полюбите меня, полюби меня за это, папа. Обними меня, — Глашка требовала, вытягивала, выпрашивала эти обнимашки до последних дней жизни дома. Вера шла навстречу, а Макс, Макс, которого Глаша считала родным папой, конечно, был дружлюбен, но этих девчачьих нежностей не переносил. Не переносил, впрочем, как выяснилось, до поры: когда родился Тимофей — долгожданный сыночек, тут-то и стало понятно, что такое истинные отцовские чувства и обнимать, и тискать, и подкидывать, и прижимать к сердцу Макс превосходно умеет. Тогда-то и начались эти разговоры: почему папа меня не любит? Почему папа больше любит Тиму? Но так ведь спрашивают все старшие дети, обычное дело. Вера старалась не вникать.
И Глашка ответила. Сорвав и потопив все накопленное жизнью в доме тепло, как старую шкуру, словно в надежде обрасти новой.
Последние месяцы они провели в ссорах. Глаша все время ее воспитывала, объясняла, что так с ней нельзя, и так тоже. Что Вера опять требует, а можно только просить. Что нельзя без «пожалуйста» и лучше повторить это слово дважды, а понадобится — и трижды. Что перед тем, как входить к ней в комнату, нужно стучать! На Максима, стучаться в комнату принципиально не желавшего, Глаша все время дулась, на Веру просто кричала.
Да она была невменяемой все эти предотъездные месяцы, готовилась к разлуке? Отбегала на расстояние, потом еще. И еще. Проверяла: могу? А так, а еще дальше? А вот так? Мам, смотри! — и прыгнула через океан. Оставив пустую коробку, а в коробке зверька.
Глаша приволокла его незадолго до отъезда — подарили остроумные друзья, те самые, с серьгой и в пантеровых очках, — в дорогу, в отъезд, чтоб напоминал о России, русского зайку. Хотя на самом деле карликового белого кролика. Необычайно довольные собой. Кто-то прочитал, что вроде бы это совсем не сложно — оформить документы и увезти зверя с собой в специальной переноске с мягким дном. Но оказалось, ничего оформить за два с половиной дня до отъезда невозможно. К тому же и в общежитcких правилах ясно сказано: no pets.
Теперь кролик жил в дочкиной комнате, и его нужно было кормить сухим кормом и сеном из «Бетховена», вытряхивать из коробки загаженные опилки, выгуливать по комнате.
Был он белый, темнели только уши и два пятнышка — на спинке и мордочке, возле носа. Вера гладила ему ушки, он их послушно прижимал, глупое существо, доверчиво шел на руки, грыз яблоко и морковь, тревожно обнюхивал все предметы, дрожал, когда она поднимала его в воздух — и счастливо носился по Глашиной кровати, Вера предусмотрительно застелила ее походной пенкой, — роняя шарики. Страшно билось потом кроличье сердце.
Вот какого Глаша оставила себе заместителя. Уж лучше бы подарили кота.