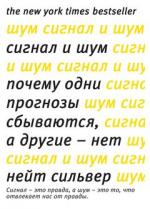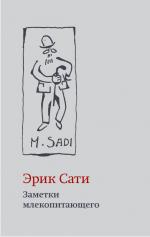- Анна Матвеева. Завидное чувство Веры Стениной. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. — 541 c.
В новом романе Анны Матвеевой «Завидное чувство Веры Стениной» рассказывается история женской дружбы-вражды. Вера, искусствовед, мать-одиночка, постоянно завидует своей подруге Юльке. Юльке же всегда везет, и она никому не завидует, а могла бы, ведь Вера обладает уникальным даром — по-особому чувствовать живопись: она разговаривает с портретами, ощущает аромат нарисованных цветов и слышит музыку, которую играют изображенные на картинах артисты…
Дайте мне девочку в соответствующем нежном возрасте, и она — моя на всю жизнь.
Мюриэл СпаркЧасть ПЕРВАЯ Глава первая
Начать славную вещицу так, чтобы любой мог заметить, что славная вещица начата, — это уже кое-что.
Гертруда СтайнЕвгения кричала так громко, что Вере пришлось положить трубку динамиком вниз. Теперь Евгения кричала в стол, как писатель без надежды на публикацию. И всё равно было слышно:
— Приезжай!
За окном — Грабарь. Берёзки — перепудренные красавицы.
«Завидовать — нехорошо», — говорила Тонечка Зотова из старшей группы детского сада. Вера попыталась вспомнить Тонечку, но память не откликнулась, да и альбом с детскими фотографиями неизвестно где. Голосок-то звучал, а вот на месте лица детсадовской подружки чернел пустой овал — как в парках развлечений. Подставь физиономию — и превратишься в принцессу, разбойника или Тонечку Зотову, мастера моральной оценки.
Завидное качество — никому не завидовать.
Вера бросила мобильник под подушку. За стеной визжала дрель. Соседи вложили в ремонт всю свою душу, и теперь эта душа колотила и сверлила там с утра до вечера. А Вера, между прочим, работала дома. Точнее, пыталась работать — обычно дрель побеждала, и Вера уходила в кафе, как Жан-Поль Сартр, но и там было немногим лучше. Музыка, официанты, посетители. Кофеварка ворчит, ложки падают — не сосредоточишься.
Лару дрель не беспокоила — дочь спала под строительные визги чуть не до обеда, а проснувшись, смотрела на часы. Когда Вера впервые увидела, как Лара смотрит на часы, она решила, что дочь повредилась умом. Так обычно смотрят на самых любимых людей накануне вечной разлуки. А здесь — часы. Три стрелки, вечный круг, квадрат нам только снится…
— Ждёшь чего-то? — спросила Вера. Вспомнила, как сама в детстве подгоняла часы с минутами.
Лара перевела взгляд на мать — точно стрелка скользнула по циферблату:
— Смотрю, как проходит время.
Вчера Вера сняла часы со стены и грохнула об пол — вот прямо с удовольствием! Секундная стрелка жалобно согнулась, минутная показывала на дверь — как пальцем. Иди отсюда!
— Полегчало? — холодно спросила дочь. Отвернулась к стене и снова уснула — с подушкой-думочкой на голове. Она постоянно спала — другие люди разве что в поезде столько спят. Или в больнице.
В телевизоре, который Стенины слушали, почти не глядя на экран, кто-то в очках спрашивал у какой-то белокурой:
— Когда ты в последний раз была счастлива?
Вера подумала, что в её случае честный ответ прозвучал бы так: «Я была счастлива, когда проснулась ночью и увидела, что до звонка будильника ещё целый час!»
Но в возрасте Лары, в свои собственные девятнадцать лет, Вера не стала бы смотреть на часы — наоборот, это они глядели на неё ночами с укоризной. Без десяти два у часов вырастали гневные испанские брови — где ты бродишь, почему не спишь?
Юные годы Веры Стениной пришлись на середину девяностых. Конечно, если бы её спросили, она выбрала бы другое время — да и место тоже. Но её не спрашивали, поэтому в девяностых Вера жила в Екатеринбурге, училась на искусствоведа и дружила с бывшей одноклассницей и будущей журналисткой Юлей Калининой, ныне известной как Юлька Копипаста.
Память заговорила, Лара спала, дрель верещала.
Пять минут назад Вере позвонила Юлькина дочь Евгения — годом старше Лары. Кричала в трубку, плакала. Сказала, что не может дозвониться до матери — та и вправду находилась с мобильником в сложных отношениях. Теряла, забывала, не слышала, случайно перезванивала и молчала. Вера вопила: «Алло!» на дне сумки, а Юлька не отвечала. «Это тебе сумка моя звонила», — шутила потом Копипаста.
Прозвищем своим Юлька гордилась, так как заслужила его в честном бою с новым редактором родного журнала — его спустили на этот пост сверху, как Супермена. Он и был супермен, во всяком случае, с виду. Карандаш в кулаке — как зубочистка, из-за плеч не видно окна, и даже волосы такой густоты, что в парикмахерских с него брали «за две головы». А вот какие у редактора глаза, никто не помнил, потому что он постоянно улыбался и все отвлекались на эту улыбку. Глаза были всегда сощурены, цвет — на втором месте.
До того как приземлиться в редакции, Супермен работал в детско-юношеской спортивной школе — учил способных свердловских малюток основам карате. Эта профессия открывала в девяностые годы широчайшие возможности, и Супермен не стал ими пренебрегать. То есть он не светился рядом с главными авторитетами, но всегда присутствовал неподалеку. Первый справа за границей фотокарточки, он был, безусловно, своим.
Сейчас по пятам за Суперменом ходят дотошные журналисты, спрашивают — вы правда близко знали самого В.? И Мишу К.? А сами, скажите, убивали? Супермен в таких случаях отшучивается, и если журналисточка хорошенькая — может легонько дотронуться до её носика и напомнить о судьбе любопытной Варвары. Когда же разговоры про мафию девяностых заходят публично, в прямом эфире, Супермен улыбается так, что вот-вот — и губы порвутся. Каким от него в этот момент шибает холодом! Будто это не живой человек, а сосуд Дьюара с жидким азотом.
Супермен цивилизовался первым, это о таких потом стали говорить — «Бизнес с человеческим лицом». Имелся рядом друг-советчик, сейчас проживает в Швейцарии — а тогда вовремя втолкнул бывшего спортсмена в политику. Двери там открываются редко и ненадолго — упустишь момент, жди следующего случая. Супермен не упустил — сначала стал депутатом городской думы, потом — областной, затем ткнулся в Государственную, и вот здесь ему впервые не повезло. Один журналист, москвич с уральскими корнями, спешно решал проблему обучения сына в Великобритании. Сын был способным, но не настолько, чтобы в Великобритании согласились учить его совсем уж бесплатно. Журналист срочно искал деньги, и тут подвернулся заказ — снять с дистанции Супермена. Слишком уж мускулистым показался, таким обычно не дают даже стартовать — а вдруг победят? В ход пошли документы, фотографии, записи телефонных разговоров — Супермен был осторожен, но молод и предвидеть всего не мог. Нервус рерум1 — видеозапись всех свердловских авторитетов, где за одним столом сидели призраки легендарных лет, и рядом с В. засветился вполне узнаваемый, хоть и с дурацкой чёлкой, Супермен. Журналист получил свои деньги, сын улетел в Англию, а Супермена сбросили с планеты «Государственная дума» на планету «Свердловский областной журнал». Аутсайдеров по традиции не спрашивают, чем бы им хотелось заниматься.
Журналистов Супермен вполне объяснимо ненавидел, хотя и не переставал улыбаться каждому своему сотруднику. Первым делом он решил освежить пространство, уволив самые неперспективные кадры. Ими были сочтены все, кроме спортивного обозревателя Корешева, который, впрочем, предпочитал восточным единоборствам плебейский хоккей — но с этим можно было что-то сделать. Прочих работников, включая узбекскую уборщицу, новый редактор собрал в своём кабинете, обставленном плюшевой, пыльно-зелёной мебелью, и рассматривал их, качаясь с пятки на носок. Улыбка у него была страшная, как у злодея, который вот-вот прикончит главного героя, но пока лишь наматывает хронометраж, расписывая в красках вехи своего трудного пути.
— Я с трудом понимаю, зачем сегодня нужны журналисты, — сообщил Супермен коллективу. — Вся информация есть в Интернете, бери да читай.
— А там она, по-вашему, откуда берётся? — возмутился корреспондент отдела культуры. — Журналисты и пишут.
— Я думаю, — сказал Супермен, не переставая улыбаться, — что мы будем брать материалы в Интернете. И нам не требуется такой большой коллектив.
Вот тогда-то вперёд шагнула Юля Калинина — ей не хватало только знамени в руках! Вместо знамени Юлька держала в руках свежую газетную полосу.
— То есть будем копипастить?
— Чего? — испугался Супермен. Он был далёк от компьютеров, и нужные сайты для него открывала секретарша.
— Копипаста, — объясняла Юлька, размахивая полосой, — это воровство. Вы копируете текст в одном месте, а потом вставляете его в другое.
— Вставляете… — механически повторил Супермен, и слово это, без того сомнительное, прозвучало в его устах совсем уже неприлично.
Юлька улыбнулась. Какие ямочки! А ножки! Вот кого увольнять не следовало категорически.
— Товарищи, — это обращение Супермен подцепил в Думе, как вирусную инфекцию, и всё никак не мог вылечиться, — прошу разойтись по местам и приступить к работе.
Он решил, что освежит пространство в другой раз, и сосредоточился на том, чтобы Юля Копипаста разглядела в нём мужчину.
Между прочим, сама Юлька никогда не грешила плагиатом, но прозвище прилипло к ней намертво, как ценник — к дешёвой тарелке. А мужчину в Супермене разглядела бы всякая — даже узбекская уборщица выпрямляла спину, когда он шёл мимо. И Юлька тоже разглядела, хотя к тому времени уже побывала замужем и родила дочку Евгению.
…Евгения плакала, потом связь прервалась, а в груди Веры Стениной будто бы проснулась, расправив крылья, летучая мышь.
Завидовать — от слова «видеть».
Летучие мыши не могут похвастаться стопроцентным зрением.
Зависть Веры раскрыла глаза, они были голодные и чёрные, как у женщин Модильяни.
Почему именно ей всегда выпадает беспокоиться о Евгении?
Копипаста сама должна заботиться о дочери. У Веры — своё горюшко.
Лара.
Вера Стенина и Юлька Калинина учились в одном классе. Будущая Копипаста (тогда таких слов никто не знал, паста могла быть зубной или чистящей — как «Санита») обожала геометрию.
— Массаж мозга, — объясняла она свою слабость. Только скажут волшебное слово «дано», как Юлька уже подпрыгивает на месте. Тянет руку вверх, рукав школьного платья коротковатый, и манжетик не пришит. Вера Стенина никогда себе такого не позволяла. Свежие воротнички и манжеты с шитьем, стирать и гладить каждый вечер. И с геометрией у них было чувство взаимной ненависти. Учительница Эльвира Яковлевна (зелёная кофта на пуговицах и синяя юбка — все годы, с пятого по десятый класс) говорила:
— Стенина — единственный случай полной математической глухоты в моей практике.
Вера списывала у Юльки контрольные, копировала непонятные решения, не всегда верные, но неизменно бурные доказательства. Вот кто был тогда настоящей копипастой!
Глубоко внутри себя (а там было и вправду глубоко — летучая мышь прокладывала новые маршруты каждый день) Вера считала, что делает Юльке одолжение. Списывая, она тем самым поднимала смешную, некрасивую Калинину до своего уровня. Что поделать, если не всем «дано».
Дрель за стеной умолкла, возможно, пошла на обед. Вера отключила мобильник. Вот бесовы машинки! Все вокруг причитают — да как мы раньше жили без них? Вера считала, прекрасно жили. Если бы Юлька не отдала ей однажды свой старый телефон, так до сих пор и обходилась бы. Зато для Лары мобильник — лучший друг сразу после компьютера.
…Юлька была некрасивой с первого по седьмой класс.
— Прямо жаль девочку, — сокрушалась Верина мама, когда Юлька выходила, широко и глупо улыбаясь, на сцену актового зала. Читала стих:
Если бы Ленин пришёл сейчас к нам,
Он бы, прищурившись, просто сказал:
Стоило драться, жить, побеждать!
Спасибо, товарищи, так держать!Читала звонко, стояла — руки по швам, как подчасок у Вечного огня. Их так учили. В частной гимназии, которую окончили и Лара, и Евгения, была уже совсем другая мода на выразительное чтение: дети трясли головами, размахивали руками и так завывали в логическом конце фразы, как будто изображали ветер. Или волка.
Юлька была тощая, ножки торчали, как спички, воткнутые в пластилин. Одноклассник Витя Парфянко, уже покойный, к сожалению, говорил в таких случаях: «За шваброй может спрятаться». Лицо у Юльки удлинённое, нос — какой-то сложный, будто скроенный из двух разных. Девочки любили Калинину — некрасивых всегда любят. И бездарных — тоже. Если тебя вдруг все любят, имеет смысл задуматься.
Вот, например, Веру Стенину в классе терпеть не могли. На вопрос в девичьей анкете «Считаешь ли ты меня красивой?» респондентки честно отвечали: «Да, но ты слишком высокамерная и не преступная».
Вера была красивой с первого по седьмой класс. Во-первых, блондинка, искренне сочувствовавшая несчастным чёрненьким или пегим, как Юлька. Во-вторых, спортивная, ровненькая. Однажды малютку Стенину сфотографировали для ателье — портрет Веры висел в витрине несколько лет. Мама её наряжала — и портниха приезжала домой, и многое доставали по блату через тётю Таню из торга. А Юлька носила какие-то нафталиновые платья с древним плиссе или клетчатые юбки с залоснившимся подолом. Даже когда можно было уже покупать вещи на «туче», продолжала одеваться в «уралтряпку».
— И где тебе, Вера, мама такие сапоги достала? — спросила Юлькина мать в шестом, кажется, классе. Сапоги были правда сказочные. Белые, с присборочкой — и короткие, по щиколотку. Самый всплеск.
— На Шувакише, — сказала Вера.
— Боюсь спросить, сколько стоят.
— Двести.
Юлькина мать затряслась, как ребёнок-чтец из будущего.
— Двести?! Знаешь, Вера, если ты вдруг вырастешь из них или надоест носить, я бы купила для Юленьки.
— Ну мама! — взвыла Юлька.
— Я бы купила… рублей за тридцать, пусть и ношеные.
Интересно, подумала Вера, а Юлька мне тогда завидовала?
Они дружили втроём с Олей Бакулиной, и эта Бакулина дорожила Юлькой — в гости каждый день звала, взбивала в её честь молочные коктейли. У них был миксер — редкая вещь. Веру хозяйка миксера всего лишь терпела, как ежедневный труд. Бакулина была в шестом классе прыщавой и страшно по этой причине страдала. Деликатная Эльвира Яковлевна, оправляя свою зелёную кофту проверенным движением — как шинель под ремнём, — однажды сказала ей при всём классе:
— Вот выйдешь замуж, Бакулина, и всё у тебя пройдёт!
Прошло, конечно. Теперь Бакулина мало того, что без единого прыща, так ещё и живёт в Париже. Вера старалась не думать об этом лишний раз: зависть могла разгуляться от подобных мыслей, она в последние годы стала неразборчивой, бесилась от всего подряд.
Вера один раз была в Париже с Копипастой, уже взрослая. Юльке подвернулся пресс-тур, она пристроила с собой Веру, а Лару и Евгению оставили с бабками. Пресс-тур проводили какие-то авиалинии, журналистов никто особенно не развлекал — и слава богу. Юлька с Верой целых три дня ходили по городу вдвоём. Копипаста была счастлива: Париж! На рассвете высовывалась из окна — пахнет любовью, кричала, и круассанами, маслеными! Вера боялась, что Юлька грохнется о мостовую, и не меньше боялась признаться даже себе самой, что может этому обрадоваться. Мусорщики гремят баками — в ритме «Марсельезы»! Крыши — серенькие, а дымоходы — рыжие, как цветочные горшки, только перевёрнутые! На уличном рынке посреди бульвара Распай Юлька углядела на прилавке мясника блестящие розовые мозги — и снова счастье! Представляешь, можно купить себе новые мозги! Или привезти кому-нибудь в подарок.
Угомонилась Юлька только в Лувре. Вера где-то прочитала, что, если по пятнадцать секунд стоять у каждой картины Лувра, на всё про всё уйдёт ровно пять месяцев. Целых пять месяцев счастливой музейной жизни! В Лувре Вера могла бы много что рассказать Юльке — например, о том, как работал Тициан. Он отворачивал картины лицом к стене, а спустя некоторое время набрасывался на них, как на врагов.
Вера пыталась рассказывать, но Копипаста её не слышала. А в Большой галерее и вовсе потерялась. Вера дважды обошла галерею — Юльки нигде не было. Она составила фразу на своём корявом французском: вы не видели девушку в синем платье? Высокую, красивую?
Летом, после седьмого класса, Юлька внезапно стала красивой. Всё, что прежде выглядело смешным, стало вдруг единственно верным — как доказательство сложной теоремы. Маленькие, широко расставленные глаза Вера считала поросячьими, — но выяснилось, что они не поросячьи, а как у Марины Влади. Чёрно-белый портрет Высоцкого и Марины, где он держит её за коленку, а она обнимает его за талию, будто они едут на мотоцикле, висел в спальне классной руководительницы. Та однажды попросила Веру с Бакулиной сбегать к ней домой — надо было срочно доставить в школу какую-то книжку. Квартира учительницы поразила Веру беспорядком и этой вот фотографией. В Марине Влади было нечто такое, что делает неважным возраст и успех.
— Какая красавица! — простонала Бакулина. Никто не знал, что ровно через год Бакулина будет говорить то же самое про Юльку. И не только Бакулина — все! У Юльки вдруг появились брови — такие ни за что не нарисуешь. Толстые губы, которыми Парфянко мечтал «медку хлебнуть», вдруг заняли на лице нужное место, и сложный нос внезапно стал аккуратным, как на монетке. Ну а самое грустное, что Юлькины ноги были теперь не хуже, чем у первой выбранной в стране «мисс» — Маши Калининой. Однофамилица Копипасты улыбалась с обложки журнала «Бурда Моден», и дёсны у неё были одного цвета с помадой — бледно-оранжевыми, как недозрелая хурма.
Прежде Вера не задумывалась о том, что женские ноги должны быть длинными, но теперь беспощадная правда стояла перед ней в лице Юльки — точнее, правда была в её ногах. Первого сентября Витя Парфянко, помнится, споткнулся взглядом о Юлькины ножки, а потом и просто — споткнулся. Копипаста была в тот день ещё и в очень удачной юбке — и проносила её до весны, пока не села на тополиную почку. А Вера Стенина, глядя на красивую Юльку, впервые ощутила внутри странный трепет. Маленькое создание, запятая, если не точка, открыло глаза и осмотрелось. Для существа, только-только увидевшего мир, у него был на редкость цепкий, внимательный взгляд.
Зависть была наблюдательной — как юнга.
Тем вечером Вера измеряла собственную ногу гибким портновским метром — от бедренной косточки и до пятки, прилипшей от волнения к полу. Цифра оказалась скромной, и Вера пыталась её забыть, но, разумеется, помнила. Помнит и по сей день — а вот нащупать с первой попытки бедренную косточку уже не может.
1 Nervus rerum — дословно «нерв вещей»; самое главное, суть чего-либо; главное дело; важнейшее средство (лат.).
Метка: Отрывок
Валерий Бочков. К югу от Вирджинии
- Валерий Бочков. К югу от Вирджинии. — М.: Эксмо, 2015. — 352 с.
Писатель Валерий Бочков, живущий в США, удостоен престижной «Русской премии» 2014 года в категории «Крупная проза». Когда главная героиня его психологического триллера «К югу от Вирджинии» — молодой филолог Полина Рыжик решает сбежать из жестокого Нью-Йорка, не найдя там перспективной работы и счастливой любви, она и не подозревает, что тихий городок Данциг — такой уютный только на первый взгляд. Став преподавательницей литературы, Полина вскоре узнает о загадочном исчезновении своей предшественницы Лорейн Андик…
1
Серьги из желтой железки напоминали тощих рыбок, в глазах краснели бусины, чешуйки неровными дугами были отчеканены на выпуклых боках. Полина приложила одну серьгу к уху, протиснулась к маленькому зеркалу, мутному и неудобному. Сложив губы уточкой, подвигала бровями. Продавщица, молодая, с грязноватой челкой на глазах, умирая от скуки, отколупывала лак с ногтей. Она изредка поглядывала на Полину. Больше в лавке никого не было.
Полина взглянула на часы — нужно было убить еще двадцать минут. Она опустила рыбок на стекло прилавка, те звякнули, девица лениво спросила:
— Берете?
Полина отошла, сделала неопределенный жест, всматриваясь в слепые корешки антикварных книг: Гете, Шекспир, рядом стоял путеводитель по Турции. Она вытащила Шелли начала века, бережно пролистав сухие страницы, чайные по периметру и светлеющие к середине, поставила том обратно. Провела пальцем по бугристому корешку с остатками позолоты. Было бы здорово такую книгу подарить Саймону.
— А русских авторов нет? — Полина повернулась к прилавку. — Толстой там…
Девица поглядела на нее из-под челки:
— Я про это не в курсе. Сережки брать будете?
Полина прищурилась, положила рыбок на ладонь, те в ответ поглядели лукавым глазом. Отступать было поздно — она кивнула.
— Вам завернуть? — чуть оттаяв, почти вежливо спросила девица. — У нас подарочная упаковка. Блестящая, вот смотрите. И бесплатно. — Она была уверена, что Полина одна из тех нищих задрыг, которые все перероют, перемеряют, а после так и уйдут, ничего не купив.
— Спасибо, я их сейчас… — Полина, зажав сумку под мышкой, вытащила из мочек маленькие фальшивые бриллианты, сунула их в джинсы.
— Я их прямо сейчас…
Продавщица, подцепив ногтем ценник, прилепила его себе на руку, ткнула пальцем в кассовый аппарат. Тот, радостно звякнув, выплюнул чек.
Полина вышла из лавки, пружина захлопнула дверь. Магазин был зажат между прачечной и мексиканской харчевней. Из обжорки воняло жареным луком, а из мрачного нутра прачечной несло химической свежестью. Полина поглядела на часы, закурила. Еше десять минут. Прошлась, искоса поглядывая в отражение витрины. Поправила волосы, выдула тонко дым.
Солнце вспыхнуло, выскочив из толкотни облаков, которые неслись по диагонали вверх. Другая сторона улицы утонула в синем, дорогу с пыльным бульваром посередине перечеркнули полосы света. У столба остановился красный седан с открытым верхом; Полина, быстро спрятав руку за спину, уронила окурок на асфальт.
— Опять? — Саймон сделал строгое лицо. — Ведь договорились!
Он дотянулся и приоткрыл дверь. Полина кинула сумку назад, там было крошечное сиденье, очевидно, рассчитанное на карлика или пару мелких детей.
— Вот! — она покрутила головой, сверкнув рыбками. Чмокнула Саймона в скулу.
— Блесна. На щуку? — он резко воткнул передачу и дал газ.
До Саймона у Полины был Грэг. Он тоже учился в Колумбийском, только на международных отношениях. Грэг относился к старомодному типу, в университете таких было немало, казалось, что все они — холеные, румяные, с опрятной скобкой на крепкой шее состоят в родстве, что все они ходили в одну и ту же частную школу в Новой Англии и до сих пор, по привычке, одеваются в темно-синие блейзеры с гербом на кармашке. Рубашки бледных расцветок, лимонные и голубые, иногда розовые, аккуратно заправлены в серые штаны под тонкий ремень с латунной пряжкой.
Грэг оказался скучноватым педантом, впрочем, внимательным и нежным. В постели у него отчаянно потели бедра и икры, удивительно волосатые, при полном отсутствии растительности на бледной костистой груди. Он предпочитал одну позу — сверху, двигался осторожно, будто боясь там что-то повредить. Впрочем, он был достаточно ритмичен, а главное, неутомим и напоминал Полине опытного чистильщика сапог. Она иногда ловила себя на том, что мысли ее утекали из спальни куда-то вдаль и там бродили в безмятежной скуке. Она пыталась внести разнообразие в процесс, но, не встретив одобрения, постепенно сдалась. На носу маячила защита диплома, потом выпуск, а в ее постуниверситетские планы Грэг уже не входил.
В конце марта, неожиданно жаркого в эту весну, они стояли у гуманитарного факультета и ели подтаявшее мороженое. Полина при этом умудрялась курить, подавшись вперед и стараясь не закапать юбку. Грэг с кем-то поздоровался, Полина повернулась. Грэг представил ее. Профессор Саймон Лири пожал ей руку, крепко, чуть задержав ее ладонь в своей. Она смутилась, от мороженого ее рука была липкой.
Профессору было за пятьдесят — старая гвардия, знакомая ей по родительскому дому в Нью-Джерси. Отцовские приятели, важные и неторопливые: покер, сигара, скотч в толстом стакане, иногда они оказывались остроумными, порой даже симпатичными. Но главное — запах, эта смесь горького табака, виски и пряного одеколона, этот дух вносил в мир порядок. Иногда под Рождество Полина получала от них десятидолларовые купюры. Эти мужчины знали жизнь, они твердо стояли на ногах и серьезно относились к своим удовольствиям: покер, рыбалка, скотч, сигары. Они знали цену справедливости. В них угадывалась основательность и надежность, таким вполне можно было доверить управлять миром.
Профессор Саймон обладал вкрадчивым голосом, седые виски переходили в жесткую пегую шевелюру, на подбородке гнездилась ямочка, которую (как Полина узнала потом) невозможно было чисто выбрить. В своем твидовом пиджаке с замшевыми локтями, вельветовых мешковатых штанах болотного цвета, мордатых ботинках свиной кожи он производил то самое впечатление надежности и напоминал ей старый отцовский саквояж, может, не такой стильный, но уж зато прочный и удобный для путешествий на любую дистанцию.
Полина отчего-то смутилась, на вопрос ответила сбивчиво, что диплом у нее по русской литературе, по Льву Толстому. Профессор хитро улыбнулся и, чуть помешкав, произнес:
— Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Акцент у него был жуткий, но впечатление на Полину профессор произвел. Грэг русского не знал, но тоже улыбался и довольно потирал ладони. Через неделю Грэг уехал в Европу.
Профессор Лири читал курс по истории холодной войны и еще что-то про распад коммунистического блока. Полина политикой не интересовалась, поэтому в аудиториях они не встречались. На кампусе он ей безразлично кивал или делал вид, что не замечает. Вообще, профессор соблюдал осторожность, встречались они в условном месте за пять кварталов вверх по Бродвею. На углу Сто тридцать шестой улицы, у антикварной лавки с синей дверью. Полине нравилась скрытность их связи, таинственность казалась ей романтичной и переводила Полину в разряд взрослых. У нее теперь был не просто парень, у нее появился настоящий любовник.
Хотя и здесь амурные дела обстояли не совсем гладко. Профессор предпочитал говорить, он обожал, когда его слушают. Полина слушала. Профессор мог часами рассуждать о том, что именно информация убила коммунизм, что роль Горбачева в перестройке минимальна — изменения диктовались экономикой, что Рейган просто дурак и посредственный актер, случайно угодивший в президенты.
Профессор говорил, когда готовил, обычно он стряпал что-то итальянское: равиоли с грибами, сицилийские баклажаны, моцарелла с томатами, макароны с пармской ветчиной. Готовил Саймон артистично, смело импровизируя, — на кулинарные рецепты он плевал.
— Для настоящего маэстро они лишь руководство к действию, — говорил профессор. — Рецепт есть догма, а догма убивает творчество.
Щедро добавляя оливковое масло, он сыпал соль, перец и специи на глаз, не забывая отхлебнуть кьянти из бокала. С поварской ловкостью шинковал петрушку и базилик, иногда перебивая сам себя восклицаниями типа «бениссимо» и «магнифико». Еда получалась действительно вкусной.
Профессор подбирал Полину у антикварной лавки и обычно вез к себе на Ист-Сайд. За такую квартиру запросто можно было заложить душу дьяволу: с мраморным холлом и швейцаром, квартира была на двух уровнях, в гостиной три сводчатых окна выходили на Пятую авеню, слева виднелась колоннада музея Метрополитен, справа зеленой горой вставал Центральный парк. Если лечь в ванну, то в круглое окно были видны верхушки небоскребов мидтауна. Самое удивительное, что в этой квартире никто не жил, иногда ключи выдавались проезжей родне или друзьям, посещающим Нью-Йорк.
Ребекка Лири предпочитала жить за городом, в Вестчестере. Эта квартира казалась ей тесной, город шумным, народ суетливым и неприятным. Ребекка много путешествовала. Она считалась специалистом по Дюреру и немецкому Ренессансу в целом, ее приглашали на всевозможные конференции и прочие мероприятия околохудожественного характера. В спальне стояла фотография, которую профессор каждый раз незаметно поворачивал к стенке. Там Ребекка снялась на фоне какого-то готического собора, Полина иногда разглядывала ее лицо и совершенно не могла представить эту холеную высокомерную суку рядом с милым Саймоном. Сам профессор говорил, что их семейные отношения давно эволюционировали в дружеское партнерство, при этом Саймон грустно улыбался и гладил Полину по колену. Полина верила и отчасти даже жалела искусствоведку.
Полина понимала тупиковость отношений с профессором, этим апрелем ей исполнилось двадцать четыре, она все еще считала себя достаточно молодой, и будущая жизнь с вероятными детьми и предполагаемым мужем виделась Полине расплывчато и в общих чертах. Гораздо больше ее занимало трудоустройство после получения диплома, впрочем, ясности здесь тоже не было.
Профессор был в отличной форме, разумеется, для своего возраста. Когда он садился на край кровати и стягивал носки, кожа собиралась в складки, отвисала в неожиданных местах. Особенно уродливыми казались ступни ног, желтые, словно из воска, с корявыми бледными ногтями. На бедре темнело родимое пятно размером с маслину, а от пупка по диагонали вверх тянулся шрам. История шрама так никогда и не прояснилась, Саймон уклончиво ответил, упомянув Ленинград и какого-то Герхарда. Именно тогда Полина решила, что Саймон не всегда был всего лишь профессором.
Любовником он оказался торопливым, иногда эгоистичным, Полине казалось, что Саймон обычно пытается поскорее покончить со всей этой постельной канителью и перейти к действительно приятным делам: к вину, ужину, к разговорам. Но старая школа брала свое — он каждый раз собственноручно раздевал ее, ловко расправляясь с застежками, молниями и крючками, после подолгу занимался ее грудью. Грудь Полины действительно заслуживала внимания, тем более что, судя по фотографии, профессорше похвастать особо было нечем.
От антикварной лавки Саймон всегда гнал по Бродвею, раскручивался вокруг статуи Колумба, одиноко скучающей на колонне в центре тесной площади, потом ехал вдоль парка, сворачивал у Плазы на Пятую. Тем днем маршрут изменился — профессор неожиданно нырнул на первом светофоре направо, спустился к Гудзону и понесся по набережной на юг…
Сью Таунсенд. Ковентри возрождается
- Сью Таунсенд. Ковентри возрождается / Пер. с англ. И. Стам. — М.: Фантом Пресс, 2015. — 256 с.
Жизнь у Ковентри не задалась с самого начала, как только ее нарекли в честь английского провинциального городка. Нет, у Ковентри все как у людей — милый домик, нудный муж, пристойные детки-подростки. Одним словом, самая заурядная жизнь. Но однажды случается катастрофа — Ковентри убивает гнусного соседа, сама того не желая. И, поняв, что с привычной жизнью покончено раз и навсегда, Ковентри пускается в бега. Этот роман Сью Таунсенд — из золотого запаса английской литературы, истинное сокровище, в котором упрятаны и превосходный юмор, и тонкие наблюдения, и нетривиальные мысли.
1. Вчера я убила человека
Есть две вещи, которые вы должны узнать обо мне немедленно. Первая — я красивая, вторая — вчера я убила человека по имени Джеральд Фокс. И то и другое случайности. Родители мои некрасивы. Отец похож на теннисный мяч, лысый и круглый, а мать — точь-в-точь пила для хлеба — тонкая, зубастая, а язык — как бритва. Я никогда их особенно не любила, подозреваю, что и они меня не больше.
Да и Джеральда Фокса я не настолько любила или ненавидела, чтобы его убивать.
Зато я люблю своего брата Сидни и знаю, что он меня тоже любит. Мы вместе смеемся над Теннисным Мячом и Хлебной Пилой. Сидни женат на унылой женщине по имени Руфь. Прежде чем заговорить, Руфь вздыхает, а сказав, что хотела, вздыхает снова. Вздохи у нее вместо знаков препинания. Сидни от жены просто голову потерял; ее меланхоличность его очень возбуждает. Детей у них нет, да они их и не хотят. Руфь говорит, что жизнь слишком уж пугает ее, а Сидни не желает ни с кем делить перепуганную Руфь. Если погода жаркая, они занимаются любовью семь раз в неделю, а то и чаще, а когда уезжают за границу, то редко выходят из номера в гостинице. О своей семейной жизни Сидни рассказывает мне почти все, проявляя при этом необыкновенную стыдливость, как только речь заходит о деньгах. «Нет, нет, давай не будем об этом», — с содроганием говорит он, наотрез отказываясь обсуждать финансовые вопросы.
Он тоже живет в городе, где мы оба родились, и работает управляющим в магазине электротоваров; он большой мастер навязывать фотоаппараты, проигрыватели компакт-дисков и портативные цветные телевизоры людям, которым все это не по карману. Работа у Сидни ладится, потому что он, как и я, красив. У него такая улыбка, что покупатели не в силах устоять. Их завораживает глубина его темно-карих глаз и пушистость его длинных ресниц. Подписывая кредитное обязательство, они любуются его руками. Когда он говорит, что тот предмет длительного пользования, который им так нужен и который они только что оплатили, будет доставлен лишь недели через две, они пропускают это мимо ушей. Забыв обо всем на свете, они внимают его берущему за душу, вкрадчивому, с пленительной хрипотцой, голосу. Из магазина уходят ошеломленные. Одна женщина все махала Сидни рукой, пятясь к дверям, и в конце концов угодила прямиком на багажник мотоцикла; тот провез ее ярдов пятнадцать, а потом сбросил в кювет. Все, кто находился в магазине, выбежали ей на помощь, но только не Сидни: он остался охранять выручку.
У Сидни очень холодное сердце. Сам он никогда не страдал, и его раздражают страдания других людей. Он отказался смотреть новости по телевизору «с тех пор, как там без конца стали показывать этих проклятых голодающих». Однажды я спросила его, чего бы ему в жизни хотелось. «Ничего, — ответил он, — у меня уже есть все». Ему тогда было тридцать два. Я спросила: «Но что же ты будешь делать дальше, в оставшиеся до смерти годы?» Он засмеялся и сказал: «Зарабатывать деньги, да побольше, и покупать на них вещи, да побольше». Мой брат невыносимо практичен. Он не знает, что вчера я убила человека. Сейчас он отдыхает на вилле в Португалии, в провинции Алгарви, и не подходит к телефону.
Сидни — единственный в мире человек, который не будет шокирован тем, что меня ищет полиция. Мой брат — человек отнюдь не строгих правил, и я почти рада этому: такие люди — большое утешение в трудные минуты.
У меня необычное имя: Ковентри. В день, когда я родилась, мой отец как раз был в Ковентри. Он привез грузовик песку к месту бомбежки. «Слава богу, что его не послали в какой-нибудь Гигглзуик», — повторяла моя мать не меньше трех раз в неделю. Ничего более похожего на шутку она не сказала за всю свою жизнь.
Сидни тоже назвали в честь города. Отец увидел в журнале «Всякая всячина» фотографию моста через сиднейскую гавань и влюбился в него. Он знал и его вес, и длину, и даже как часто его красят.
Когда я подросла, я долго ломала голову: с чего это он нас так окрестил? Глядя на отца холодными глазами подростка, я видела, что он одуряюще скучен и начисто лишен фантазии.
Само собой, мы с Сидни всегда ненавидели свои имена. Я мечтала о каком-нибудь бесцветном имени — вроде Пат, Сьюзен или Энн, а Сидни хотел, чтобы его звали Стив. Впрочем, каждый мужчина из тех, кого я знаю, всегда хотел, чтобы его звали Стив.
Так вот. У меня необыкновенное лицо, тело и имя, но, к несчастью, я вполне обыкновенная женщина, без каких-либо заметных талантов, без влиятельных родственников, без дипломов, без какого бы то ни было опыта работы и без собственных средств. Вчера у меня были муж и двое детей-подростков. Сегодня я одна, я в Лондоне, я спасаюсь бегством и у меня нет с собой сумочки.
2. Вечер в пивном баре
Они давно сидели в пивном баре, Ковентри Дейкин и ее подруги. Дело происходило в понедельник вечером. Ковентри было совсем невесело. Когда она уходила из дома, ее муж Дерек повысил на нее голос. Сам он собирался на Ежегодное пленарное собрание Общества любителей черепах и считал, что Ковентри должна посидеть с детьми.
— Но, Дерек, им уже шестнадцать и семнадцать лет, вполне можно оставить их одних, — прошептала Ковентри.
— А что, если к нам вдруг ворвется шайка хулиганов, изобьет до смерти Джона и изнасилует Мэри? — зашипел Дерек.
Оба они считали, что в присутствии детей спорить нельзя, поэтому ушли препираться в сарай для черепах. Снаружи быстро темнело. Во время последней тирады Дерек сорвал с грядки кустик салата и теперь, аккуратно отщипывая листья, скармливал их своим любимым черепахам. Ковентри слышала, как щелкают друг о друга их панцири, когда черепахи устремились к его руке.
— Но, Дерек, у нас и в помине нет хулиганских шаек, — сказала она.
— Эти бандиты имеют машины, Ковентри. Они приезжают из густо населенных кварталов и выбирают богатые дома на окраине.
— Да ведь у нас скромный муниципальный район.
— Но мы же собираемся купить собственный дом, так?
— И откуда твои хулиганы, набившиеся в машину, узнают об этом?
— По дверям и окнам в георгианском стиле, которыми я заменил прежние. Но если тебе непременно хочется оставить Джона и Мэри одних, без всякой защиты, то пожалуйста. Иди развлекайся со своими вульгарными подружками.
Ковентри не стала защищать подруг, потому что они и впрямь были вульгарны.
— Мне, во всяком случае, претит мысль о том, что ты сидишь в пивной.
Дерек надулся; в темноте Ковентри видела его выпяченную нижнюю губу.
— А ты гони эту мысль. Сосредоточься на своих скользких черепахах. — Она почти кричала.
— Черепахи вовсе не скользкие, и ты бы это знала, если бы заставила себя потрогать разок хоть одну.
Между мужем и женой повисло долгое молчание, нарушавшееся лишь на удивление громким хрустом, который издавали пирующие черепахи. От нечего делать Ковентри принялась читать их имена, которые Дерек каллиграфически вывел светящейся краской на панцире у каждой особи. Руфь, Наоми, Иаков и Иов.
— А разве им еще не пора впадать в спячку? — спросила она у мужа.
Это было больное место. Уже прошло несколько морозных дней, но Дерек все оттягивал горестный миг. По правде говоря, он очень скучал по черепахам в долгие зимние месяцы.
— Предоставь мне решать, когда именно им пора впадать в спячку, хорошо? — сказал Дерек. А про себя подумал: «Надо завтра по дороге с работы прихватить соломы».
Дерек волновался за своих любимцев. Очередное катастрофически неудачное лето совсем отбило у них аппетит, подкожного жира почти не осталось, и шансы на то, что они очнутся после долгого зимнего сна, очень сократились. Он попытался было кормить черепах насильно, но перестал, когда у них появились явные признаки душевной угнетенности. Теперь он ежедневно их взвешивал и записывал вес каждой в специальную тетрадь. Он винил себя в том, что раньше не заметил их истощения, хотя как он мог его распознать сквозь толстые панцири, и сам не знал. У него же не рентгеновский аппарат вместо глаз, правда?
— Ну-с, прошу. — Дерек распахнул перед Ковентри дверку сарая.
Она протиснулась в узкую щель, избегая его касаться, и, ступая по темной влажной траве, на которой летом резвились черепахи, пошла к дому.
Пивной бар, где сидела Ковентри с подругами, назывался «У Астера». Он был переоборудован заново в стиле голливудской продукции тридцатых годов, когда в кино блистал Фред Астер* . Оформитель пивного заведения распорядился снять вывеску «Черная свинья», висевшую над входом, убрал массивные деревянные столы и удобные скамьи. Теперь любителям пива приходилось сгибаться в три погибели над розовыми кофейными столиками с хромированными ободками. Их большие зады, не помещаясь, свисали с крошечных табуретов, обитых розовой синтетикой. В новом виде пивная походила на довоенный голливудский ночной клуб, но завсегдатаи упрямо цеплялись за свои простецкие привычки: отвергая все попытки навязать им коктейли, они предпочитали потягивать пиво, пусть даже из высоких стаканов.
Официантов обрядили в костюмы под Фреда Астера, но те прощеголяли в них первую неделю, потом взбунтовались, не в силах больше терпеть неудобства от цилиндров, крахмальных воротничков и фраков, и влезли в привычную одежду. Грета, весившая шестнадцать стоунов** и служившая барменшей в «Черной свинье» с тех пор, как окончила школу, отказалась от должности в первый же вечер после открытия обновленной пивной. Она едва дождалась конца рабочего дня.
— Ну и видок у меня был — ни дать ни взять задница в цилиндре, — сказала Грета уже на улице.
— Это уж точно, Грета, — подтвердил один из завсегдатаев, истосковавшийся по заманчивой ложбинке между грудями в вырезе Гретиного платья.
Дереку понадобилось целых пять минут на то, чтобы устроить Руфь, Наоми, Иакова и Иова на ночь, и еще несколько минут — чтобы запереть окна и дверь сарая на все засовы и замки. Черепахи теперь животные редкие и ценные, кража черепах стала в Англии явлением вполне заурядным. Поэтому Дерек рисковать не желал. Он не представлял, что будет делать, если у него украдут любимый черепаший квартет. Мало того, что он их обожает, — у него не хватило бы средств восстановить поголовье. Когда он вернулся в дом, то обнаружил, что Ковентри его не послушалась и ушла в пивную.
— Извините, мне необходимо уйти, сегодня Ежегодное собрание, — объяснил он равнодушно внимающим детям. — Вы без нас тут управитесь?
— Конечно, — ответили они.
Когда за Дереком захлопнулась дверь в георгианском стиле, дети открыли бутылку отцовского вина, настоянного на цветах бузины, и с бокалами в руках уселись смотреть полупорнографическую киношку под названием «Грешные тела».
* Знаменитый танцор, звезда американской эстрады и кино 1930–1940-х годов. — Здесь и далее примеч. перев.
** Более ста килограммов.
Нейт Сильвер. Сигнал и шум
- Нейт Сильвер. Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие нет / Пер. П. Мироновой. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2015. — 608 с.
Аналитик Нейт Сильвер стал известен в 2000-х годах предсказаниями результатов соревнований по бейсболу, а затем и политических выборов. На президентских выборах в США в 2008 году ему удалось, основываясь на оценке данных опросов, верно предсказать победителя в 49 из 50 штатов, а на выборах 2012 года он показал абсолютный результат, предсказав победителя в каждом из 50 штатов и округе Колумбия. В данный момент Нейт Сильвер ведет блог FiveThirtyEight в New York Times.
Глава 2
КТО УМНЕЕ: ВЫ ИЛИ «ЭКСПЕРТЫ*» ИЗ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ? Для многих людей выражение «политический прогноз» практически стало синонимом телевизионной программы McLaughlin Group, политического круглого стола, транслируемого по воскресеньям с 1982 г. (и примерно с того же времени пародируемого в юмористическом шоу Saturday Night Live). Ведет эту программу Джон Маклафлин, сварливый восьмидесятилетний человек, предпринимавший в 1970 г. неудачную попытку стать сенатором США. Он воспринимает политические прогнозы как своего рода спорт. В течение получаса в передаче обсуждаются четыре-пять тем, при этом сам Маклафлин настойчиво требует, чтобы участники программы отвечали на совершенно различные вопросы — от политики Австралии до перспектив поиска внеземного разума.
В конце каждого выпуска McLaughlin Group наступает время рубрики «Прогнозы», в которой каждому участнику дается несколько секунд, чтобы выразить мнение по тому или иному актуальному вопросу. Иногда они имеют возможность выбрать тему самостоятельно и поделиться своим мнением о чем-то, весьма далеком от политики. В других же случаях Маклафлин устраивает им своего рода неожиданный экзамен, на котором участники должны дать так называемые вынужденные прогнозы и ответить на один конкретный вопрос.
На некоторые вопросы Маклафлина — например, назвать следующего претендента на место в Верховном суде из нескольких достойных кандидатов — сложно ответить. На другие намного проще. Например, в выходные перед президентскими выборами 2008 г. Маклафлин спросил у участников, кто одержит верх — Джон Маккейн или Барак Обама?.
Казалось, что ответ на этот вопрос не заслуживает длительного размышления. Барак Обама опережал Джона Маккейна практически в каждом национальном опросе, проводимом после 15 сентября 2008 г., когда банкротство Lehman Brothers привело к одному из самых сильных спадов в экономике со времен Великой депрессии. Также Обама вел по результатам опросов почти в каждом колеблющемся штате: Огайо, Флориде, Пенсильвании и Нью-Гемпшире — и даже в тех нескольких штатах, где демократы обычно не выигрывают, таких как Колорадо и Виргиния. Статистические модели, наподобие той, что я разработал для FiveThirtyEight, показывали, что шансы Обамы на победу в выборах превышают 95 %. Букмекерские конторы были менее конкретны, однако все равно оценивали шансы Обамы как 7 против 1.
Однако первый участник дискуссии, Пэт Бьюкенен, уклонился от ответа. «В этот уик-энд свое слово скажут неопределившиеся», — заметил он, вызвав смех остальных участников круглого стола. Другой гость, Кларенс Пейдж из газеты Chicago Tribune, сказал, что данные кандидатов слишком «близки друг к другу, чтобы делать ставки». Моника Кроули из Fox News была упрямее и заявила, что Маккейн выиграет с перевесом «в пол-очка». И лишь Элеанор Клифт из Newsweek констатировала очевидное мнение и предсказала победу Обамы и Байдена.
В следующий вторник Обама стал избранным президентом. Он получил 365 голосов выборщиков против 173, отданных за Джона Маккейна, — результат, практически совпавший с предсказанным на основании опросов и статистических моделей. Хотя это и не убедительная историческая победа, все равно это был не тот случай, когда трудно предсказать результаты выборов — Обама обогнал Джона Маккейна почти на десять миллионов голосов. И казалось бы, что всем, кто делал противоположные прогнозы, следует объясниться.
Однако через неделю, когда те же участники McLau ghlin Group собрались снова, ничего подобного не произошло. Они обсуждали статистические нюансы победы Обамы, его выбор Рама Эмануэля в качестве главы администрации и его отношения с президентом России Дмитрием Медведевым. Никто не упомянул о неудачных прогнозах, сделанных на национальном телевидении, невзирая на массу свидетельств обратного. Скорее, участники передачи попытались сделать вид, что исход был полностью непредсказуемым. Кроули сказала, что это был «необычный год» и что Маккейн провел ужасную предвыборную кампанию, забыв упомянуть, что сама хотела сделать ставку на этого кандидата неделей ранее.
Специалистов по прогнозированию редко стоит судить по одному-единственному прогнозу, но в данном случае можно сделать исключение. За неделю до выборов единственная правдоподобная гипотеза, позволявшая поверить в победу Маккейна на выборах, заключалась в массивном всплеске расовой враждебности по отношению к Обаме, почему-то не замеченной в ходе опросов. Однако подобную гипотезу не высказал ни один из экспертов. Вместо этого они, казалось, существовали в альтернативной вселенной, в которой не проводятся опросы, отсутствует коллапс экономики, а президент Буш все еще более популярен, чем Маккейн, рейтинг которого стремительно падает.
Тем не менее я решил проверить, не был ли данный случай аномальным. Насколько вообще умеют предсказывать участники дискуссии McLaughlin Group — люди, получающие деньги за свои разговоры о политике?
Я оценил достоверность примерно 1000 прогнозов, сделанных в последней рубрике шоу как самим Маклафлином, так и участниками его передачи. Около четверти из них или были слишком расплывчатыми, что не позволяло их анализировать, или касались событий в отдаленном будущем. Все остальные я оценивал по пятибалльной шкале, варьировавшейся в диапазоне от абсолютно ошибочных до полностью точных.
С таким же успехом участники шоу могли бы подбрасывать монетку. 338 их прогнозов были неточными — либо полностью, либо в значительной степени. Точно такое же количество — 338 — оказалось верными полностью или в значительной степени (табл. 2.1).

Кроме этого, ни одного из участников дискуссии — даже Клифта с его точным прогнозом итогов выборов 2008 г. — нельзя было выделить как лучшего среди остальных. Я рассчитал для каждого участника показатель, отражавший долю их личных верных индивидуальных прогнозов. Наиболее часто принимающие участие в обсуждении — Клифт, Бьюкенен, покойный Тони Блэнкли и сам Маклафлин — получили почти одинаковую оценку от 49 до 52 %, что означало, что они могли с равным успехом дать как верный, так и неверный прогноз [7]. Иными словами, их политическое чутье оказалось на уровне любительского джазового квартета, состоящего из парикмахеров. <…>
Но что можно сказать о тех, кому платят за правильность и тщательность исследований, а не просто за количество высказываемых мнений? Можно ли считать, что качество прогнозов политологов или аналитиков из вашингтонских мозговых центров выше?
Действительно ли политологи лучше «экспертов»? Распад Советского Союза и некоторых других стран Восточного блока происходил невероятно высокими темпами и, учитывая все обстоятельства, довольно упорядоченным образом**.
12 июня 1987 г. Рональд Рейган, стоявший перед Бранденбургскими воротами, призвал Михаила Горбачева разрушить Берлинскую стену. И тогда его слова казались не менее дерзкими, чем обязательство Джона Ф. Кеннеди отправить человека на Луну. Рейган оказался лучшим пророком: стена рухнула менее чем через два года.
16 ноября 1988 г. парламент Республики Эстония, государства размером со штат Мэн, заявил о суверенитете Эстонии, то есть о ее независимости от всемогущего СССР. Менее чем через три года Горбачеву удалось отразить попытку переворота со стороны сторонников жесткой линии в Москве, а затем советский флаг был в последний раз спущен перед Кремлем; Эстония и другие советские республики вскоре стали независимыми государствами.
Если постфактум падение советской империи и кажется вполне предсказуемым, то предвидеть его не мог практически ни один ведущий политолог. Те немногие, кто говорил о возможности распада этого государства, подвергались насмешкам. Но если политологи не могли предсказать падение Советского Союза — возможно, самого важного события в истории конца XX в., — то какой вообще от них прок?
Филип Тэтлок, преподаватель психологии и политологии, работавший в то время в Калифорнийском университете в Беркли, задавал себе именно такие вопросы. В период распада СССР он организовал амбициозный и беспрецедентный проект. Начиная с 1987 г. Тэтлок принялся собирать прогнозы, сделанные обширной группой экспертов из научных кругов и правительства по широкому кругу вопросов внутренней политики, экономики и международных отношений.
Тэтлок обнаружил, что политическим экспертам было довольно сложно предвидеть развал СССР, поскольку для понимания происходившего в стране нужно было связать воедино различные наборы аргументов. Сами эти идеи и аргументы не содержали ничего особенно противоречивого, однако они исходили от представителей разных политических направлений, и ученые, бывшие сторонниками одного идеологического лагеря, вряд ли могли так легко пользоваться аргументацией оппонентов.
С одной стороны, непосредственно от Горбачева зависело довольно много, и его желание реформ было искренним. Если бы вместо того, чтобы заняться политикой, он предпочел стать бухгалтером или поэтом, то Советский Союз мог бы просуществовать еще несколько лет. Либералы симпатизировали Горбачеву. Консерваторы же мало верили ему, а некоторые из них считали его разговоры о гласности простым позерством.
С другой стороны, критика коммунизма консерваторами была скорее инстинктивной. Они раньше остальных поняли, что экономика СССР разваливается, а жизнь среднего гражданина становится все более сложной. Уже в 1990 г. ЦРУ рассчитало — причем неверно, — что ВВП Советского Союза примерно в два раза меньше, чем в США (в расчете на душу населения, что сопоставимо с уровнем демократических в настоящее время государств типа Южной Кореи и Португалии). Однако недавно проведенные исследования показали, что советская экономика, ослабленная длительной войной в Афганистане и невниманием центрального правительства к целому ряду социальных проблем, была примерно на 1 трлн долл. беднее, чем думало ЦРУ, и сворачивалась почти на 5 % в год с инфляцией, темпы которой описывались двузначными цифрами.
Если связать эти два фактора воедино, то коллапс Советского Союза было бы легко предвидеть. Обеспечив гласность прессы, открыв рынки и дав гражданам больше демократических прав, Горбачев, по сути, наделил их механизмом, катализирующим смену режима. А благодаря обветшавшему состоянию экономики страны люди с радостью воспользовались представленной возможностью. Центр оказался слишком слаб, чтобы удержать контроль, и дело было не в том, что эстонцы к тому времени устали от русских. Русские и сами устали от эстонцев, поскольку республики-сателлиты вносили в развитие советской экономики значительно меньше, чем получали из Москвы в виде субсидий.
Как только к концу 1989 г. в Восточной Европе начали сыпаться костяшки домино — Чехословакия, Польша, Румыния, Болгария, Венгрия и Восточная Германия, — Горбачев, да и кто-либо еще вряд ли смогли бы что-то сделать, чтобы предотвратить этот процесс. Многие советские ученые осознавали отдельные части проблемы, однако мало кто из экспертов мог собрать все кусочки головоломки воедино, и практически никто не был способен предсказать внезапный коллапс СССР. <…>
* В данном случае автор использует слово «pundit», которое переводится не только как «эксперт», «ученый», «аналитик», но и является ироническим обозначением «теоретиков», пытающихся научно объяснить события на финансовых рынках, в экономике.
** Из всех революций в Восточном блоке в 1989 г. лишь одна, в Румынии, привела к значительному кровопролитию.
Гузель Яхина. Зулейха открывает глаза
- Гузель Яхина. Зулейха открывает глаза. / Предисл. Л. Улицкой. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. — 508 c.
Роман «Зулейха открывает глаза» писательницы Гузели Яхиной начинается зимой 1930 года в глухой татарской деревне. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по извечному каторжному маршруту в Сибирь. Дремучие крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированный элемент и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши — все встретятся на берегах Ангары, ежедневно отстаивая у тайги и безжалостного государства свое право на жизнь. Всем раскулаченным и переселенным посвящается.
В дорогу
(фрагмент)
Хороша баба.
Игнатов едет в голове каравана. Временами останавливается и пропускает отряд вперед, пристально оглядывая каждого — и угрюмых кулаков в санях, и своих раскрасневшихся на морозе молодцов. Затем вновь обгоняет — любит скакать первым. Чтобы впереди — только широкий, зовущий простор и ветер.
На бабу старается не смотреть, чтобы не подумала лишнего. А как не посмотришь, если формы у ней такие, что сами в глаза прыгают?! Сидит как не на коне — на троне. При каждом шаге покачивается в седле, круто изгибая поясницу и подавая обтянутую белым тулупом грудь вперед, будто кивая и приговаривая: да, товарищ Игнатов, да, Ваня, да…
Он привстает на стременах, придирчиво рассматривая протекающий мимо караван из-под козырька ладони, — словно защищая глаза от солнца. На самом деле — прикрывая взгляд, который то и дело непослушно липнет к Настасье. Так ее зовут.
Сани плывут, громко скрипя по снегу. Изредка фыркают лошади, и у заиндевелых морд причудливыми цветами вырастают облачка пара.
Свирепого вида мужик с черной патлатой бородой правит кобылой зло и нервно. За его спиной — закутанная в платок по брови жена, в руках — по кульку-младенцу, и пестрая стайка ребятишек. «Убью!» — кричал мужик, когда пришли к нему в дом, с вилами кидался на Игнатова. Наставили винтовки на жену с детьми — одумался, охолонул. Нет, вилами Игнатова не возьмешь…
Пожилой мулла держит вожжи неумело, вывернув шерстяные рукавицы. Видно: за всю жизнь ничего тяжелее книги в руки не брал. Упругие завитки дорогой каракулевой шубы лоснятся на солнце. Такую шубу до места не довезешь, равнодушно думает Игнатов: снимут — или в распределительном пункте, или еще где в дороге. А нечего наряжаться — не на свадьбу едем… Жена муллы грузной печальной кучей сидит позади. В руках — изящная клетка, укутанная попонкой: любимую кошку с собой взяла. Дура.
Смотреть на следующие сани Игнатову неловко. Казалось бы: ну убил мужика, оставил бабу без мужа. Не раз уже бывало. Тот сам виноват — кинулся с топором как бешеный. Всего-то хотели поначалу дорогу спросить… Но Игнатова не отпускает какое-то противное, сосущее в животе чувство. Жалость? Больно уж мелкая эта баба, тонкая. И лицо бледное, нежное — словно бумажное. Ясно: дорогу не выдержит. С мужем, глядишь, пережила бы, а так… Получается, будто Игнатов не только мужа — и саму ее убил.
Кулачье жалеть начал. Докатился.
Мелкая баба, проезжая мимо, поднимает взгляд. Ох и зелены глазищи-то, мать моя!.. Конь бьет копытом, пританцовывает на месте. Игнатов поворачивается в седле, чтобы получше разглядеть — но сани уже миновали. На задке чернеет полоса — глубокая зарубка от топора, оставленная вчера Игнатовым.
Он смотрит на этот след, а затылком уже чувствует приближение рыжего лохматого коняги, к гриве которого то и дело склоняется пышная, рвущаяся из-под одежд грудь Настасьи, каждым своим движением кричащая на всю равнину: да, Ваня, да, да, да…
Он присмотрел эту Настасью еще на сборах.
Мобилизованные новобранцы обычно собирались утром во дворе, прямо под его окнами: два дня слушали агитационные речи и тренировались с винтовками, на третий — справку в зубы и вперед, в подчинение сотруднику для особых поручений органов ГПУ, на задание. А следующим утром во дворе уже новая партия. Много добровольцев приходило, всем хотелось к правому делу прислониться. Женщины тоже случались, хотя бабы почему-то больше в милицию записывались. И правильно, ГПУ — дело мужское, серьезное.
Взять Настасью, к примеру. Как пришла — вся работа во дворе встала. Новобранцы глаза на нее повыпучивали, шеи посворачивали, как цыплята дохлые, инструктора слушают вполуха. Тот и сам измаялся, вспотел весь, пока ей устройство винтовки объяснял (Игнатову из кабинета хорошо было видно). Кое-как выучили отряд, спровадили на работы, вздохнули с облегчением. А воспоминание о красивой бабе сладким холодком в животе — осталось.
Тем вечером Игнатов не пошел к Илоне. Вроде всем хороша девка — и не слишком молода (уже битая жизнью, не гордая), и не слишком стара (еще приятно смотреть), и телом вышла (подержаться есть за что), и в рот ему глядит, не налюбуется, и комната у нее в коммуналке большая, двенадцать метров. В общем, живи — не хочу. Она ему так и сказала: «Живите со мной, Иван!» А вот получается: не хочу!
Ворочаясь на жесткой общежитской койке, он слушал храп соседей по комнате и размышлял о жизни. Не подлость ли: думать о новой бабе, когда старая еще надеется, ждет его, небось, подушки взбивает? Нет, решил, не подлость. Чувства — они на то и даны, чтобы человек горел. Если нет чувств, ушли — что ж за угли-то держаться?
Игнатов никогда не был бабником. Статный, видный, идейный — женщины обычно сами приглядывались к нему, старались понравиться. Но он ни с кем сходиться не торопился и душой прикипать тоже. Всего-то и было у него этих баб за жизнь — стыдно признаться — по пальцам одной руки перечесть. Все как-то не до того. Записался в восемнадцатом в Красную армию — и поехало: сначала Гражданская, потом басмачей рубил в Средней Азии… До сих пор бы, наверное, по горам шашкой махал, если бы не Бакиев. Он к тому времени в Казани уже большим человеком стал, из долговязого рыжего Мишки превратился в степенного Тохтамыша Мурадовича с солидным бритым черепом и золотым пенсне в нагрудном кармане. Он-то Игнатова и вернул в родную Татарию. Возвращайся, говорит, Ваня, мне свои люди позарез нужны, без тебя — никак. Знал, хитрец, чем взять. Игнатов и купился — примчался домой выручать друга.
Так началась его работа в Казанском ГПУ. Не сказать, чтобы интересная (так, бумажки всякие, собрания, то да се), но что уж теперь вздыхать… Скоро познакомился с машинисткой из конторы на Большой Проломной. У нее были полные покатые плечи и печальное имя — Илона. Только сейчас, в полные тридцать, Игнатов впервые познал радость долгого общения с одним человеком — он захаживал к Илоне уже целых четыре месяца. Не то что влюблен был, нет. Приятно с ней было, мягко — это да. А чтобы любить…
Игнатов не понимал, как можно любить женщину. Любить можно великие вещи: революцию, партию, свою страну. А женщину? Да как вообще можно одним и тем же словом выражать свое отношение к таким разным величинам — словно класть на две чаши весов какую-то бабу и Революцию? Глупость какая-то получается. Даже и Настасья — манкая, звонкая, но ведь все одно — баба. Побыть с ней ночь, две, от силы полгода, потешить свое мужское — и все, довольно. Какая уж это любовь. Так, чувства, костер эмоций. Горит — приятно, перегорит — сдунешь пепел и дальше живешь. Поэтому Игнатов не употреблял в речи слово любить — не осквернял.
Утром вдруг вызывает Бакиев. Дождался, говорит, ты, друг Ваня, настоящего задания. Поедешь в деревню с врагами революции воевать, их там еще много осталось. У Игнатова аж сердце захолонуло от радости: опять на коня, опять в бой! В подчинение дали ему пару красноармейцев и отряд мобилизованных. А среди них — в белом тулупе да на рыжем коне — она, она, родимая… Судьба их сводит, не иначе.
Перед отъездом заскочил к Илоне, попрощался сухо. Та, чувствуя холод в его глазах, сразу в слезы: «Вы меня не любите, Иван?» Он рассердился, аж зубами скрипнул: «Любят — мамки детей!» — и вон от нее. А она ему вслед: «Я буду ждать вас, Иван, слышите! Ждать!» Театр устроила, одним словом.
То ли дело — Настасья. Эта не будет заламывать руки и вздыхать. Эта знает, для чего мужикам бабы нужны, а бабам — мужики…
Вот она проезжает мимо: улыбается широко, не стыдясь, глядит прямо в глаза. Острыми зубками стягивает с пухлой ладони рукавицу, треплет нежными пальцами гриву коня, перебирает пряди. Ласкает.
Игнатов чувствует, как внезапные горячие мурашки бегут от затылка к шее и ниже, за шиворот, стекают по позвоночнику. Отводит взгляд, хмурится: не годится красноармейцу на посту о бабах думать. Никуда она от него не денется. И пришпоривает коня, скачет в начало каравана.
* * *
Ехали долго. Видели хвосты других караванов, так же медленно и неумолимо тянувшихся по бескрайним холмам когда-то Казанской губернии, а теперь Красной Татарии, к столице — белокаменной Казани. Кому-то, видно, маячил и их хвост, но Игнатов этого не знал — назад смотреть не любил. Изредка проезжали через деревни, и деревенские выносили из домов хлеб, совали в руки понуро сидевшим в санях раскулаченным. Он не запрещал: пусть себе, меньше казенных харчей в Казани съедят.
Остался позади очередной холм (Игнатов уже сбился их считать, бросил). Вдруг — в монотонном скрипе полозьев — громкий крик чернявого Прокопенко: «Товарищ Игнатов! Сюда!»
Игнатов поворачивается: ровная лента каравана разорвана посередине, словно ножом разрезана. Передняя часть продолжает медленно двигаться вперед, а задняя стоит. Темные фигурки конных суетятся в месте разрыва, нервно гарцуют, машут руками.
Подъезжает ближе. Вот она, причина, — сани мелкой бабенки с зелеными глазищами. Впряженная в них лошадь стоит, низко опустив голову, а под брюхом у нее пристроился жеребенок: торопливо сосет материнское вымя, постанывает — проголодался. Задним не проехать — дорога узка, в одни сани.
— Кобыла бастует, — растерянно жалуется Прокопенко, сводит домиком черные брови. — Я уж ее и так, и сяк…
Старательно тянет лошадь за уздцы, но та встряхивает гривой, отфыркивается — не хочет идти.
— Ждать надо, пока не накормит, — тихо говорит женщина в санях.
Вожжи лежат у нее на коленях.
— Ждут мужа домой, — жестко отвечает Игнатов. — А нам — ехать.
Спрыгивает на землю. Достает из кармана шинели припасенные для своего коня хлебные корки, пересыпанные камешками крупной серой соли, сует упрямой лошади. Та шлепает черными блестящими губами — ест. То-то же, смотри у меня… Он гладит длинную, поросшую жесткими серыми волосами морду.
— Ласка — она и лошадь берет, — подъехавшая Настасья широко улыбается, собирая в ямочки полукружия щек.
Игнатов тянет за уздечку: давай, милая. Лошадь дожевывает последнюю корку и строптиво опускает голову к земле: не пойду.
— Ее сейчас не сдвинешь, — подает голос молчаливый Славутский и задумчиво трет длинную нитку шрама на лице. — Пока не накормит — не пойдет.
— Не пойдет, значит… — Игнатов тянет сильнее, затем резко дергает уздечку.
Лошадь жалобно ржет, показывая кривые желтые зубы, бьет копытом. Жеребенок торопливо сосет вымя, кося на Игнатова темными сливами глаз. Игнатов размахивается и наотмашь бьет кобылу ладонью по крупу: пшла! Та ржет громче, мотает головой, стоит. Еще раз по крупу: пшла, говорю! пшла, лешего за ногу! Стоящие рядом кони волнуются, подают настороженные голоса, встают на дыбы.
— Не пойдет, — упрямо повторяет Славутский. — Хоть до смерти забей. Тут такое дело — мать…
Вот заладил, офицерская морда. Десять лет как в Красную армию переметнулся, а образ мыслей все еще не наш, не советский.
— Придется уступить кобыле, а, товарищ Игнатов? — Настасья поднимает бровь, оглаживает шею своего коня, успокаивая.
Игнатов хватает жеребенка сзади за круп и тянет, пытаясь оторвать от вымени. Тот дрыгает ногами, как саранча, и проскакивает у лошади под брюхом — на другую сторону. Игнатов валится спиной в сугроб — жеребенок продолжает есть. Настасья заливисто хохочет, ложась грудью на лохматую холку своего коняги. Славутский смущенно отворачивается.
Игнатов, чертыхаясь, поднимается на ноги, отряхивает снег со шлема, с шинели, с шаровар. Взмахивает рукой ушедшим вперед саням:
— Сто-о-ой!
И вот уже конные скачут вдогонку голове отряда: сто-о-ой! До команды — отдыха-а-ай!
Игнатов снимает буденовку, вытирает раскрасневшееся лицо, зыркает на Зулейху сердито.
— Даже кобылы у вас — сплошная контрреволюция! Караван отдыхает, дожидаясь, пока полуторамесячный жеребенок напьется материнского молока.
* * *
Когда на поля упал густо-синий вечер, до Казани еще оставалось полдня ходу. Пришлось заночевать в соседнем кантоне.
Местный председатель сельсовета Денисов — коренастый мужик с крепкой походкой опытного моряка — принял их тепло, даже радушно.
— Гостиницу вам организую — по высшему разряду. «Астория»! Да что там, бери выше — «Англетер»! — пообещал он, щедро обнажая в улыбке крупные зубы.
И вот уже — бараны оглушительно блеют, толкаются, вскакивают друг на друга, тряся вислыми ушами и лягаясь тонкими черными ногами. Денисов, растопырив ладони, сгоняет всех в загон — за длинную ситцевую занавеску, разделяющую пространство на две половины. Последний юркий ягненок все еще носится, дробно стуча копытцами, по деревянному полу. Председатель хватает наконец его за кучерявую шкирку и швыряет к остальным; довольно озирается, пинает сапогом пахучие бараньи катышки, гостеприимно распахивает руки (в проеме ворота сверкают полоски тельняшки):
— А я что говорил?!
Игнатов задирает голову — осматривается. Яркий свет керосинки освещает высокий деревянный потолок. Длинные узкие окна — хороводом по круглому куполу. На темных, смолой запекшихся стенах — мелкие волны полустершихся арабских надписей. Пещерами зияют ниши, в которых едва заметными светлыми квадратами мерцают следы от недавно снятых ляухэ.
Сначала Игнатов не хотел ночевать в бывшей мечети — ну его к лешему, этот очаг мракобесия. А теперь вот думается: и правда, почему бы и нет? Молодец Денисов, соображает. Что зданию зря простаивать?
— Места всем хватит, — продолжает нахваливать председатель, задергивая пеструю чаршау. — Баранам на женской половине, людям — на мужской. Пережиток, конечно. Но удобно — факт! Хотели сначала убрать занавеску, а потом решили оставить. У нас тут, считай, что ни вечер — то гости.
Мечеть передали колхозу недавно. Даже острый запах бараньего навоза не мог перебить ее особого, еще сохранившегося по углам аромата — не то старых ковров, не то запыленных книг.
У входа сгрудились озябшие переселенцы, испуганно пялятся на занавеску, за которой все еще ревут и толкаются бараны.
— Располагайтесь, граждане раскулаченные, — Денисов открывает заслонку печи, подкидывает несколько поленьев. — У меня колхозницы тоже поначалу боялись на мужскую половину заходить, — заговорщически шепчет Игнатову. — Грех, говорят. А потом ничего — привыкли.
Мулла в каракуле первым входит в мечеть. Идет к высокой нише михраба, встает на колени. Несколько мужчин проходят следом. Женщины по-прежнему толпятся у порога.
— Гражданочки! — весело кричит председатель от печки, и золотые блестки огня сверкают в его темных зрачках. — Вот бараны — не боятся. Берите пример с них.
Из-за занавески несется в ответ пронзительное блеяние.
Мулла встает с колен. Поворачивается к переселенцам и делает ладонями приглашающий знак. Люди несмело входят, рассыпаются вдоль стен.
Прокопенко, присев у груды хлама в углу, раскопал там книгу и ковыряет ногтем красивый матерчатый переплет, украшенный металлическими узорами, — к знаниям тянется.
— Книги прошу не брать, — замечает председатель. — Уж больно для растопки хороши.
— Ничего не тронем, — Игнатов сурово смотрит на Прокопенко, и тот бросает книгу обратно в кучу, равнодушно дергает плечом: не больно-то и хотелось.
— Слышь, уполномоченный, — Денисов поворачивается к Игнатову, — а солдатики твои барашка на ужин не уведут? У меня что ни караван с раскулаченными, так утром — недостача. За январь-то уже полстада — тю! Факт.
— Колхозное добро! Как можно?!
— Ну ладно… — Денисов улыбается и шутливо грозит Игнатову крепким узловатым пальцем в черных пятнах мозолей. — А то ведь порой за всем и не усмотришь…
Игнатов успокаивающе хлопает Денисова по плечу: не дрейфь, товарищ! Надо же: бывший питерский моряк (балтиец!) и ленинградский рабочий (ударник!), теперь вот двадцатипятитысячник (романтик!) приехал по зову партии поднимать советскую деревню, — словом, наш человек по всем статьям — а так плохо думать о своих…
Настасья тягучим, ленивым шагом идет по мечети, разглядывая жмущихся по углам переселенцев. Стягивает с головы лохматую папаху, и тяжелая пшеничная коса льется по спине к ногам. Женщины охают (в мечети, при мужчинах, при живом мулле — с непокрытой головой!), зажимают ладонями глаза ребятишкам. Настасья подходит к разжарившейся печи и забрасывает на нее тулуп. Складки на гимнастерке тугими струнами тянутся от высоко стоящей груди под широкий ремень, схваченный на поясе так крепко, что кажется, вот-вот — зазвенит и лопнет.
— Здесь детей положим, — говорит Игнатов, не глядя на нее. «Опять жалею?» — подумалось зло. Тут же успокоил себя: хоть и кулацкие, а все ж — дети.
— Ой замерзну, — весело вздыхает та и забирает тулуп.
— Давай-ка я тебе сена организую, раскрасавица, — подмигивает ей Денисов.
Ребятня, с возней и сдавленными криками, кое-как размещается на широкой печи: кто сверху, кто рядом. Матери ложатся на полу вокруг, широким плотным кольцом. Остальные ищут себе местечки вдоль стен — на завалявшейся в углу ветоши, на обломках книжных шкафов и лавок.
Зулейха находит полуобгоревший ошметок ковра и устраивается на нем, привалившись спиной к стене. Мысли в голове до сих пор — тяжелые, неповоротливые, как хлебное тесто. Глаза — видят, но будто сквозь завесу. Уши — слышат, но как издалека. Тело — двигается, дышит, но словно не свое.
Весь день она думала о том, что предсказание Упырихи сбылось. Но — каким страшным образом! Три огненных фэрэштэ — три красноордынца — увезли ее с мужниного двора в колеснице, а старуха осталась со своим обожаемым сыном в доме. То, чему Упыриха так радовалась и чего так хотела, свершилось. Догадается ли Мансурка похоронить Муртазу рядом с дочерьми? А Упыриху? В том, что старуха после смерти сына долго не протянет, Зулейха не сомневалась. Аллах Всемогущий, на все твоя воля.
Впервые в жизни она сидит в мечети, да еще на главной — мужской — половине, недалеко от михраба. Видно, и на это есть воля Всевышнего.
Мужья пускали женщин в мечеть неохотно, лишь по большим праздникам: на Уразу и на Курбан. Муртаза каждую пятницу, крепко попарившись в бане, румяный, с тщательно расчесанной бородой, спешил в юлбашскую мечеть на большой намаз, положив на выбритый до розового блеска череп зеленый бархатный тюбетей. Женская половина — в углу мечети, за плотной чаршау — по пятницам обычно пустовала. Мулла-хазрэт наказывал мужьям передавать содержание пятничных бесед оставшимся дома на хозяйстве женам, чтобы те не сбивались с пути и укреплялись в истинной вере. Муртаза послушно выполнял наказ: придя домой и усевшись на сяке, дожидался, пока на женской половине стихнет шорох мукомолки или лязганье посуды, и бросал через занавеску свое неизменное: «Был в мечети. Видел муллу». Зулейха каждую пятницу ждала эту фразу, ведь она означала гораздо больше, чем ее отдельные слова: все в этом мире идет своим чередом, порядок вещей — незыблем. <…>
Роман Сенчин. Зона затопления
- Роман Сенчин. Зона затопления. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. — 381 с.
Новое произведение Романа Сенчина — остросоциальная вещь, вступающая в диалог с известной повестью Валентина Распутина «Прощание с Матерой». Жителей старинной сибирской деревни в спешном порядке переселяют в город — на этом месте будет строиться Богучанская ГЭС. Книга наполнена яркими историями людей — среди них и потомственные крестьяне, и высланные в сталинские времена, обретшие здесь малую родину, — не верят, протестуют, смиряются, бунтуют. Два мира: уходящая под воду
Атлантида народной жизни и бездушная машина новой бюрократии…ИДЕТ ВОДА
Игнатия Андреевича Улаева называли в родной деревне Молоточком. Слышалась в этом прозвище насмешка над его прямо страстью вечно всё перестраивать, ремонтировать. Забор подновлял два раза
в год — осенью и весной, крыши стаек, дровяника
перекрывал бесперечь, настил во дворе при первом
намеке на то, что одна плаха затрухлявела или просто не так плотно прилегает к другим, начинал перебирать. Даже ящики для куричьих гнезд и собачью
будку не оставлял Молоточек в покое.Жена, пока жива была, ругалась: «Уймись ты, долбила! В мозгу уже эти гвозди твои!» Соседей тоже
раздражал стук и стук с утра до ночи.Теперь у Игнатия Андреевича молотка не было.
Вообще квартира стояла почти пустая — лишь самое
необходимое, чтоб поесть, поспать, посидеть перед
телевизором.Хотя привез из деревни много чего. Всю квартиру
забил до отказа. Из прихожей расходились узенькие
тропинки в комнату, кухню, туалет. А вокруг мешки,
коробки, углы разобранной мебели, коврики, половики, даже струганые доски на всякий случай.Приезжала дочь из Ачинска, попыталась разобрать, распределить; Игнатий Андреевич махнул рукой: «Сам потом».
Больше года прожил так, все собираясь, а потом
понес на улицу. Удивился, увидев возле контейнеров
целые горы коробок, тряпок, полок, железок. По привычке подбирать нужное стал было в этих горах копаться. Опомнился, отдернул руки, заматерился.Через пару дней встретил в магазине своего земляка Виктора Плотова, бывшего учителя труда, сказал ему, что выкинул многое из того, что привез, чем
там, в деревне, дорожил.— Да мы тоже избавились, — ответил Виктор
скорбно. — Куда тут девать? А давило так, моя аж задыхаться стала.— Во-во! И я. Спать не мог… К чему мне теперь уж
барахло это?..Жил Игнатий Андреевич один. Побоялся уезжать
далеко от родины к кому-нибудь из детей.— Седьмой десяток добиваю. Докряхчу тут уж.
Хоть кого знакомых буду видеть. А чего мне в Ачинске или Бердске каком-то?Вскоре, правда, ему пришлось пожалеть, что так
круто обошелся с вещами: зимой в гости зачастили
мужики-односельчане, а усадить всех — собиралось
иногда человек семь-десять — было некуда. Пришлось
идти в магазин мебели, купить несколько табуреток.Выпивали редко, в основном под чай и сигареты
вспоминали прошлое, делились новостями и слухами, известиями, что там и как теперь на месте их деревни Пылёво.— Сын плавал тут перед шугой — вода до школы
дошла, — сообщал старик Мерзляков, и собравшиеся
несколько минут молча представляли место, где была
школа, расстояние и высоту до того, прежнего, берега.— Высоко-о, — вздыхал за всех кто-нибудь.
— А, это, там ведь памятник фронтовикам стоял, —
вспоминал другой. — Не слыхал, его-то забрали?— Забрали-забрали. Теперь все такие памятники
на кладбище стоят. Рядком.— М-м, ну ладно…
Но обязательно появлялся и несогласный с «ладно»:
— Не на кладбище таким памятникам место, а на
площадях центральных, возле школ. Это символ,
чтоб ребята видели, помнили.— Здесь, в городе-то, столько площадей не наберешься — со всех деревень расставить.
— Ну да…
Курили, вздыхали.
— И сколько деревень затопило, получается?
— Ну давай считать.
И с горьким каким-то удовольствием перечисляли названия не существующих больше сел и деревень:
— Кутай, Пылёво наше, Сергушкино…
— Сергушкино-то при чем? Оно стоит. До него
никакой потоп не доберется.— Избы стоят, а людей убрали. Техники там! Всё,
что насобирали по окрестью, — туда. Барж на десять
хватит загрузить железом.— Ну, мы не про это счас… В общем, Сергушкино
тоже считаем…— Проклово, Большаково.
— Усово…
— Красивая деревенька была.
— Да, маленькая, но как игрушка.
— Немцы строили, чего ж…
— Не немцы, а литовцы.
— Ну, разницы-то…
— Косой Бык, Селенгино, — упорно продолжал тот, кто предложил сосчитать.
Но его снова перебивали:
— Селенгино уж давно пустым стояло.
— По бумагам-то было. Да и дома оставались…
— Костючиха там до последнего жила. Старуха такая — ух! Всех гоняла…
— Померла.
— Да ты что! Не слыхал…
— Буквально перевезли ее, и через месяц… Теперь
какой-то суд с роднёй.— А чего?
— Ну, квартира не в собственности была, поэтому
город, или кто там, не отдает родне… Ну, там черт ногу сломит разбираться.— Мозги.
— А?
— Мозги сломит.
— Мозги-то мы себе здорово повывихивали. До сих пор как в чаду.
— Эт точно.
— Эх-х…
— А с Таежным как? Неужели оставят?
— Часть расселили, но в основном стоит.
— Там так — у кого изба на суше, а огород — на дне. Кочегарка на самой кромке — метров десять буквально от воды…
— Вроде, слышал, дамбу какую-то мощную сыплют. Важный, говорят, поселок, нельзя терять.
— Ну дак, федеральная трасса через его проходит.
— И чего? Дорога дорогой, а людей-то зачем там
держать? Они вообще там в панике — каждый день
ждут, что затопит. Тем более сейчас, зимой…— Может, хе, деньги кончились — переселять. Разорились на нас.
— Они разорятся…
— Вон и Путин на пуск гидры не приехал. Из Москвы руководил. Сэкономил.
— Приехал бы, порыбачил заодно.
— Да чё ему у нас… Его Шойгу на рыбалку в такие
места возит!.. А мы… в говно превратили реку…Приходил к Игнатию Андреевичу и Алексей Брюханов. После долгой непонятной болезни он похудел, потускнел… В первое время, выписавшись, пытался добиваться правды — что же все-таки это у него за язвы на руках (они, черноватые, то исчезали, то
появлялись снова, гноились), но заметил: чем громче
добивается, тем сильнее сторонятся его окружающие, — мало ли, действительно, чем заражен, — и
бросил. Принимал рекомендованные лекарства, они
вроде бы помогали.В основном помалкивал, усмехался горьким шуткам и острым словам земляков. А потом стал приносить листочки.
— Дочери купил компьютер и сам в него лазить
наладился. В Интернет. Много там всего… Для чего раньше надо было целую библиотеку перелопатить, теперь за пять минут найти можно. Там и про
наши места много чего. Могу почитать. Записал
кое-что.— Давай-давай, Леш, хоть узнаем.
Брюханов кашлянул, объяснил:
— Это путешественник, еще до Петра Первого,
семнадцатый век… Не путешественник то есть, а посол. В Китай ехал и к нам забрался. Дневник вел…
И вот он пишет, короче: «На левой стороне деревня
Кутай, от острова Варатаева две версты. На той же
стороне речка Кутай. А на той речке поставлена мельница, и сбирают на Великого Государя…»— Погоди, — остановил Брюханова Геннадий,
бывший тракторист, а теперь грузчик в торговом
центре. — Погоди, почему на левой стороне? Кутай
же на правой был.— Может, раньше на левой, — заикнулся Игнатий
Андреевич, — три века назад-то…— Ну а речка тоже место поменяла?
— Леха неправильно списал, видать.
Невесело посмеялись.
— Я думаю, это он относительно себя определял, — предположил Брюханов. — Он же вверх плыл.
И от него, значит, слева.— Гм… видимо… Чего там дальше?
— «А как идешь от деревни Кутая, и от того места
идут всё острова, и другого берега не видать».— Угу, угу, значит, точно вверх шел. Островов выше Кутая полно.
— «На той же стороне деревня Огородникова, от
речки Кутая пять верст. На той же стороне деревня
Кромилова, а под деревнею речка Мамырь, от деревни Огородной четыре версты. На правой стороне деревня Софронова…»— А что это за Мамырь? — нахмурился, вспоминая, Игнатий Андреевич. — Под Братском, знаю, Мамырь есть, село… Это он уже в Иркутскую область,
что ли, уплыл?— Да вряд ли… Да мало ли Мамырей? У иркутов
и поселок Кутайский тоже есть. Тоже недалеко от
Братска.— Да?.. То-то с нами не церемонились — одним
Кутаем больше, одним меньше… Москву бы не стали
топить…— Хе-хе, эт ты к месту сказанул. Про Москву.
С минуту молчали, представляя, что вот появилась идея перегородить Москву-реку, построить на
ней ГЭС. И началось расселение москвичей по России…— А Пылёво-то, — не выдержал Виктор Плотов, —
Пылёво наше там хоть упоминается?Брюханов мотнул головой:
— У этого — нет. Дальше будет… А здесь вот что
интересно: оказывается, столько деревень стояли
между Кутаем и Усть-Илимском. Тут названий двадцать. — Глянул в бумагу: — Софронова, Суворова,
Смородникова… И вот, кстати: «Против той деревни
Смородникова искали жемчуг. И в тех местах жемчугу сыскали небольшое, и велми мелок. Только сыскали одно в гороховое зерно грецкое».Это сообщение вызвало долгий спор. Одни удивлялись и не верили, что в их реке могут обитать жемчужницы, другие уверяли, чуть не божились, что видели не только эти раковины, но и мелкие жемчужины в них.
— Ну, я даже и не додумался, что это жемчужина, — говорил Женька Глухих. — Думал, песчинка
такая крупная. Мало ли…Ему не то чтобы верили, но опасались объявлять,
что врет, — именно Женька, выпивоха и шалопай,
никчемный мужичок, притащил несколько лет назад
в деревню осетра на сорок килограммов…— А вот здесь про Пылёва, — продолжал Брюханов, — который, наверно, и деревню поставил. Или
сын его… «Вверх по реке деревня Кутайская, а в ней
пашенные крестьяне: Дёмка Привалихин, Васька
Пылёв, Ивашко да Лучко да Климко Савины».— Привалихин, — вздохнул Виктор. — Сколько
всего случилось за триста лет с лишним, а фамилия
сохранилась. Не фамилия даже — род!— Ну, в документах куча фамилий знакомых. Заборцевы, Рукосуевы, Сизыхи, Верхотуровы, Саватеевы, Усовы. Моих предков полно — Брюхановых.
— Да-а, веками держались. А вот взяли их… нас всех и — смыли.
Эрик Сати. Заметки млекопитающего
- Эрик Сати. Заметки млекопитающего / Пер. с фр. В. Кислова. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2015. — 416 с.
В книгу «Заметки млекопитающего» вошли избранные прозаические отрывки и наброски, притчи и скетчи, «мысли и афоризмы», критические отзывы и эстетические воззвания, письма и эпистолы Эрика Сати (1866–1925), первого современного композитора, вдохновителя группы «Шести», изобретателя «меблировочной музыки», абсурдиста и фантазера, который «пришел слишком юным в мир слишком старый».
ВОСПОМИНАНИЯ СКЛЕРОТИКА
(ФРАГМЕНТЫ)Кто я такой Кто угодно вам скажет, что я не музыкант. Это правда.
Еще в начале карьеры я сразу же записал себя в разряд фонометрографов. Все мои работы — чистейшей воды фонометрия. Если послушать «Звездного сына» или «Пьесы в форме груши», «В лошадиной шкуре» или «Сарабанды», сразу становится понятно, что при создании этих произведений я не руководствовался никакими музыкальными идеями. В них господствует только научная мысль.
К тому же мне приятнее измерять звук, нежели в него вслушиваться. С фонометром в руке я работаю радостно & уверенно.
И что я только не взвешивал и не измерял? Всего Бетховена, всего Верди и т. д. Весьма любопытно.
Впервые я применил фоноскоп для того, чтобы изучить си бемоль средней толщины. Смею вас заверить: в жизни не видел ничего более омерзительного. Я даже позвал слугу, чтобы и он посмотрел.
На фоновесах обычный, вполне заурядный фа диез потянул на 93 килограмма. Его издавал взвешенный мною очень жирный тенор.
Знаете ли вы, что такое очистка звука? Дело грязное. Операция по растяжке намного чище. Классификация — весьма кропотливое занятие, требующее хорошего зрения. Здесь мы уклонились в фонотехнику.
Что касается звуковых, часто столь неприятных взрывов, их силу можно надлежащим образом смягчить, — правда, в индивидуальном порядке — если заткнуть уши ватой. Здесь мы уклонились в пирофонию.
При сочинении «Холодных пьес» я использовал записывающий калейдофон. На это у меня ушло семь минут. Я даже позвал слугу, чтобы и он послушал.
Позволю себе заявить, что фонология выше музыки. Она разнообразнее. И в денежном отношении выгоднее. Своим состоянием я обязан именно ей.
Во всяком случае, средненатренированный фонометрист может легко извлечь на своем мотодинамофоне намного больше звуков, нежели самый искусный музыкант. А времени и сил потратит на это столько же. Вот почему я так много написал.
Итак, будущее — за филофонией.
Совершенное окружение Жить среди прославленных произведений Искусства — одна из самых великих радостей, данных нам в ощущении. Из всех бесценных памятников человеческой мысли, которые я, учитывая свой скромный достаток, избрал себе в спутники жизни, прежде всего заслуживает описания великолепный фальшивый Рембрандт, выполненный масштабно и проникновенно, как раз для поедания глазами — как внушительный зеленющий фрукт.
В моем рабочем кабинете вы можете увидеть еще один уникальный предмет для восхищения: бесспорно изыскан ный и красивейший «Портрет, приписываемый Неизвестно кому».
Я еще не рассказывал вам об утонченной подделке Тенирса? Это также восхитительная и редчайшая в своем роде вещица.
Мои сокровища в оправе из твердой древесины — божественны. Не правда ли?
Но что превосходит все эти искусные произведения, подавляя их тяжестью гениального величия, затмевая своим ослепительным светом? Фальшивая рукопись Бетховена — великолепная апокрифическая симфония мастера, — благоговейно приобретенная мною лет, наверное, десять назад.
Среди всех произведений титанического музыканта эта еще неизвестная десятая симфония — одна из самых пышных. Пропорции просторные, как дворцовые залы; идеи тенистые и прохладные, аранжировки точные и правильные.
Эта симфония должна была существовать непременно: «девять» — совершенно не бетховенское число. Он любил десятеричную систему. «У меня же десять пальцев», — объяснял композитор.
Придя внимать этому шедевру своими отрочески сосредоточенными и мечтательными ушами, некоторые совершенно безосновательно посчитали, что он ниже бетховенского дарования, о чем не преминули высказаться. И даже зашли еще дальше в своих оценках.
В любом случае, Бетховен не может быть ниже себя самого. Его техника и форма остаются знаменательными и возвышающими, даже в неимоверно малом. Упрощение к нему неприменимо. Бетховена не может смутить ничто, даже если ему, как художнику, припишут подделку.
Неужели вы полагаете, что какой-нибудь прославленный атлет, чья сила и ловкость уже давно получили публичное триумфальное признание, унизит себя тем, что понесет скромный букетик из тюльпанов и веток жасмина? Насколько он умалит свое достоинство, если нести этот букет ему поможет ребенок?
Что вы на это можете возразить?
Три кандидатуры меня одного Более удачливый, чем я, Гюстав Шарпантье — член Института Франции. На правах давнего приятеля позволю себе прямо здесь почтить его нежным рукоплесканием.
Я трижды выдвигался кандидатом в Изысканное Собрание, претендуя на кресло Эрнеста Гиро, кресло Шарля Гуно и кресло Амбруаза Тома.
Совершенно безосновательно мне были предпочтены гг. Паладиль, Дюбуа & Лёневё.
И это меня сильно огорчило.
Не будучи слишком наблюдательным, я все же отметил, что Драгоценные Члены Академии Изящных Искусств проявили по отношению к моей персоне настырную пристрастность, предвзятость, граничащую с явной предумышленностью.
И это меня сильно огорчило.
Когда выбирали г-на Паладиля, друзья говорили мне: «Мэтр, не противьтесь. Потом он проголосует за вас. Его поддержка будет обладать бóльшим весом». Я не получил ни его голоса, ни его поддержки, ни его веса.
И это меня сильно огорчило.
Когда выбирали г-на Дюбуа, друзья говорили мне: «Мэтр, не противьтесь. Потом они вдвоем проголосуют за вас. Их поддержка будет обладать бóльшим весом». Я не получил ни их голосов, ни их поддержки, ни их веса.
И это меня сильно огорчило.
Я самоустранился. Г-н Лёневё посчитал вполне приличным занять причитающееся мне место и не испытал при этом никакой неловкости. Он хладнокровно уселся в мое кресло.
И это меня сильно огорчило.
С непреходящей грустью буду вспоминать г-на Эмиля Пессара, моего старого Соратника и Сопретендента. Я неоднократно имел возможность убедиться в том, что он действует неправильно, весьма неловко и совершенно бесхитростно. Он не в курсе, причем так, что всем очевидно, что он не в курсе. Несчастный господин! Как ему будет трудно втереться, проникнуть в лоно, которое к нему столь нелюбезно, неприветливо, негостеприимно! Вот уже двадцать лет я вижу, как он тыкается в сие неблагодарное, ожесточенное, угрюмое место вожделения, а ушлые господа из Дворца Мазарини удивленно взирают и поражаются его бессильному упорству и жалкой немощи.
И это меня сильно огорчает.
Театральные штучки Я уже давно подумывал написать лирическую драму с таким вот необычным сюжетом:
Я — алхимик.
Как-то в полном одиночестве отдыхаю у себя в лаборатории. За окном — мрачное тускло-свинцовое небо: какой ужас!
Я грустен, не зная почему; почти испуган, не понимая отчего. Ради развлечения решаю медленно посчитать на пальцах от одного до двухсот шестидесяти тысяч.
Считаю. И еще больше печалюсь. Встаю, беру волшебный орех и бережно кладу его в шкатулку из кости альпака, инкрустированную семью бриллиантами.
И тотчас чучело птицы взлетает, скелет обезьяны убегает, кожа свиньи лезет на стену. Ночь скрывает предметы и размывает формы.
Вдруг кто-то стучится в дальнюю дверь, возле которой хранятся мидийские талисманы, проданные мне одним полинезийским одержимым.
Кто это? Господи! Не оставляй раба своего. Он, конечно, грешил, но раскаялся. Прости его, прошу тебя!
Тут дверь приоткрывается, открывается и раскрывается, как глаз: входит, проходит и подходит какое-то бесформенное и безмолвное существо. Моя оторопевшая плоть исходит холодным потом. В горле все пересыхает и высыхает.
Во мраке возносится голос:
— Сударь, кажется, у меня дар прозрения. Голос незнакомый. А существо вновь произносит:
— Сударь, это я. Это ведь я.
— Кто «я»? — в ужасе кричу я.
— Я, ваш слуга. Кажется, у меня дар прозрения. Вы ведь бережно положили волшебный орех в шкатулку из кости альпака, инкрустированную семью бриллиантами?
— Да, друг мой, — ошарашенно лепечу я. — А как вы узнали?
Он приближается ко мне, ускользая от взгляда, сумрачный, черный в кромешной тьме. Я чувствую, как он дрожит. Наверняка боится, что я выстрелю в него из ружья.
И, икая, как малое дитя, слуга шепчет:
— Я вас прозрел в замочную скважину.
Распорядок дня музыканта Художник должен упорядочить свою жизнь.
Вот точное расписание моих занятий на день:
Подъем: в 7 ч. 18 мин.; вдохновение: с 10 ч. 23 мин. до 11 ч. 47 мин. Обедаю в 12 ч. 11 мин. и встаю из-за стола в 12 ч. 14 мин. Спасительная прогулка верхом в глубине моего парка: с 13 ч. 19 мин. до 14 ч. 53 мин. Очередной приступ вдохновения: с 15 ч. 12 мин. до 16 ч. 07 мин. Различные занятия — фехтование, размышления, замирание, посещения, созерцание, разработка ловкости рук, плавание и т. д.: с 16 ч. 21 мин. до 18 ч. 47 мин. Ужин накрывается в 19 ч. 16 мин. И заканчивается в 19 ч. 20 мин. Затем следуют симфонические чтения вслух: с 20 ч. 09 мин. до 21 ч. 59 мин. Обычно мой отход ко сну происходит в 22 ч. 37 мин.
Раз в неделю — внезапное пробуждение в 3 ч. 19 мин. (по вторникам).
Я ем исключительно белую пищу: яйца, сахар, тертые кости; сало мертвых животных; телятину, соль, кокосовые орехи, курицу, сваренную в свинцовом сахаре; плесень фруктов, рис, репу; камфорную колбасу, лапшу, сыр (белый), ватный салат и некоторые виды рыб (без шкурки). Пью кипяченое и остуженное вино, разбавляя его соком фуксии. У меня хороший аппетит; но я никогда не разговариваю во время еды из боязни подавиться.
Дышу я аккуратно (каждый раз понемногу).
Танцую редко. Во время ходьбы держусь за бока и пристально смотрю назад.
У меня очень серьезный вид, и если я смеюсь, то делаю это нечаянно. За что извиняюсь всегда и искренне.
Сплю только одним глазком; сон мой весьма крепок. Кровать у меня круглая с дыркой для головы. Каждый час появляется слуга с градусником; он забирает мою температуру и оставляет мне чужую.
Я уже давно выписываю журнал мод. Ношу белую шапку, белые чулки и белый жилет.
Мой врач неизменно советует мне курить табак. После традиционной рекомендации он всякий раз добавляет:
— Курите, друг мой! Иначе вместо вас закурит кто-то другой.
Алиса Ганиева. Жених и невеста
- Алиса Ганиева. Жених и невеста. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015.
Известная молодая писательница и лауреат премии «Дебют» Алиса Ганиева написала новую книгу о своих ровесниках и актуальной для них теме брака: «»Почему тебе уже 25, а ты еще не замужем?» — пристают к героине советчики. «Найдешь невесту к заданной дате, зал уже забронирован», — наказывают герою обеспокоенные родители. Свадьба на Кавказе — дело ответственное, самое важное. А тут еще вмешиваются гадалки и узники, сплетницы и любопытные, фанатики и атеисты. Реальность мешается с суеверием, поэзия жизни — с прозой, а женихи — с невестами. И вся эта феерия разворачивается в лишившемся корней современном поселке в прикаспийских солончаках».
Поезд шел через душную степь. К плацкартным окнам липли насекомые, и пассажиры маялись от бессонницы. Сразу после рассвета объявили о новой остановке. Из вагона, толкаясь и волоча за собою набитые хламом сумки, стали выкарабкиваться чада и женщины. На освободившемся месте появился новый высокий попутчик со знакомым Марату гордым лицом, длинными чёрными вихрами и спортивной сумкой через плечо.
Марат тотчас же вспомнил его подростковую кличку — Русик-гвоздь. Кажется, это было как-то связано с сапожником. Не вспомнить наверняка. Когда им было лет по двенадцать, они все время подтрунивали над старикашкой, державшим обувную будку прямо на поселковом Проспекте. Проспектом называлась широкая и длинная колея, куда выходили ворота жилых домов. В дожди колея набухала и превращалась в канаву, по которой жители перебирались в калошах и на ходулях, брызгая и чавкая грязью.
Сапожник же, сидевший там в своей будке, как часовой, казался мальчикам отчего-то средоточием зла, ненавистным чудищем, заслуживающим безжалостной кары. Они взбирались на будку по двое или по трое, отыскивали любимую щель в крыше и, хихикая, совали туда пластмассовый носик кувшинчика, стянутого из уличного туалета. Вода из кувшинчика выливалась злодею сверху на голову. Некоторые ухари предпочитали закидывать старикашку горящими бумажными обрывками, пихая их в ту же злосчастную щель. Сапожник, чертыхаясь, выскакивал наружу, грозил молотком, клокотал на своем наречии, пытался подпрыгнуть и уцепить мальчишек за пятки.
Самым веселым было улепётывать. Пока один отвлекал и пререкался, другие соскакивали с будки и бежали прочь, давясь от смеха. Бедолага никого не мог запомнить в лицо, но с Русика исхитрился как-то сорвать шапку, зажал ее крепко под мышкой и начал горланить, размахивая торчащим из кулака колодочным гвоздиком:
— Я этот гвоздь твой башка забью!
Русик умолял вернуть шапку, но сапожник все надсаживался:
— Гвоздь, башка! Гвоздь, башка!
Что было дальше, Марат не помнил, но кличка засела надолго, не хуже гвоздя.
— Русик, салам! — хлопнул он ладонью по столику.
Русик обернулся, и угрюмая складка на его лбу слегка распустилась. Начались, как водится, восклицания и рукопожатия. Оказалось, что он что-то преподает в кизлярском филиале университета и возвращается сейчас в посёлок после приёма экзаменов. Марат тут же забыл название предмета. Что-то, связанное с экономикой. Ему не терпелось скорее вывернуть на свежие поселковые новости.
— Что, Русик, скажи, Халилбека все-таки посадили? Сидит?
— Еще как сидит! В той самой тюрьме, которая в нашем поселке!
— Надо же! До сих пор не верю!
— И наши не верят. Никто не верит. Боятся, ждут, что его вот-вот выпустят, коллективные письма пишут в защиту.
Да, Халилбек был той еще птицей. Он не имел ни одной официальной должности, но при этом контролировал недвижимость в поселке и городе и чиновников всех мастей. Он являлся одновременно во все кабинеты, издавал собственные книги по благоустройству и процветанию всего мира, командовал бюрократами, якшался, как поговаривали, с бандитами, нянчил младенцев в подопечных больницах, кружил головы эстрадным певичкам и только больше полнел и здоровел от множащихся вокруг тёмных слухов. Без ведома Халилбека никто в округе не решался купить участок, открыть кафе, провести конференцию. Он вникал в дела, казалось бы, самые мелкие и вместе с тем стоял, если верить молве, за главнейшими рокировками, пропажами и судьбоносными решениями. Отец Марата когда-то знал Халилбека лично, но общение оборвалось после одной неприятности, даже несчастья.
Был у Марата сосед Адик. Зашуганный мальчик, которого детвора постоянно дразнила плохими словами и обзывала сыном гулящей женщины. Жил он с дедушкой. Отец ребёнка и вправду был неизвестен, а мать, спасаясь от кривотолков, скиталась где-то по России, пока не вернулась домой умирать. Адик уже заканчивал школу. Он страшно стыдился матери, но по видимости простил ее. И после того, как та довольно быстро угасла от туберкулеза, долго ещё шатался по окрестностям сам не свой.
В детстве Адика постоянно лупили ровесники. Марату приходилось то и дело по-соседски защищать его от чужих тумаков. Вот Адик и ходил за ним, как привязанный, чтобы не тронули. К тому же родители Марата постоянно Адика привечали, подкармливали и жалели.
Дедушка, его воспитавший, умер чуть раньше матери. Говорили, он и построил ту самую тюрьму, в которой теперь сидел Халилбек. Он был и архитектором, и увлеченным арабистом, хранителем редких средневековых рукописей, в том числе не только на аджаме, но и гораздо более загадочных — тысячелетней давности, выведенных древним алфавитом Кавказской Албании на бумаге местного производства. За сомнительное увлечение дореволюционным прошлым он в свое время поплатился местом в управлении по делам строительства и оказался сослан сюда из города. Рукописи были изъяты и отданы в советские архивы, а потом то ли уничтожены, то ли потеряны.
Впрочем, дедушку Адика Марат помнил слабо. Разве что подтяжки и случайно подсмотренный под рубашкой ортопедический корсет, — наследство от битвы под Сталинградом. Бывший архитектор был нелюдим, да и дружить ему стало не с кем. Народ вокруг ютился мелкий, чернорабочий, насильно переселённый с неприступных гор и растворённый болотной степью. Не пирог, — обгоревшие шкварки с противня.
А вот сам Адик очень живо стоял у Марата перед глазами. После школы мальчик никуда не поступил, слесарничал, сразу женился на подобранной Маратовой матерью тяжелогрудой, молчаливой ровеснице. Сам Марат постоянно ссужал его деньгами, тот мямлил неуверенным тихим голосом, что вернет и, разумеется, не возвращал. Потом Марат уехал в Москву, где устроился юристом в адвокатской конторе и то и дело, наездами, помогал Адику отбиваться от некоторых посельчан, зарившихся на его домик и пытавшихся его оттуда всеми средствами выкурить.
Перелом случился как-то летом, когда Марат приехал из Москвы и обнаружил, что у Адика, совсем еще юнца, хоть и отца семейства, вдруг завелись приличные деньги, непонятно откуда взявшиеся. Адик утверждал, что устроился в городе, в музыкальном киоске, но эта версия была неприлично жалка. А вот денег хватило на чёрную Ладу Приору с красивым номером. На ней Адик раскатывал по Проспекту без всякой надобности, как бы назло всем тем, кто его травил и мучил с пелёнок. Марата он встретил в выглаженной рубашке и очень торжественно (разговор происходил на кухне) вытащил рублёвую пачку из алюминиевой банки с красной надписью «Рис»:
— С процентами!
Марат отказался брать, но Адик разобиделся, почти разозлился. Пришлось уступить. Во дворе своего дома он затеял какую-то совершенно ненужную и спешную стройку. Твердил, будто делает флигель для гостей, хотя гостей у них с женой совсем не бывало. Жизнь они вели скрытную, смирную, даже их младенцы-погодки совсем не ревели. А потом в поселок приехал Халилбек, у него и здесь был запертый наглухо особнячок, буквально за поворотом от дома Марата. Неизвестно, чего ему приспичило самому сесть за руль и примчаться ночью, без охраны. И как так произошло, что Адик попался ему под колеса в глухой и поздний час. Дело, конечно, замяли. Отец Марата пробовал разобраться, но с Халилбеком было не совладать. Адика похоронили.
Вот тут-то, уже после похорон, выяснилось невероятное. Марату признались шёпотом, что Адик был его, Марата, единокровным братом. И что мужчиной, от которого понесла и родила заблудшая чахоточная покойница, был его собственный отец. Но самым нелепым казалось то, что мать не только об этом знала, но еще и оправдывала отца. Мол, Асельдера можно понять, он грезил о детях, а я больше рожать не могла по здоровью. Адика она любила почти как родного, а после смерти поминала его, всплакивая, чуть ли не каждый день. Пробовала забрать внуков, но жена Адика испарилась сразу после сорокового дня вместе с детьми, уехала на кутан1.
В общем, у семьи Марата были личные счеты к Халилбеку. Русик во все это не вникал. Расспросив Марата про Москву и адвокатскую контору, он снова стал угрюм и, почесывая щетинистый подбородок, пялился на пролетающие мимо пустоши.
— Да плевать на этого Халилбека, — вдруг хмыкнул он, — меня другое достало. Наши бараны. Ты знаешь, я живу за «железкой», а там у них как это, типа оппозиционная мечеть. Пристают каждый день: что ты к нам не ходишь? Да я и в другую мечеть не хожу, которая у Проспекта. Я вообще целый день или в Кизляре на занятиях, или в городе, в комитете. Езжу туда на велике. От этого тоже все бесятся. Почему на велике, почему не в костюме? А дома одно и то же: когда женишься, когда женишься? Причем, конечно, на своей хотят женить, чтобы нашей нации. А недавно в посёлке узнали, что я на танго хожу. О-о-о, прямо пальцем показывали…
— Да возьми, и уезжай из посёлка!
— Легко сказать «уезжай». Меня разве отпустят так просто? Я — единственный сын, сёстры — маленькие, родители — упёртые.
— Ну и не ной тогда…
Марат глядел на Русика с ухмылкой. Тот был известен своими странностями. Поглядывал на поселковых презрительно, на проповеди не являлся, водил романы с городскими разведёнными художницами, изъяснялся иногда сложносочинённо, «как хохол», беспорядочно ударялся то в коллекционирование старых географических карт, то в нумизматику, то в зимние морские заплывы, как будто желая всем вокруг наперечить и выделиться, но быстро всё забрасывал и запирался дома на несколько дней тосковать. Поэтому ни велосипедная езда на работу в город (тридцать километров по грязи в одну сторону), ни занятия танго Марата не удивили. Он переспросил про женитьбу:
— А что, невесту уже нашли?
— Да они всё время кого-то находят и подсовывают, — скривился Русик, — как в зоопарке.
— Просто я тоже жениться еду.
— Ты? Жениться? На ком?
— Еще не знаю. Нужно срочно найти. Свадьба уже назначена, и банкетный зал снят на тринадцатое августа, а невесты еще нет, — скороговоркой объяснял Марат, катая вчерашние хлебные шарики по столу.
Мимо, по проходу поезда снова, окликая друг друга и посмеиваясь, перемещались люди с полотенцами, зубными щётками, кукурузными палочками, телефонами, бесконечным дребезжанием подстаканников.
— Ты шутишь? — встрепенулся Русик.
— Спроси у моих предков, шутят они или нет. Каждое лето приезжаю и срываюсь у них с крючка. В этот раз решили зал снять. Если не найду жену, деньги за аренду пропадут. Зал не супер-пупер, на окраине города. Самые лучшие, ты знаешь, за год бронируют. Но тысяча гостей поместится. Отец даже одну машину продал, чтобы деньги выручить. Я тоже экономлю. Сам видишь, в плацкарте…
Марат нервно засмеялся.
— От тебя не ожидал, Марат! Ты зачем на это ведёшься?
— Да я, если честно, и сам не против, пускай женят. Одному надоело…
Несколько секунд Руслан не отрывал от приятеля поражённого взгляда, потом тряхнул шевелюрой и, зажмурившись, лёг на полку. Марат встал и, размявшись, понёс звякающие в подстаканниках гранёные стаканы к баку для кипячения, «титану» на языке проводников. Плацкарт изнывал от жары. Толстые торговки с клетчатыми баулами расхваливали шифоновые шарфы леопардовой расцветки, покупательницы щупали ткань, совещались, шуршали деньгами.
— Чё, вацок2, чай захотел? — крикнул знакомый попутчик с верхней полки, сверкнув жёлтыми пятками.
— Да, прикинь, братишка, — засмеялся Марат.
Когда вернулся с чаем, Русик мгновенно приподнялся, упёрся локтями в столик. Стали размешивать сахар.
— А что там за контры в посёлке между мечетскими? Вроде драка была? — лениво почесался Марат, присаживаясь.
— И не одна. Там же как… Была одна мечеть, имама выбрали.
— Ну?
— Но потом между тухумом3, который строил мечеть, и имамом возникли непонятки. Говорят, что из-за свободы воли, но настоящей причины никто не знает.
— Не понял…
— Смотри. Люди этого тухума считают, что все действия совершает только Аллах, даже те, что как бы принадлежат человеку. То есть, всё предопределено сверху, и свободы воли ни у кого из нас нет.
— А имам спорил?
— Имам учил, что Аллах узнаёт о поступках человека только после их совершения. И еще что-то про сотворённость Корана. Мол, смысл вечен, а слова, которыми он выражен, сотворены и не вечны.
— И что, из-за этого подрались?
Русик хмыкнул:
— Сначала эти противники имама демонстративно перестали ходить в мечеть и принялись пугать людей, что имам — ваххабит. Уже сколько лет прошло, сейчас этого не так боятся, а тогда, — считай, что приговор. Хотя, если вдаваться в эти их религиозные тонкости, он вовсе не ваххабит, а какой-нибудь кадарит4. Или, как его, мутазилит5. Но не важно. Вот, собрали они спортсменов со всей округи, в том числе нескольких чемпионов мира и даже одного олимпийского, звякнули ОМОНовцам и устроили драку прямо внутри мечети. По словам пострадавших.
— Я слышал об этом, но ОМОН зачем?
— Ловить людей и на учёт ставить. Имама, естественно, сняли. Тогда его приверженцы ушли из мечети и основали свою, за «железкой». По слухам, Халилбек дал деньги. Но имама потом всё равно оттуда выжили.
— Из новой мечети тоже?
— Да, ведь, в конце концов, мечеть за «железкой» и вправду стала ваххабитской. Он не сходился с паствой во взглядах.
— Ну а последняя драка из-за чего? Повод был?
— Да, бытовуха. Пацан из мечети с Проспекта чего-то не поделил с другим, который ходит за «железку». С этого и закрутилось. Прямо на моих глазах, после вечернего намаза. Я как раз вышел пройтись после ссоры с отцом. По поводу женитьбы ссорились. Стою и вижу — вываливает народ из мечети.
— За «железкой»?
— Да. Выходят, а за железнодорожными путями уже толпа собралась. Чуть ли не пятьсот человек. Ну, думаю, сейчас будет каша. И, смотрю, кто-то крикнул «Аллау Акбар», побежали друг другу навстречу. К рельсам. Кто-то стал бросаться камнями, и с той, и с другой стороны. Выстрелы в воздух, крики… Я и еще несколько свидетелей бросились успокаивать, разнимать. И тут подъезжает штук десять «Уралов» с ментами. Мне потом сосед говорил, что менты были в курсе и с проспектовскими заодно. Но мне ото всех тошно. Ты бы знал, насколько.
— Да ладно тебе, Русик, тебя же сильно не трогают.
— Меня не трогают? Забегает на той неделе сосед, тот же самый, и давай раскачивать: Мирзика похитили, Мирзика похитили! Вечером звонил домой, должен был купить хлеб и через десять минут приехать, и пропал!
— А, знаю Мирзика!
— Да кто его не знает! Двоеженец бородатый. Ну вот, Мирзик пропал, и тут же — обычная новость: на въезде в город дорожный патруль пытался остановить подозрительный автомобиль, но водитель открыл по нему огонь. А потом ответным огнём был уничтожен. Оказалось, Мирзик.
— Что, правда?
— Ну сосед кричал, что неправда, что всё подстроено, как они обычно орут, тут не разберёшь. В общем, давай из него святого делать. Напиши, говорит, про Мирзика статью, ты умеешь. Я им объясняю: в жизни статей не писал, я — преподаватель. Но они, как с цепи сорвались. Долдонят мне про его доброту. И требуют, чтобы я обязательно про клубничный кекс в материал впендюрил.
— Какой ещё кекс?
— Ну жене соседа (она на сносях) захотелось клубничного кекса, и она написала об этом в какой-то виртуальной группе. Жена Мирзика про это прочитала и сообщила Мирзику. Они в это время в машине куда-то ехали. И якобы Мирзик мгновенно развернулся и полетел в кондитерскую покупать соседской жене эту самую сладость.
— Ангел, а не человек.
— Да не то слово. Теперь на меня зубы точат, что я писать отказался. Да много чего накопилось. То, что танго танцую…
Марат отмахнулся:
— Побольше их слушай!
— Да я спасался только тем, что для людей Халилбека кропал диссертации. Все это знали и меня не трогали. Халилбека боялись. А теперь он в тюрьме…
За окном потянулась канавка с плакучими ивами, мусорные горки и бездвижные силуэты жующих жвачку коров.
— Вот-вот подъедем, — заметил Марат.
Через некоторое время показалось кирпичное здание станции, состав затормозил, и вскоре они уже шли по перрону. Очень далеко темнели контуры предгорий. Посёлок, родившийся здесь лет пятьдесят назад у станции, начинался сразу за ней, разрастаясь коричневыми кварталами в стрекочущую степь. После засухи грязь на улицах спеклась и крошилась.
1 Населённый пункт, административно входящий в горный район, но находящийся на равнине, в зоне отгонного животноводства. Возникает на месте пастушьих стоянок на зимних пастбищах.
2 Браток (авар. «вац» — «брат»).
3 Род в Дагестане.
4 Приверженец одного из исламских мировоззренческих учений, суть которого в том, что человек абсолютно свободен в своих помыслах и совершенных поступках, и Бог не принимает в этом участия.
5 «Обособившиеся, отделившиеся, удалившиеся» — представители первого крупного направления в исламской философской литературе. Относятся к кадаритам.
Джон Вердон. Зажмурься покрепче
- Джон Вердон. Зажмурься покрепче / Пер. с англ. М. Салтыковой. — М.: АСТ: Corpus, 2015. — 704 с.
В остросюжетном детективе американского писателя Джона Вердона сразу сказано, что убийца — садовник. В разгар свадебного торжества под прицелом множества видеокамер погибает невеста — и обстоятельства смерти, зафиксированные поминутно, на первый взгляд, не вызывают сомнений. Вот только верить этим свидетельствам главный герой, полицейский в отставке Дэйв Гурни, не собирается. Однако ни он сам, ни его бывшие коллеги даже не подозревают, куда их могут привести новые неожиданные подробности дела и какая ужасающая по масштабности история скрывается за семейной драмой.
Глава 4
Искусство обмана
— Что общего у всех операций под прикрытием?
Тридцать девять физиономий в аудитории изобразили помесь любопытства и замешательства. В отличие
от большинства приглашенных лекторов Гурни не рассказывал о себе, не перечислял своих регалий, не объявлял
тему семинара, не декларировал целей занятий и вообще
не говорил о той чепухе, которую все традиционно пропускают мимо ушей. Гурни предпочитал начинать с главного,
особенно перед группой опытных офицеров, к которым
он обращался. Кроме того, все и так его знали — в полицейских кругах у него была блестящая репутация, ему верили на слово, и эта репутация со временем блестела все
ярче, хотя Гурни два года как ушел в отставку. Впрочем,
слава приносила ему не только восхищение поклонников,
но и зависть. Сам он предпочел бы неизвестность, в которой никто не ждет от тебя ни успеха, ни провала.— Подумайте, — произнес он, скользя внимательным
взглядом по лицам в зале. — Зачем вообще нужны операции под прикрытием? Это важный вопрос, и я бы
хотел услышать ответ от каждого.В первом ряду поднялась рука. При внушительном,
как для американского футбола, телосложении у офицера было детское и удивленное лицо.— А разве цель не зависит от ситуации?
— Все операции уникальны, — кивнул Гурни. —
Люди в каждом случае разные, риски и ставки тоже.
Одно дело займет уйму времени, другое пойдет как
по маслу; одно вас увлечет, другое покажется тягомотиной. Образ, в который необходимо вжиться, и «легенда»
тоже не повторяются. Информацию придется каждый
раз собирать разную. Разумеется, каждый случай неповторим. Тем не менее… — он сделал паузу, разглядывая
лица в аудитории и стараясь поймать как можно больше
взглядов, прежде чем произнести действительно важные слова, — когда вы работаете под прикрытием, у вас
есть главная задача. От нее зависит все остальное, ваша
жизнь в том числе. Какая это задача?На полминуты аудитория погрузилась в абсолютную тишину. Офицеры сидели в напряженной
задумчивости. Гурни знал, что рано или поздно люди
начнут высказывать версии, и разглядывал помещение
лектория в ожидании. Стены из бетонных блоков выкрашены в бежевый; коричневатый узор на линолеуме
уже не отличить от наслоившихся поверх него царапин
и разводов. Ряды видавших виды столиков цвета «серый меланж» и уродливые пластиковые стулья, слишком узкие для атлетического телосложения слушателей,
навевали скуку одним своим видом, несмотря на оранжевый цвет и блестящие хромированные ножки. Лекторий походил на мемориальную капсулу, вобравшую
худшие дизайнерские решения семидесятых, и напоминал Гурни последний участок, где он работал.— Может, задача — проверка собранной информации
на достоверность? — раздался голос из второго ряда.— Достойное предположение, — кивнул Гурни. —
Будут еще идеи?Тут же последовало еще полдюжины теорий, в основном из передних рядов и тоже про сбор и достоверность информации.
— Я бы хотел услышать и другие варианты, — сказал
Гурни.— Главная цель — убрать с улиц преступников, — неохотно буркнули из заднего ряда.
— И предотвратить их появление, — подхватил кто-то.
— Да цель — просто докопаться до сути: факты, имена,
пробить, кто есть кто, откуда ноги растут, кто главный, откуда деньги, и все такое. Короче, надо досконально выяснить все, что можно, вот и все, — протараторил жилистый
верзила, сидевший ровно напротив Гурни, скрестив руки.
Судя по ухмылке, он был уверен, что его ответ единственно
правильный. На бэйджике значилось: «Детектив Фальконе».— Больше нет соображений? — спросил Гурни, с надеждой обращаясь к дальним рядам. Верзила с досадой
поморщился.После долгой паузы подала голос одна из трех женщин:
— Важнее всего — установить и удержать доверие.
У нее был низкий, уверенный голос и заметный
испанский акцент.— Чего? — переспросили сразу несколько человек.
— Установить и в дальнейшем удерживать доверительные отношения, — повторила она чуть громче.
— Любопытно, — отозвался Гурни. — Почему вы
считаете эту цель важнейшей?Она чуть повела плечом, словно ответ был очевиден.
— Без доверия ничего не выйдет.
Гурни улыбнулся.
— «Без доверия ничего не выйдет». Замечательно.
Кто-нибудь хочет поспорить?Никто не захотел.
— Разумеется, нам нужна правда, — продолжил Гурни. — Вся, какую можно узнать, во всех подробностях,
тут я совершенно согласен с детективом Фальконе.Верзила холодно уставился на него.
— Но, как заметила его коллега, без доверия тех, у кого
мы эту правду ищем, мы ее не получим. Что еще хуже —
вероятно, что нам солгут и ложь собьет нас со следа.
Так что главное — это доверие. Всегда. Если помнить
об этом, шансы докопаться до правды возрастают. А если
гнаться за ней, забыв про главное, возрастают шансы получить пулю в затылок.Кое-кто в зале закивал. Некоторые стали слушать
с большим интересом.— И как же мы собираемся это сделать? Как вызвать
в людях такое доверие, чтобы не просто остаться в живых, но чтобы работа под прикрытием себя оправдала? —
Гурни почувствовал, что сам увлекается, и слушатели
тут же отреагировали на его подъем возрастающим
вниманием. — Запомните: под прикрытием постоянно
имеешь дело с людьми, которые недоверчивы по природе. А зачастую еще и вспыльчивы — вас могут пристрелить просто на всякий случай, не моргнув глазом,
и потом будут гордиться этим. Им же нравится выглядеть опасными. Поэтому они ведут себя грубо, резко
и безжалостно. Вопрос: как заставить таких людей доверять вам? Как выжить и выполнить задание?На этот раз люди отвечали охотнее.
— Подражать им.
— Вести себя правдоподобно, чтобы легенда прокатила.
— Быть последовательным. Не палить прикрытие,
что бы ни случилось.— Вжиться в образ. Верить, что ты тот, за кого себя
выдаешь.— Держаться спокойно, не суетиться, не показывать
страха.— Показать, что ты крутой.
— Да, чтобы верили, что у тебя стальные яйца.
— Точно. Типа, вы тут верьте, во что хотите, а я — это
я. И чтоб они поняли: ты реально неуязвим. К тебе
не надо лезть.— Короче, прикинуться Аль Пачино, — усмехнулся
Фальконе, оглядываясь в поисках поддержки, но вместо
этого обнаруживая, что отбился от общего мозгового
штурма.Гурни проигнорировал его шутку и вопросительно посмотрел на женщину с испанским акцентом.
Немного поколебавшись, она сказала:
— Важно показать им, что в тебе есть страсть.
Некоторые отреагировали смешками, а Фальконе
закатил глаза.— Хватит ржать, придурки, — произнесла она беззлобно. — Я просто хочу сказать, что помимо фальшивки надо предъявить что-то настоящее, осязаемое,
что зацепит их за живое. Тогда они поверят. Ложь в чистом виде не пройдет.Гурни почувствовал знакомое волнение, которое
всегда окутывало его, если удавалось распознать среди
учащихся звезду. Оно каждый раз укрепляло его в желании продолжать вести эти семинары.— Ложь в чистом виде не пройдет, — повторил он
достаточно громко, чтобы все расслышали. — Золотые
слова. Чтобы ложь сошла за правду, нужно подавать ее
с подлинными эмоциями. «Легенда» должна быть привязана к живой частичке вас. Иначе она будет просто
карнавальным костюмом, который никого не обманет.
Явного обманщика не жалко расстрелять, чем зачастую
дело и заканчивается.Он оценил реакцию зала и прикинул, что из тридцати девяти по меньшей мере тридцать пять человек
действительно слушают. Тогда он продолжил:— Подлинность — вот ключевое слово. Чем глубже
ваш собеседник верит вам, тем больше он вам расскажет. А насколько глубоко он поверит, зависит от вашей
способности использовать настоящие переживания,
чтобы оживить вашу легенду. Так что транслируйте
подлинную злость, неприкрытую ярость, искреннюю
жадность, откровенную похоть, честное отвращение —
по ситуации.Затем он отвернулся, якобы чтобы вставить видеокассету в плеер под огромным экраном и убедиться, что
провода в порядке. Когда он вновь повернулся, его лицо
исказилось яростью — точнее, весь Гурни как будто готов был взорваться. По залу прокатилась легкая дрожь.— Представьте, что вам нужно быстро продать легенду полному психу. Не бойтесь, копните себя поглубже. Туда, где больное, где сидит другой псих —
почище того, что перед вами. Дайте ему говорить
от вашего имени. Пусть собеседник его увидит — этого
отморозка без башни, который способен голыми руками вырвать ему сердце, сожрать сырым и сыто рыгнуть в его мертвую рожу. Может быть, не просто способен, а хочет этого. Но сдерживается. Сдерживается
едва-едва…Он резко дернулся вперед и с удовольствием отметил про себя, что практически все, включая Фальконе —
особенно Фальконе, — опасливо отшатнулись.— Ладно, — произнес Гурни, с улыбкой превращаясь
обратно в самого себя. — Это был просто пример убедительной страсти. Большинство из вас почуяло что-то
нездоровое — злобу, безумие. И вы инстинктивно отшатнулись, потому что поверили, да? Поверили, что
у Гурни не все дома?..Кто-то закивал, кто-то нервно хихикнул. В целом
зал как будто выдохнул с облегчением.— Так в чем суть-то? — хмыкнул Фальконе. — Что
в каждом есть долбанутый псих?— Я бы предпочел на сегодня оставить этот вопрос
открытым.Раздались беззлобные смешки.
— В нас гораздо больше дерьма, чем хочется думать.
Пусть не пропадает зря. Откопайте его и используйте. Работая под прикрытием, вы обнаружите, что качества, которые подавляются в обычной жизни, здесь — ваш главный инструмент. А иногда — решающий козырь в рукаве.Он мог бы привести примеры из собственной
практики, как он призывал темную тень из детства,
раздувая ее до масштабов адского чудища, которое выглядело убедительно даже для проницательных противников. Самый красноречивый случай был на деле
Меллери — меньше года назад. Но Гурни не хотел ворошить прошлое. Не хотел вспоминать, откуда вылезла
эта тварь. Кроме того, он и так уже завоевал внимание.
Студенты слушали, доверились ему, перестали спорить.
Гурни добился главного: они задумались.— Ну что ж, с эмоциональной частью, пожалуй, разобрались. Теперь перейдем к следующему пункту. Допустим, ваши чувства и мысли, работая в тесной связке,
сделали свое дело, и вы успешно справляетесь с ролью.
Вас приняли за своего и больше не держат за болвана,
напялившего мешковатые штаны и дурацкую кепку,
чтобы сойти за торчка.Несколько ответных улыбок, кто-то пожал плечами, кто-то чуть скривился, очевидно, приняв последнее описание на свой счет.
— Я хочу, чтобы вы задались довольно странным вопросом: что стоит за вашим собственным доверием? Что
заставляет вас верить, что правда — именно то, что вы
считаете правдой?Не дожидаясь, пока аудитория проникнется глубиной предложенной абстракции, Гурни нажал кнопку
на видеоплеере. Когда на экране возникла картинка, он
произнес:— Спросите себя, пока смотрите видео: как вы решаете, во что верить?
Стоп-кадр. Ностальгия
- Стоп-кадр. Ностальгия. — М.: Редакция Елены Шубиной, 2015. — 432 с.
В марте в Редакции Елены Шубиной в серии литературных сборников журнала «Сноб» выходит книга «Стоп-кадр. Ностальгия». Объединенные под обложкой рассказы предназначены для медленного чтения и содержат разные опыты преодоления прошлого. Татьяна Толстая, Дмитрий Быков, Михаил Шишкин, Андрей Тарковский-младший, Людмила Петрушевская и многие другие расскажут о свой ностальгии по ушедшим мгновениям, людям и, конечно, местам.
Алла Демидова
НОСТАЛЬГИИ НЕТ — ЕСТЬ ПАМЯТЬ ДЕТСТВАВ прошлом у меня нет радостных событий, о которых мне бы хотелось вспоминать, и, когда ассоциативно мелькнет перед глазами какая-нибудь картинка оттуда, я, как пишет в своих дневниках Толстой, «стенаю».
Причем уйти мне «туда» легко — при моей гипертрофированной актерской фантазии и «вере в предлагаемые обстоятельства».
Когда не могу заснуть, я ухожу в детство, точнее к бабушке в Нижнее Сельцо под Владимиром. Туда меня отдавали на лето. Я не была там желанным гостем — там и так было достаточно голодных ртов, но маме казалось, что так будет лучше. И еще там жила моя двоюродная сестра, старше меня на пять дней. Вот с ней мы и проводили все лето. Писали вместе письма и бросали в щель нашего крыльца, представляя, что так мы ходим на почту. Думаю, что до сих пор там тлеют эти наши послания.
Мы спали рядом с домом в амбаре. Рано утром пастух собирал стадо. Из наших ворот тетя Нюра выгоняет нашу корову Победку. Дело в том, что теленок родился 9 мая 1945 года и поэтому его, вернее ее, назвали Победкой.
Однажды по улице деревни шел полк солдат, в это время пригнали стадо, и бабушка, выйдя на крыльцо, звала: «Победка, Победка!» Солдаты странно на нее косились.
Бабушка — старообрядка. Из старой старообрядческой семьи. В избе много угольников с иконами, а внизу этих угольников лежат старославянские толстые книжки в коричневых кожаных переплетах.
Я вижу, как перед закатом бабушка стоит перед угольником с лестовицей в левой руке и молится. На лестовице кожаные бугорки: одни — меньше, другие — потолще. Это поклоны, низкие и в пол.
У нас с бабушкой обязанность: продавать красную смородину, которой очень много в огороде. Мы с сестрой лениво собираем большую корзину смородины с очередного куста, а на следующий день идем с бабушкой в город к политехническому институту, где бабушка по рублю за стакан продавала эту смородину студентам.
Однажды мимо шли солдаты и в последнем ряду, отставая, шел маленький солдатик в больших кирзовых сапогах. Когда он пробегал мимо нас, бабушка сунула ему три рубля и сказала: «Прими Христа ради», — он удивился, взял деньги и побежал догонять свою роту.
Мне эти три рубля вернулись. Уже в Москве я ходила в школу в районе Балчуга. И каждый раз проходя мимо маленькой сапожной мастерской, где сидел сапожник-инвалид, пришедший с войны, я останавливалась около приоткрытой двери и нюхала этот божественный запах кожи, ваксы… Инвалид, наверное, давно меня приметил и однажды заговорил со мной — кто я, с кем живу. Я ответила, что с мамой, а отец погиб на фронте. Он протянул мне три рубля, я взяла, но больше у этой двери никогда не останавливалась.
Отца я помню эпизодически. Но очень ясными картинками. Я даже помню, вернее вижу, как я впервые пошла (мне было год) через всю комнату к отцу. Он меня подхватил на руки и смеялся. Он меня очень любил.
Потом, позже, я стою сзади на его лыжах, вцепившись в его ноги, и мы медленно катимся с пологой горки.
Во время войны он неожиданно приехал на два дня в Сельцо к бабушке. Ночью. Меня разбудили. Он вытащил из рюкзака две мягкие игрушки: слона и лису. Я выбрала лису. Наутро сестре достался слон. Она ревела на весь дом. Лиса долго жила у меня, пока мама не подарила ее какой-то маленькой девочке. Мне жаль. У моего мужа на книжной полке, где стоят тома старой советской энциклопедии, сидит большой коричневый вельветовый медведь, которого купили до рождения Володи.
Когда началась война, я была у бабушки. В октябре 1941 из Москвы невозможно было уехать, и мама пошла к нам пешком. Шла она несколько дней. Пришла уставшая, грязная, я ее не узнала. Когда она меня взяла на руки и спросила: «Где твоя мама?», — я ответила уже по-владимирски на «о»: «Д-о-лёко-о-о!» — и показала в сторону Москвы. В какой она стороне, мы знали. У нас была детская игра: мы просили кого-нибудь из взрослых ребят «показать Москву», и тебя брали обеими руками за голову, где уши, приподнимали над землей лицом в сторону Москвы. Игра мне очень нравилась.
Мама осталась во Владимире, устроилась на работу, мы сняли маленькую комнатку в одно окно недалеко от Золотых ворот. Меня отдали в недельный детский сад. Когда бы мама ни навещала меня, я стояла у ворот, смотрела на дорогу и ждала ее.
В нашей комнатке помимо нас жили крысы, и, уходя, надо было все съедобное подвешивать в наволочке к потолку. Крысам, естественно, это не нравилось, и однажды они от злости растерзали наши подушки. Когда мы вошли, вся наша комната была в пуху.
Отец еще раз после ранения приехал к нам на два дня уже во Владимир. Мама ушла на работу, мы остались с ним одни, и он меня осторожно спросил: «К маме кто-нибудь ходит в гости?», — и я, хоть знала, что у мамы есть другой мужчина, ответила: «Нет, никогда!»
Мама вышла замуж за отца с условием, что он купит ей комнату. В тридцатые годы это было можно. Отец — москвич, но жил с сестрой, а мама приехала в Москву из Нижнего Сельца. Отец купил небольшую комнату недалеко от Балчуга, они справили свадьбу, поехали в Сельцо к маминым родителям, она там задержалась, а отец вернулся в Москву раньше — он был студентом, но на вокзале его арестовали. Сослали на Север. Мама осталась одна в Москве. За ней стал ухаживать один инженер из «благополучной» московской семьи, просил выйти за него замуж, она согласилась, но неожиданно вернулся отец (в начале тридцатых годов за примерное поведение иногда раньше освобождали). Мама осталась с отцом. Пожалела. А потом родилась я. Отцу не разрешалось жить в городе (сто первый километр), и он жил у другой сестры в Старой Рузе. Приезжал наездами. Поэтому я его плохо помню. А когда началась война, он добровольцем ушел на фронт. 17 февраля 1945 года в деревне Выжихи Ломжинского воеводства в Польше его убили.
Мы с мамой уже к этому времени были в Москве. Я помню салют о взятии Варшавы и мамин громкий плач — она только что получила похоронку. А до этого отец мне приснился. Мы были с ним в нашей комнате, и вдруг он стал совсем маленький и ушел под шкаф. Сны я запоминаю редко, а этот помню очень ясно до сих пор. Мы с мамой остались одни. Потом появился отчим… Я ходила в школу.
Площадка перед гостиницей «Балчуг» была местом наших игр. В гостинице тогда жили семьи вернувшихся с войны. Там жила моя подруга Наташа Шапкина, очень красивая спортивная девочка. В школьном драмкружке она, конечно, получила Снегурочку, а я мужскую роль Бобыля (школа у нас была почти женская, и почти все мужские роли доставались мне). Наташа хорошо прыгала через веревочку, я постоянно сбивалась. Однажды дети не выдержали моих сбивок, взяли меня за руки и за ноги и долго держали так над рекой за парапетом. Я вернулась домой в истерике и с тех пор боюсь коллектива.
Балчуг, Каменный мост, Красная площадь, Александровский сад, Манежная площадь — это мои адреса. Мама ходила по этому маршруту в университет на работу, а я с ней в свой детский сад во дворе университетского корпуса. Зимой мама возила меня на санках. Я вижу, как по белому снегу от Василия Блаженного катится вниз красное яблоко, которое я уронила. А в самом Василии Блаженном, вернее в самом низу, над тротуаром, есть норка, где живет Королева крыс. На пустой Манежной площади ставили большую елку с игрушками, а вокруг в палатках продавали конфеты и мороженое. Но это, наверное, было уже после войны. У меня одно время наслаивается на другое.
Моей приятельнице Ире подарили белого кролика. Ее такса Долли тут же стала на него охотиться. Мы живем на даче. В одной комнате живет кролик, в другой заперта такса. Выгуливаем их по очереди. На длинном собачьем поводке. Моя очередь выгуливать кролика. Он спокойно щиплет травку, я замечталась и вдруг боковым зрением вижу, как по дорожке ползет Долли, каким-то образом выбравшаяся из своего заточения, я успеваю схватить кролика, такса прыгает, кролик кричит: «А-а-а-а!», — сумасшедший дом. Надо было отдавать кролика. Но куда? И тут я вспомнила, как мы с моим мужем как-то нашли ежика со сломанной лапкой. Принесли домой. Днем он где-то спал, ночью топал по комнатам, и потом весь пол был в какой-то зеленой жиже. Прошел месяц, нам надо было уезжать, и мы отдали ежика сыну нашего приятеля — сын был председателем кружка юннатов. Ежик там долго жил. Возвращаюсь домой, рассказываю Володе всю эту дачную эпопею и заканчиваю, что мы кролика отдадим, как отдали когда-то нашего ежика сыну Цукермана. Володя меня, молча, выслушал и говорит: «Алла, дело в том, что ежика мы с тобой нашли двадцать пять лет тому назад, сыну Цукермана сейчас под сорок и живет он давно в Израиле».
Такое наложение времени я заметила у хороших актеров, когда они играют классику. Мне посчастливилось видеть Смоктуновского в Мышкине, когда театр восстанавливал «Идиота» для Эдинбургского фестиваля, а мы в это время в Ленинграде снимали «Дневные звезды». На сцене был Смоктуновский со всеми его привычками и голосом, и в то же время я ощущала время Достоевского и характер самого Мышкина. Удивительно!
Мне не спится. Моя проклятая бессонница. Я «ухожу» к бабушке в Нижнее Сельцо. Мы все сидим за столом. Пьем чай, вместо сахара свекла. За столом сидят беженцы — нищие (это входит в бабушкину религию). Мы с сестрой фантазируем, какое на вкус бывает пирожное: мы никогда его не ели. И вдруг во рту я чувствую вкус орехов, сладостей и еще чего-то пряного. Может быть, среди беженцев сидел гипнотизер, и он нас пожалел, или это разыгралась моя фантазия?
Дом бабушки сохранился, но я боюсь туда ехать, потому что моя детская картинка померкнет, на нее наложится сегодняшний день.
Наверное, Пруст тоже боялся вернуться в маленький городок Иллье, где он тоже у бабушки проводил летние каникулы. В его романах городок Иллье под Шартром превратился в Комбре, где в большой гостиной бабушка принимала своих великосветских гостей за чаем.
Я как-то поехала в Шартр и заехала в прустовский Иллье, где в доме бабушки расположился музей Пруста. Бабушкина гостиная оказалась маленькой тесной комнаткой, забитой мебелью мелких буржуа. И вместо прустовской речки в романе журчал заросший зеленью ручеек…
Никогда не надо возвращаться туда, где прошло детство. (Я уже не говорю о фатальном возвращении старого Форсайта.) Детство должно оставаться в памяти. И возникать в бессонные ночи…