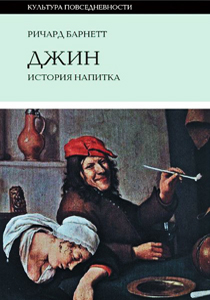То, что книга всегда лучше фильма, давно уже стало притчей во языцех. Бывает ли, что книга о кино не хуже самого кино? Журнал «Прочтение» попробует разобраться в этом и пополнить коллекцию киномана любопытными экземплярами.
- Антон Долин. Джим Джармуш. Стихи и музыка. — М.: Новое литературное обозрение, 2017. — 224 с.
 Как скроена книга — от этого зависит немало. На этот раз Антон Долин представил своеобразный творческий микс, в котором приняли участие даже поклонники Джима Джармуша. Фильмы анализируются в обратном хронологическом порядке. Автор начинает анализ с последнего фильма — «Патерсон» — и заканчивает первым — «Отпуск без конца». Здесь стоит заметить, что подобным образом поступали многие поэты при издании своих книг: считается, что последние стихотворения, как правило, сильнее.
Как скроена книга — от этого зависит немало. На этот раз Антон Долин представил своеобразный творческий микс, в котором приняли участие даже поклонники Джима Джармуша. Фильмы анализируются в обратном хронологическом порядке. Автор начинает анализ с последнего фильма — «Патерсон» — и заканчивает первым — «Отпуск без конца». Здесь стоит заметить, что подобным образом поступали многие поэты при издании своих книг: считается, что последние стихотворения, как правило, сильнее.
Но часто бывает так, что писатели, режиссеры и художники не могут «вовремя остановиться», и тогда их поздние работы начинают значительно уступать прежним. Кроме того, есть много режиссеров, бросающихся из крайности в крайность. О Джармуше не скажешь ни того, ни другого. В этом смысле он статичен, так же как верен своему стилю.
Долин последовательно препарирует кинокартины Джармуша и обнаруживает определенный характерный для них алгоритм на примере десятиминутного фильма «Инт. Трейлер. Ночь»: «Искусственное и естественное. Чужак в чужом краю. Юмор и чувства. Сигареты и спички. Музыка».
Настоящей усладой для любителей саундтреков к фильмам режиссера станут их расшифровки российскими музыкальными критиками. Надо сказать, что музыка весьма разнообразна: Игги Поп, Boris, Мулату Астатке, Густав Малер, Wu-tang clan, Нил Янг, Том Уэйтс, Чарли Паркер и другие. А в финале книги читатель сможет узнать, чтó в последнее время слушает сам Джармуш.
Что касается поэзии, то Долин вплетает ее в канву анализа фильмов, обращаясь к таким писателям, как А. Рембо, У.К. Уильямс, А.К. Толстой, А.С. Пушкин, Н.С. Гумилев, С.Я. Маршак, У. Уитмен, У. Блейк, Л. Ариосто… Как уже упоминалось выше, автор дает слово и современным поэтам — поклонникам творчества Джармуша, называя это «рискованным экспериментом». Удался ли этот эксперимент? Безусловно. Сама возможность для молодых поэтов попасть в подобную книгу воодушевляет и несет большой энергетический посыл.
Под впечатлением от просмотра «Патерсона», недавно вышедшего в прокат, люди бросились писать стихи обо всем, что их окружает, и помещать в ленту новостей в «Facebook». Так вот, они еще не читали книгу Долина.
Раньше Джармуш говорил, что скорее снимет фильм о человеке, выгуливающем пса, чем об императоре Китая (и снял, вот он). Теперь, пожимая плечами, добавляет, что и китайский император вполне мог бы выгуливать собаку. Чудесное и привычное, поэзия и проза не обязательно должны вступать в противоречие.
- Туве Янссон. Видеомания. Лодка и я. — СПб.: Амфора, 2007. — 317 с.
 Все, что написано Туве Янссон для детей и взрослых или взрослых-детей, волшебно в своей простоте и гениально. Новелла «Видеомания», вошедшая в сборник «Честная игра», покажется очень близкой тем, кто двадцать-тридцать лет назад собирал фильмотеку, сортировал ее по странам и режиссерам, отводил для нее специальное место в своей комнате и жизни. Кто накрывал экран телевизора салфеткой и отправлялся спать с мыслями не о прошедшем дне, а о только что просмотренном кинофильме.
Все, что написано Туве Янссон для детей и взрослых или взрослых-детей, волшебно в своей простоте и гениально. Новелла «Видеомания», вошедшая в сборник «Честная игра», покажется очень близкой тем, кто двадцать-тридцать лет назад собирал фильмотеку, сортировал ее по странам и режиссерам, отводил для нее специальное место в своей комнате и жизни. Кто накрывал экран телевизора салфеткой и отправлялся спать с мыслями не о прошедшем дне, а о только что просмотренном кинофильме.
Сложность характеров главных героинь — Юнны и Мари — проявляется в будничных беседах, в раздельном (они живут «каждая в своем конце большого доходного дома») и совместном времяпрепровождении, в мудром молчаливом понимании друг друга. Немного циничная и колючая Юнна, коей принадлежит коллекция киноклада, и мягкая, мечтательная Мари — уже давно не встречаются с людьми. «Юная бабушка» Юнна и безвозрастная Мари вежливо отменяют походы в гости, сославшись на то, что к ним вечером придет Фасбиндер — такая только им двоим понятная игра. Ведь на другом конце телефонного провода не знают, кто такой Фасбиндер! Разговоры в гостях им кажутся пустой болтовней, диалоги же в фильмах — взвешенными и наполненными смыслом.
Каждый вечер, в определенное время, на видеомагнитофоне зажигается красный огонек. К ним приходят Трюффо, Бергман, Ренуар, Висконти, Уайлдер… Если Мари еще думает и вспоминает о «мире без кино», оставленном ими, о походах в гости и дружеских беседах, то Юнна вполне удовлетворена своей видеоманией, граничащей со снобизмом и мизантропией. Финал новеллы возвращает главных героинь к реальному, казалось бы, обыденному событию, вызывающему у них искреннее, живое чувство сострадания. Финал-рекурсия. Быть может, так заканчивались сотни фильмов, которые они просмотрели за свою жизнь. Настает время гасить красный индикатор видеомагнитофона и зажигать другой огонек — последней за сегодняшний день сигареты.
— Знаешь, перед сном, — сказала Мари, — я больше размышляю о фильме, который ты мне показывала, чем обо всем том, что меня тревожит, я имею в виду предстоящие мне необходимые дела и все совершенные мной же глупости… Кажется, словно твои фильмы отняли у меня чувство ответственности.
- Кшиштоф Кесьлевский. О себе. — М.: Новое Издательство, 2010. — 132 с.
 Тонкая книга в аскетичной обложке с названием синего цвета и синими размытыми на фото огоньками заблаговременно отсылает к одному из главных фильмов Кесьлевского «Три цвета: Синий», о котором, в том числе, будет рассказано в отдельной главе. Режиссер посвятит читателя в съемочный процесс своих кинокартин и поведает истории, связанные с ними, начиная с первой (документальной) «Из города Лодзь» и заканчивая последней — знаменитой «цветной» трилогией.
Тонкая книга в аскетичной обложке с названием синего цвета и синими размытыми на фото огоньками заблаговременно отсылает к одному из главных фильмов Кесьлевского «Три цвета: Синий», о котором, в том числе, будет рассказано в отдельной главе. Режиссер посвятит читателя в съемочный процесс своих кинокартин и поведает истории, связанные с ними, начиная с первой (документальной) «Из города Лодзь» и заканчивая последней — знаменитой «цветной» трилогией.
Бедное детство, туберкулез отца на протяжении двадцати лет, юность в социалистической Польше, уход от армии, лечение в психиатрическом диспансере, учеба в пожарном училище — непростой путь, ведущий Кесьлевского к свободе и его истинному призванию.
В киношколе, куда он поступил только с третьей попытки, ему дали прозвище Орнитолог — за большое терпение и усердие. Несмотря на то, что в книге преобладает меланхолический оттенок, в ней немало тонкого юмора. Автор сравнивает Польшу и Америку, говорит об их различиях и вспоминает забавные казусы, случившиеся с ним при общении с американцами.
Честная, открытая и вместе с тем скромная история (в книге есть целая глава под названием «Я не люблю слово „успех“») великого польского режиссера ничем не уступает его кинематографическим шедеврам.
В жизни очень многое зависит от того, кто в детстве давал нам за столом по рукам. То есть, кем был отец, кем — бабушка, кем — прадед. Откуда мы вообще взялись. Это очень важно. И тот, кто давал тебе по рукам за столом, когда тебе было четыре, и тот, кто потом положил тебе возле кровати или под елку твою первую книжку.
- Пол Кронин. Знакомьтесь — Вернер Херцог. — М.: Rosebud Publishing: Пост Модерн Текнолоджи, 2010. — 400 с.
 Вернер Херцог — фундаментальный немецкий режиссер, Робинзон в кинематографе, бесстрашный авантюрист и выдумщик. Человек, который впервые попробовал бананы в двенадцать лет, в семнадцать — поговорил по телефону, а в девятнадцать — снял свой первый фильм. Конечно, многие, услышав его имя, говорят: «А, это режиссер, перетащивший пароход через гору в джунглях и подвергший своих актеров гипнозу?..» Конкистадоры, романтики, пилигримы, одержимые безумцы — герои его фильмов — не более выдуманы, чем все его истории о путешествиях и приключениях, отображенные в книге Пола Кронина. Она побуждает к действию — будь то изучение языков или путешествие пешком до соседнего города — и, как минимум, к просмотру большей части фильмов Херцога. Фильмов, в которых грань между документальностью и художественностью почти размыта, а правда и вымысел чудесным образом соединяются в одно.
Вернер Херцог — фундаментальный немецкий режиссер, Робинзон в кинематографе, бесстрашный авантюрист и выдумщик. Человек, который впервые попробовал бананы в двенадцать лет, в семнадцать — поговорил по телефону, а в девятнадцать — снял свой первый фильм. Конечно, многие, услышав его имя, говорят: «А, это режиссер, перетащивший пароход через гору в джунглях и подвергший своих актеров гипнозу?..» Конкистадоры, романтики, пилигримы, одержимые безумцы — герои его фильмов — не более выдуманы, чем все его истории о путешествиях и приключениях, отображенные в книге Пола Кронина. Она побуждает к действию — будь то изучение языков или путешествие пешком до соседнего города — и, как минимум, к просмотру большей части фильмов Херцога. Фильмов, в которых грань между документальностью и художественностью почти размыта, а правда и вымысел чудесным образом соединяются в одно.
Выражение лица Херцога всегда неизменно и безэмоционально, оно похоже на древнюю маску. Не случайно на съемках фильма «Фицкарральдо» индейцы боялись именно его — как они говорили: «потому что он был всегда спокоен и молчалив», — а не взрывного и сумасбродного Клауса Кински.
Из Херцога получился бы отличный писатель: его рассказы пульсируют жизнью, они детальны и благодаря этим деталям крепко заседают в голове. Кинокартины Херцога — оттиск последней правды и того архаичного, чудовищного, великого и первобытного, из чего рождается правда. Поэтому очень легко проследить этапы трансформации человечества и цивилизации в ретроспективе его фильмов. Последний документальный фильм «О, Интернет! Грезы цифрового мира» — глобальный и ужасающий, потому что реку не повернуть вспять, и после появления интернета мир уже не будет прежним. Или будет?
В возрасте шести лет Херцог лежал в больнице и к нему никто не приходил. Он вытащил из больничного одеяла нитку и восемь дней играл с ней. Впоследствии он вспоминал, что ему совсем не было скучно, «потому что эта нитка скрывала в себе множество сказочных историй».
Возможно, он до сих пор играет с этой ниткой.
Вот, наверное, самый ценный совет, который я могу дать тем, кто собирается заниматься кино: пока вы молоды и сильны, пока можете добывать деньги физическим трудом — не занимайтесь офисной работой. И остерегайтесь как огня ужасающе бессмысленных секретарских должностей в кинокомпаниях. Изучайте реальный мир, поработайте на бойне, в стрип-баре вышибалой, надзирателем в психушке.
Кадр на обложке статьи: «Патерсон», режиссер Джим Джармуш
Натали Трелковски






 Продолжение истории о бизнесмене Сергее Знаеве, знакомом читателям по роману 2009 года «Готовься к войне». Теперь у Знаева финансовые и семейные проблемы, жить ему скучно, он много пьет. Герой неравнодушен к политике — и рвется отправиться на Донбасс. Закончится все, правда, более прозаично. Самая громкая мартовская новинка главного поставщика современной русской литературы отнюдь не однозначна; впрочем, какой однозначности стоит ожидать от сценариста блокбастера «Викинг»?
Продолжение истории о бизнесмене Сергее Знаеве, знакомом читателям по роману 2009 года «Готовься к войне». Теперь у Знаева финансовые и семейные проблемы, жить ему скучно, он много пьет. Герой неравнодушен к политике — и рвется отправиться на Донбасс. Закончится все, правда, более прозаично. Самая громкая мартовская новинка главного поставщика современной русской литературы отнюдь не однозначна; впрочем, какой однозначности стоит ожидать от сценариста блокбастера «Викинг»? «Искальщик» — это изданное посмертно произведение Маргариты Хемлин, скончавшейся в 2015 году. Как отметила Алла Хемлин, это книга о людях в таких обстоятельствах, «где выжить можно, жить — нельзя». Время действия романа — 1917–1924 годы, место действия — украинская провинция, наделенная чертами еврейских местечек. Отправляясь на поиски клада, герои вместо приключений получают какой-то морок. Формально это история о попытке раскрыть некую тайну. И у тайны в романе два синонима: интерес и стыд.
«Искальщик» — это изданное посмертно произведение Маргариты Хемлин, скончавшейся в 2015 году. Как отметила Алла Хемлин, это книга о людях в таких обстоятельствах, «где выжить можно, жить — нельзя». Время действия романа — 1917–1924 годы, место действия — украинская провинция, наделенная чертами еврейских местечек. Отправляясь на поиски клада, герои вместо приключений получают какой-то морок. Формально это история о попытке раскрыть некую тайну. И у тайны в романе два синонима: интерес и стыд. У повести узбекского писателя Тагая Мурада три переводчика: Герман Власов, Вадим Муратханов и Сухбат Афлатуни. Они взялись представить российскому читателю творчество этого чуткого писателя-деревенщика, скончавшегося в 2003 году. «Тарлан» написан достаточно давно, еще в 1979 году. Другое время, другой язык, другая страна, какая-то нетипичная экзотика: Тарланом зовут коня главного героя, Зиядуллы-плешивого. Эта история о дружбе с лошадью в финале оборачивается разочарованием в дружбе человеческой.
У повести узбекского писателя Тагая Мурада три переводчика: Герман Власов, Вадим Муратханов и Сухбат Афлатуни. Они взялись представить российскому читателю творчество этого чуткого писателя-деревенщика, скончавшегося в 2003 году. «Тарлан» написан достаточно давно, еще в 1979 году. Другое время, другой язык, другая страна, какая-то нетипичная экзотика: Тарланом зовут коня главного героя, Зиядуллы-плешивого. Эта история о дружбе с лошадью в финале оборачивается разочарованием в дружбе человеческой. Анастасия Завозова как-то назвала англичанку Скарлетт Томас «милейшим собеседником». Писательница создает роман и сама словно удивляется ему, оттого в книге появляются вроде и нетипичные отрывки: Томас то строит закрученный сюжет, то решает размеренно поговорить о техниках медитации или — вдруг — о квантовой физике. «Орхидея…» — ироничная и загадочная семейная сага о наследстве в виде стручков с семенами, обещающими просветление.
Анастасия Завозова как-то назвала англичанку Скарлетт Томас «милейшим собеседником». Писательница создает роман и сама словно удивляется ему, оттого в книге появляются вроде и нетипичные отрывки: Томас то строит закрученный сюжет, то решает размеренно поговорить о техниках медитации или — вдруг — о квантовой физике. «Орхидея…» — ироничная и загадочная семейная сага о наследстве в виде стручков с семенами, обещающими просветление. Историю еще одной семьи написал лауреат Пулитцеровской премии Майкл Шейбон. Прототипом героя стал дед автора. Однако Шейбон не остановился на известных ему фактах и додумал примерно половину истории. Писатель не впервые ходит на границе фантазии и реальности, но на этот раз его интересует еще и проблема воспоминаний. «Что мы помним о близких людях?» — задается вопросом автор, отправляя своего деда тем временем преследовать конструктора военной техники и минировать мосты.
Историю еще одной семьи написал лауреат Пулитцеровской премии Майкл Шейбон. Прототипом героя стал дед автора. Однако Шейбон не остановился на известных ему фактах и додумал примерно половину истории. Писатель не впервые ходит на границе фантазии и реальности, но на этот раз его интересует еще и проблема воспоминаний. «Что мы помним о близких людях?» — задается вопросом автор, отправляя своего деда тем временем преследовать конструктора военной техники и минировать мосты. Книга преподавателя Мичиганского университета Ирины Аристарховой рассматривает проблемы репродуктивности, а также отношения к ней медицины и общества. Автор расскажет, как закрепилась теория о борьбе эмбриона с материнским организмом, а также рассмотрит новые практики рождения. Издательство Ивана Лимбаха позиционирует книгу как важнейшую новинку весны — трудно не согласиться: это первое на русском языке осмысление темы с точки зрения философа.
Книга преподавателя Мичиганского университета Ирины Аристарховой рассматривает проблемы репродуктивности, а также отношения к ней медицины и общества. Автор расскажет, как закрепилась теория о борьбе эмбриона с материнским организмом, а также рассмотрит новые практики рождения. Издательство Ивана Лимбаха позиционирует книгу как важнейшую новинку весны — трудно не согласиться: это первое на русском языке осмысление темы с точки зрения философа. Пока выпуск второй части романа Алексея Иванова «Тобол» откладывается, из типографии выходят созданные вместе с продюсером писателя Юлией Зайцевой «Дебри». Это все та же история Сибири, только представленная в нон-фикшен формате. Все герои знакомы — причем как главные, так и второстепенные, — однако их жизни формирует уже не фантазия романиста, а исключительно история. «Дебри» — это матрица «Тобола». «Дебри» — это также демонстрация доверия к читателю, приоткрытая дверь в мастерскую автора.
Пока выпуск второй части романа Алексея Иванова «Тобол» откладывается, из типографии выходят созданные вместе с продюсером писателя Юлией Зайцевой «Дебри». Это все та же история Сибири, только представленная в нон-фикшен формате. Все герои знакомы — причем как главные, так и второстепенные, — однако их жизни формирует уже не фантазия романиста, а исключительно история. «Дебри» — это матрица «Тобола». «Дебри» — это также демонстрация доверия к читателю, приоткрытая дверь в мастерскую автора. Труд японской исследовательницы о цепочках купли-продажи гриба мацутакэ перевела Шаши Мартынова, а отредактировал Макс Немцов. Подзаголовок книги немного расширяет «грибную» тему разговора — «О возможностях жизни на руинах капитализма». Одна из целей текста, как утверждает Мартынова, — доказать, что человек не главный продукт прогресса. Аргументируя эту теорию, Лёвенхаупт Цзин опирается на историю, экономику, биологию и генетику — в общем, весьма разносторонне описывает жизнь одного гриба.
Труд японской исследовательницы о цепочках купли-продажи гриба мацутакэ перевела Шаши Мартынова, а отредактировал Макс Немцов. Подзаголовок книги немного расширяет «грибную» тему разговора — «О возможностях жизни на руинах капитализма». Одна из целей текста, как утверждает Мартынова, — доказать, что человек не главный продукт прогресса. Аргументируя эту теорию, Лёвенхаупт Цзин опирается на историю, экономику, биологию и генетику — в общем, весьма разносторонне описывает жизнь одного гриба. По всему СССР работали магазины «Березка», где некоторые люди имели право купить импортные товары. Это при том, что валютные операции с долларами считались уголовным преступлением. Так магазины «Березка» стали одновременно и эталоном потребления, и примером социальной несправедливости. В книге Анны Ивановой описаны категории граждан, имевших доступ к сделкам, приведены интервью с работниками и покупателями, а также раскрыты причины появления таких торговых точек.
По всему СССР работали магазины «Березка», где некоторые люди имели право купить импортные товары. Это при том, что валютные операции с долларами считались уголовным преступлением. Так магазины «Березка» стали одновременно и эталоном потребления, и примером социальной несправедливости. В книге Анны Ивановой описаны категории граждан, имевших доступ к сделкам, приведены интервью с работниками и покупателями, а также раскрыты причины появления таких торговых точек. Все любят еду, все полюбят и читать про еду. Тем более когда она представляется чем-то большим, чем просто необходимостью. Автор книги считает, что современную цивилизацию определили два фактора: голод и вкус еды. Том Нилон фокусируется на том, как связаны Французская революция и столовые приборы, лимонад и чума, толщина приготовленных блюд и колониализм, — и не забывает пошутить. Помимо этого, книга иллюстрирована материалами из Британской библиотеки — «Альпина» издаст своего рода живописный «инстаграм еды» на двести с лишним страниц.
Все любят еду, все полюбят и читать про еду. Тем более когда она представляется чем-то большим, чем просто необходимостью. Автор книги считает, что современную цивилизацию определили два фактора: голод и вкус еды. Том Нилон фокусируется на том, как связаны Французская революция и столовые приборы, лимонад и чума, толщина приготовленных блюд и колониализм, — и не забывает пошутить. Помимо этого, книга иллюстрирована материалами из Британской библиотеки — «Альпина» издаст своего рода живописный «инстаграм еды» на двести с лишним страниц.
 Как скроена книга — от этого зависит немало. На этот раз Антон Долин представил своеобразный творческий микс, в котором приняли участие даже поклонники Джима Джармуша. Фильмы анализируются в обратном хронологическом порядке. Автор начинает анализ с последнего фильма —
Как скроена книга — от этого зависит немало. На этот раз Антон Долин представил своеобразный творческий микс, в котором приняли участие даже поклонники Джима Джармуша. Фильмы анализируются в обратном хронологическом порядке. Автор начинает анализ с последнего фильма —  Все, что написано Туве Янссон для детей и взрослых или взрослых-детей, волшебно в своей простоте и гениально. Новелла «Видеомания», вошедшая в сборник «Честная игра», покажется очень близкой тем, кто двадцать-тридцать лет назад собирал фильмотеку, сортировал ее по странам и режиссерам, отводил для нее специальное место в своей комнате и жизни. Кто накрывал экран телевизора салфеткой и отправлялся спать с мыслями не о прошедшем дне, а о только что просмотренном кинофильме.
Все, что написано Туве Янссон для детей и взрослых или взрослых-детей, волшебно в своей простоте и гениально. Новелла «Видеомания», вошедшая в сборник «Честная игра», покажется очень близкой тем, кто двадцать-тридцать лет назад собирал фильмотеку, сортировал ее по странам и режиссерам, отводил для нее специальное место в своей комнате и жизни. Кто накрывал экран телевизора салфеткой и отправлялся спать с мыслями не о прошедшем дне, а о только что просмотренном кинофильме. Тонкая книга в аскетичной обложке с названием синего цвета и синими размытыми на фото огоньками заблаговременно отсылает к одному из главных фильмов Кесьлевского «Три цвета: Синий», о котором, в том числе, будет рассказано в отдельной главе. Режиссер посвятит читателя в съемочный процесс своих кинокартин и поведает истории, связанные с ними, начиная с первой (документальной) «Из города Лодзь» и заканчивая последней — знаменитой «цветной» трилогией.
Тонкая книга в аскетичной обложке с названием синего цвета и синими размытыми на фото огоньками заблаговременно отсылает к одному из главных фильмов Кесьлевского «Три цвета: Синий», о котором, в том числе, будет рассказано в отдельной главе. Режиссер посвятит читателя в съемочный процесс своих кинокартин и поведает истории, связанные с ними, начиная с первой (документальной) «Из города Лодзь» и заканчивая последней — знаменитой «цветной» трилогией. Вернер Херцог — фундаментальный немецкий режиссер, Робинзон в кинематографе, бесстрашный авантюрист и выдумщик. Человек, который впервые попробовал бананы в двенадцать лет, в семнадцать — поговорил по телефону, а в девятнадцать — снял свой первый фильм. Конечно, многие, услышав его имя, говорят: «А, это режиссер, перетащивший пароход через гору в джунглях и подвергший своих актеров гипнозу?..» Конкистадоры, романтики, пилигримы, одержимые безумцы — герои его фильмов — не более выдуманы, чем все его истории о путешествиях и приключениях, отображенные в книге Пола Кронина. Она побуждает к действию — будь то изучение языков или путешествие пешком до соседнего города — и, как минимум, к просмотру большей части фильмов Херцога. Фильмов, в которых грань между документальностью и художественностью почти размыта, а правда и вымысел чудесным образом соединяются в одно.
Вернер Херцог — фундаментальный немецкий режиссер, Робинзон в кинематографе, бесстрашный авантюрист и выдумщик. Человек, который впервые попробовал бананы в двенадцать лет, в семнадцать — поговорил по телефону, а в девятнадцать — снял свой первый фильм. Конечно, многие, услышав его имя, говорят: «А, это режиссер, перетащивший пароход через гору в джунглях и подвергший своих актеров гипнозу?..» Конкистадоры, романтики, пилигримы, одержимые безумцы — герои его фильмов — не более выдуманы, чем все его истории о путешествиях и приключениях, отображенные в книге Пола Кронина. Она побуждает к действию — будь то изучение языков или путешествие пешком до соседнего города — и, как минимум, к просмотру большей части фильмов Херцога. Фильмов, в которых грань между документальностью и художественностью почти размыта, а правда и вымысел чудесным образом соединяются в одно.