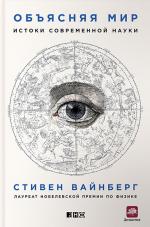- Симонов К. М. Симонов и война / Составление и подготовка к публикации — А. К. Симонова. — М.: Время, 2016. — 768. с.
Издание «Симонов и война» подготовлено к столетию автора. В него вошла последняя книга писателя «Глазами человека моего поколения», надиктованная им в последние месяцы жизни, а также материалы бесед с маршалами Жуковым, Коневым, Василевским, адмиралом Исаковым, генерал-лейтенантом Лукиным. Особый интерес представляет раздел книги, названный «В меру моего разумения» — в него включены письма из особой папки, материалы которой практически не были опубликованы. Константин Симонов хранил в ней рассуждения о стихах, размышления в связи с созданием документальных фильмов о войне и экранизацией произведений автора, письма, связанные с попытками напечатать дневники войны, восстанавливавшие или утверждавшие справедливость к воевавшим.
Главному редактору издательства «Советский писатель» В. М. Карповой
Уважаемая Валентина Михайловна!
Получив Ваше письмо о рукописи И. Эренбурга «Летопись
мужества», адресованное одному из нас и извещающее,
что издательство не могло принять к изданию этот сборник, мы, два секретаря Союза писателей СССР, два военных корреспондента, неплохо знающих и что такое в ней
место Ильи Эренбурга, просим Вас в корне пересмотреть
свое неправильное решение.Прежде чем писать Вам это свое письмо-рецензию, к которому, как мы надеемся, Вы отнесетесь с не меньшим вниманием, чем к рецензиям Г. Владимирова и П. Жилина, мы
оба вновь внимательно прочитали рукопись сборника статей И. Эренбурга «Летопись мужества» и изучили отзывы
и рецензентов издательства А. Дымшица и Л. Кудреватых,
предлагающих издать книгу, и отзывы П. Жилина и Г. Владимирова, предлагающих не издавать ее.Мы подтверждаем свое ранее сложившееся мнение, что
сборник статей И. Эренбурга следует непременно издать,
а отзывы рецензентов, возражающих против этого, считаем необоснованными.Почему мы так считаем?
Во-первых, статьи И. Эренбурга доносят до нас живое
дыхание тех трудных, но героических дней. Людям молодым, не пережившим войну, они откроют много нового,
им неизвестного. Людей нашего поколения они многое
заставят вспомнить — нельзя без волнения читать эти
статьи. Во-вторых, издать этот сборник — наш долг по отношению к памяти писателя, так много сделавшего для
победы над фашистскими захватчиками. И нас радует, что
все рецензенты — пусть некоторые только в придаточных
предложениях — высоко оценивают значение публицистики Эренбурга военных лет, потому что в последнее время
появились статьи некоторых заушателей (например, статья П. Глинкина в «Молодой гвардии», 1970, № 5), готовых пересмотреть всё и вся и объясняющих нам, хорошо
помнящим это время, что выступления Эренбурга, оказывается, чуть ли не приносили вред воюющему народу!
И думается, волокита с публикацией сборника возникла
не без воздействия такого рода настроений. В-третьих,
страстный и антифашистский, и патриотический пафос
этих статей Эренбурга делает их актуальными и сегодня.
Не сомневаемся, что в такого рода показе звериного облика фашизма, в проповеди непримиримой ненависти
к фашистской идеологии и «практике» заинтересованы
и наши друзья в ГДР, решительно боровшиеся с наследием
фашизма, и прогрессивные круги в ФРГ, ведущие и сейчас
трудную борьбу с теми, кто стремится возродить фашизм
и милитаризм.И последнее. В известном смысле эти статьи Эренбурга уникальны. Дело в том, что в годы войны по дипломатическим соображениям наша печать почти не выступала
по поводу таких вопросов, как затяжка открытия второго
фронта и размеры той помощи, которую оказывали нам союзники. Эренбург пишет об этом из статьи в статью с поразительной для того времени прямотой и резкостью — неслучайно у него возникали конфликты с западной прессой
(поэтому, кстати, вызывают, по меньшей мере, удивление
некоторые места в отзывах рецензентов, которые, по-видимому, хотят, чтобы Эренбург в те годы писал об этом
в тех формулировках, которые мы употребляем сейчас,
в ряде случаев они просто не улавливают убийственно
иронического тона — например, когда Эренбург пишет
о «дружественных неточностях» некоторых газет союзников и т. п.). Эти статьи Эренбурга весьма актуальны и потому, что противостоят фальсификаторам истории Второй
мировой войны и показывают, что не только сегодня, но
и тогда мы отлично понимали, какую «игру» ведут некоторые политические деятели союзнических стран.А теперь мы вынуждены чуть подробнее остановиться
на одном положении рецензентов П. Жилина и Г. Владимирова. Это их главный аргумент против издания сборника. Однако выдвинутое ими положение касается не только
данного сборника Эренбурга, но большей части того, что
создано нашей литературой в дни войны. В рукописи почти всюду подчеркнуто как «крамольное» слово «немцы» —
это, считают рецензенты, может оскорбить наших товарищей в ГДР и наших друзей в ФРГ и осложнить даже наши
отношения с этими государствами. Однако правда есть
правда, и с нами воевали не фашисты, прибывшие с Марса, а немецкие фашисты, мы сражались с армией, которая
не состояла из одних членов национал-социалистической
партии. Если следовать требованию, выдвигаемому П. Жилиным и Г. Владимировым, очень многое из того, что было
создано в дни войны, заслуженно переиздается и читается
сейчас (и во многих случаях переведено на немецкий язык
и в ГДР, и в ФРГ), надо просто пустить под нож. И «Наука
ненависти» М. Шолохова (там ведь говорится: «Все мы поняли, что имеем дело не с людьми, а какими-то осатаневшими от крови собачьими выродками. Оказалось, что немцы
с такой же тщательностью, с какой когда-то делали станки
и машины, теперь убивают, насилуют и казнят наших людей».), и «Рассказы Ивана Сударева» А. Толстого («А хорошо бы вот так — тюкать и тюкать колуном по немецким
головам, чтобы кололись они, как стеклянные…»), и повесть Б. Горбатова «Алексей Кулиев, боец» («Эх, немец,
немец! — произнес он сквозь зубы. — Добрый я. Это ты
верно угадал. Ко всякому живому существу добрый я человек. Но только ты мне под руку не попадайся. Эй, не
попадайся! К тебе у меня доброты нет».), и очерк А. Платонова «Внутри немца» («Все лучшее, что было когда-то
в Германии, теперь от них ушло; то, что не успело уйти, то
умерщвлено или обездушено до степени идиотизма. Немецкая земля обеспложена господством тиранов; в ней
не осталось сил не только на большое творческое дело,
но даже на то, чтобы создать в грамотной форме свою
последнюю, предсмертную мечту».), и известную статью
В. Вишневского «Говорит советский народ» («Известна методичность немцев. Но кто доподлинно знал, что и в дело
истребления они внесли методичность, леденящую сердце».). <…>Наши товарищи в ГДР и друзья в ФРГ, которых так
боятся обидеть эти рецензенты, постоянно пишут об ответственности немецкого народа, которого гитлеровцы
заставили вести страшную и злодейскую войну. Конечно,
не может быть огульных обвинений и одинаковой ответственности, главная ответственность за кровавые злодеяния падает на руководителей Третьего рейха, на активных
нацистов, но это не снимает ответственности и с тех, кто
служил в армии, кто активно поддерживал гитлеровский
режим. И нам сегодня нечего «стыдится» своей ненависти к захватчикам, призывов уничтожать захватчиков —
они не были антигуманными. И статьи Эренбурга — как
и многие другие произведения военных лет, призывающие
«убить немца», который пришел на нашу землю как завоеватель с оружием в руках. Это даже специальных разъяснений не требует.Нельзя согласиться также с тем, что эти же рецензенты
считают предосудительным даже упоминания о том, что
на стороне гитлеровской Германии против нас воевали
Финляндия, Румыния, Венгрия, Словакия — как будто бы
это может бросить тень на нынешний строй в этих странах, где, кстати, эта неприглядная страница истории не замалчивается, а получает соответствующую оценку.И совсем уж невозможно понять, как некоторые места
в статьях Эренбурга, где он показывает звериный облик
нацистов, расовую теорию «на практике», где цитирует
фашистов, с пренебрежением и издевкой говорящих о других народах, даже о своих сателлитах (с. 26, 40, 41, 81, 108,
114, 130), — как эти места могут трактоваться рецензентами как оскорбительные для национального достоинства
немцев и этих народов. Особенно поражает, что так трактуются даже те места (с. 217, 160), где Гитлер сравнивается
со зверем.Совершенно не обоснован также упрек одного из рецензентов, что переписка Эренбурга с зарубежными издателями, цитируемая составителем в предисловии, наводит
на мысль: «а почему не могут иметь сейчас аналогичной
„свободы“ те, кто тайком переправляет свои рукописи за
рубеж». Эренбург не только не посылал своих статей «тайком», он делал это дело, считавшееся тогда государственно
важным, через Совинформбюро, и ни давление, ни заигрывание зарубежных издателей (о чем и свидетельствует
цитируемая переписка) не могли заставить его отказаться
от весьма неприятного союзникам резкого разговора о затяжке второго фронта, от полемики с выступлениями, носившими антисоветский или примирительный по отношению к гитлеровцам характер.Странным выглядит и другой упрек — за то, что Эренбург весной 1942 года выражал надежду, что лето 42-го
года сложится на фронте иначе, чем оно сложилось, — мы
все тогда жили верой в лучшее (не уверены даже, что это
надо как-то специально оговаривать), или за то, что он,
кстати не один он, поверил слухам о смерти Леона Блюма
в фашистском лагере (это надо оговорить или в предисловии, или в примечании), но это не может быть препятствием для публикации соответствующих статей.Нам кажется, что деловая и вполне реальная программа
редакционной работы над рукописью содержится в отзывах Л. Кудреватых и прежде всего в подробнейшем отзыве
А. Дымшица, одного из крупнейших наших германистов,
человека, пользующегося большим авторитетом в ГДР и отлично знающего, какие в этом деле могут быть реальные
опасности, а какие мнимые. Большинство замечаний этих
рецензентов вполне разумны, и к ним следует прислушаться.Для того чтобы успокоить других рецензентов, мы считаем возможным кое-где в рукописи заменить слово «немец»
или «немецкий» на «фашист», «гитлеровец» или «гитлеровский», «фашистский» и т. д. Тогда сразу же отпадает по меньшей мере 90 процентов их замечаний. Мы это вправе сделать.
Во-первых, подобная замена нигде не искажает и не меняет
смысла того, что писал Эренбург. Уверены, что сам Илья Григорьевич, если бы его об этом попросили, это бы сделал —
конечно, в рамках разумных, если бы от него не требовали
исправить «немецкие трупы» на «фашистские трупы» или
вообще слов «немец», «немецкий» не употреблять.Как и все мы, писатели и читатели, Эренбург в ту пору
пользовался этими словами — «немцы», «фашисты», «гитлеровцы» — сплошь и рядом как синонимами. Об этом неопровержимо свидетельствует и рукопись — совершенно
очевидно, что большей частью выбор того или иного слова
диктуется соображениями исключительно вкусовыми или
стилистическими. Во-вторых, эти статьи Эренбурга на русском языке не появлялись — они известны только в переводах, которые делались у нас, в Советском Союзе, переводчиками Совинформбюро. Переводчики тоже всеми
этими словами пользовались как синонимами. И если бы
кому-нибудь пришла бы в голову мысль (в чем мы очень
сомневаемся) сличать статьи в сборнике на русском языке
с их переводами военного времени, то это не дало бы никакого «крамольного» результата, так как, повторяем, слова
эти всеми и в живой речи, и в газетах, и в литературе —
употреблялись как синонимы.Комиссия по литературному наследию Эренбурга считает также минимальные редакционные коррективы закономерными и не противоречащими воле писателя. Она,
как это положено в таких случаях, примет соответствующее постановление и запротоколирует необходимые купюры и синонимические замены.Теперь о повторах. Сами по себе они нас нисколько не
смущают — что за беда, что Эренбург дважды поминает
о взорванном Днепрогэсе и московских воробьях, дважды
обращается к истории французского писателя Дриё ля Рошеля или дважды цитирует письмо ленинградского мальчика. Читатель, который имеет представление, с каким
напряжением работал Эренбург в дни войны, удивится не
тому, что их так мало. Но можно — это вопрос не принципиальный — и убрать повторы, сделать купюры, оговорив
это в предисловии…Предисловие Л. Лазарева «От составителя» нам кажется
дельным и хорошо аргументированным, оно верно объясняет и характер книги, и ее актуальное значение, — расширить и доработать его можно по справедливым замечаниям
А. Дымшица. Если издательство захочет, можно кроме этого предисловия снабдить книгу вступительным словом писателя, чье имя и творчество связано с войной, — в данном
случае именно писателя, а не военачальника, потому что
сборник Эренбурга состоит не из исторических очерков,
а из публицистических статей. Такого рода вступительное
слово мог бы написать А. Сурков, С. С. Смирнов или один
из нас, подписавших настоящее письмо-рецензию.Может быть, некоторые имена и события, которые поминает Эренбург, следует, имея в виду молодого писателя, сопроводить примечаниями. Это вопрос тоже не принципиальный, и издательство вполне может решить его с составителем.
Надо подчеркнуть, что часть предлагаемых издательству материалов уже опубликована. К 25-летию Победы
«Вопросы литературы» (1970, № 5) напечатали подборку
(три с лишним печатных листа) статей Эренбурга из предлагаемого издательству сборника с предисловием, которое
представляет вариант того, что открывает сборник «Летопись мужества».К 30-летию начала войны «Юность» (1971, № 6) тоже
напечатала подборку статей (свыше печатного листа)
с предисловием К. Симонова. Обе подборки с интересом
встречены читателями и уже получили международный
резонанс. Например, пражский еженедельник «Творба»
поместил статью Я. Секеры (от 26 сентября 1970 г.), в которой подчеркивается, что статьи Эренбурга, опубликованные через четверть века, не утратили таких качеств,
как политическая актуальность и острота, они и сегодня
наносят мощный удар по буржуазным фальсификаторам
истории Второй мировой войны.В заключение этого отзыва мы хотим процитировать
слова, которые один из нас написал, а другой напечатал
в журнале «Юность» и которые выражают нашу общую
оценку предложенной издательству рукописи: «Собранные
все вместе, эти статьи, написанные им для зарубежной печати, составят замечательный том, которым по праву будет
гордиться наша русская советская публицистика как своего
рода писательским подвигом, совершенным в годы войны».Б. Полевой, секретарь Правления СП СССР,
зампредседателя Комиссии по литнаследству И. Г. Эренбурга
К. Симонов, секретарь Правления СП СССР[Без даты]
Рубрика: Отрывки
Олег Лекманов. Осип Мандельштам: ворованный воздух
- Олег Лекманов. Осип Мандельштам: ворованный воздух. — М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2015. — 464 с.
В Редакции Елены Шубиной выходит книга известного филолога и специалиста по акмеизму Олега Лекманова. Эта наиболее полная биография Осипа Мандельштама выдержала три русских издания в серии «ЖЗЛ» и одно американское. Книга мастерски соединяется «внешнюю» и «внутреннюю» биографию поэта. Исследователь органично вплетает в ткань своего повествования анализ стихов, а также малоизвестные факты, по-своему интерпретирует, казалось бы, уже закостеневшие сведения, дает слово непосредственным свидетелям и участникам судьбы поэта — Н. Я. Мандельштам, А. Ахматовой, Э. Герштейн и другим.
Портрет Мандельштама — жителя Дома искусств — превратился в едва ли не обязательный атрибут многочисленных мемуаров о литературном и окололитературном быте
Петрограда начала 20-х годов. Именно тогда в сознании
большинства современников за Мандельштамом окончательно закрепилась репутация «ходячего анекдота»1 —
«чудака с оттопыренными красными ушами»2, «похожего на Дон Кихота»3, — «сумасшедшего и невообразимо
забавного»4. Можно только догадываться, скольких душевных мук стоила Мандельштаму подобная репутация.
«Такое отношение допускало известную фамильярность в
обращении, — писала Эмма Герштейн. — Но он же знал,
что его единственный в своем роде интеллект и поэтический гений заслуживает почтительного преклонения.
Эта дисгармония была источником постоянных страданий
Осипа Мандельштама»5. «Почему-то все, более или менее
близко знавшие Мандельштама, звали его „Оськой“, — недоумевал Николай Пунин. — А между тем он был обидчив и
торжественен; торжественность, пожалуй, даже была самой
характерной чертой его духовного строя»6.Зато именно в описываемый период автор «Камня» приобрел в глазах широкой публики, а не только друзей-акмеистов, статус поэта-мастера. 22 октября 1920 года он читал
свои новые стихи в Клубе поэтов на Литейном проспекте.
Эти стихи впервые были по достоинству оценены Александром Блоком. Вспоминает Надежда Павлович: «С первого
взгляда, лицо Мандельштама не поражало. Худой, с мелкими
неправильными чертами… Но вот он начал читать, нараспев и
слегка ритмически покачиваясь. Мы с Блоком сидели рядом.
Вдруг он тихонько тронул меня за рукав и показал глазами на
лицо Осипа Эмильевича. Я никогда не видела, чтобы человеческое лицо так изменялось от вдохновения и самозабвения»7.
А сам Блок внес в дневник следующую запись: «Гвоздь вечера — И. Мандельштам, который приехал, побывав во врангелевской тюрьме. Он очень вырос. Сначала невыносимо
слушать общегумилевское распевание. Постепенно привыкаешь, «жидочек» прячется, виден артист. Его стихи возникают
из снов — очень своеобразных, лежащих в областях искусства
только. Гумилев определяет его путь: от иррационального к
рациональному (противуположность моему). Его <стихотворение> «Венеция»»8. Характеристика «человек-артист» на
языке Блока была едва ли не самой высшей из всех возможных похвал.Пройдет не так уж много времени, и в литературном приложении к газете «Накануне» от 18 июня 1922 года появится
такой отзыв о поэте: «По общему мнению, последние стихи
Мандельштама — изумительное явление в современной русской литературе, аналогичное только разве прозе Андрея
Белого»9.Стихотворения, которые Мандельштам читал в Клубе
поэтов в октябре 1920 года, восхитили и молодую актрису
Александринского театра Ольгу Николаевну Арбенину-Гильдебрандт (1897/98—1980): «Я его стихи до этого не особенно
любила («Камень»), они мне казались неподвижными и сухими <…>. Когда произошло его первое выступление (в Доме
литераторов), я была потрясена! Стихи были на самую мне
близкую тему: Греция и море!.. «Одиссей… пространством и
временем полный…» Это был шквал. Очень понравилась мне
и «Венеция»»10.«Я обращалась с ним, как с хорошей подругой, которая все
понимает. И о религии, и о флиртах, и о книгах, и о еде, — пишет далее Арбенина. — Он любил детей и как будто видел во
мне ребенка. И еще — как это ни странно, что-то вроде принцессы — вот эта почтительность мне очень нравилась. Я никогда не помню никакой насмешки, или раздражения, или
замечаний — он на все был «согласен» <…>. О своем прошлом
М. говорил, главным образом, о своих увлечениях. Зельманова, М. Цветаева, Саломея. Он указывал, какие стихи кому.
О Наденьке <…> очень нежно, но скорее как о младшей сестре. Рассказывал, как они прятались (от зеленых?) в Киеве»11.
Отметим попутно, что имени Ахматовой в приводимом Арбениной списке нет.Арбенинское идиллическое описание отразило одну сторону взаимоотношений Осипа Эмильевича и Ольги Николаевны. Другая сторона — ведомая только поэту — нашла
отражение в мандельштамовском стихотворении «Я наравне
с другими…» (1920), обращенном к Ольге Николаевне. В этом
стихотворении любовь изображена как мука, как пытка, но
мука — неизбежная и пытка — желанная:Я наравне с другими
Хочу тебе служить,
От ревности сухими
Губами ворожить.
Не утоляет слово
Мне пересохших уст,
И без тебя мне снова
Дремучий воздух пуст.Я больше не ревную,
Но я тебя хочу,
И сам себя несу я,
Как жертву палачу.
Тебя не назову я
Ни радость, ни любовь.
На дикую, чужую
Мне подменили кровь.Еще одно мгновенье,
И я скажу тебе:
Не радость, а мученье
Я нахожу в тебе.
И, словно преступленье,
Меня к тебе влечет
Искусанный в смятеньи
Вишневый нежный рот.Вернись ко мне скорее,
Мне страшно без тебя,
Я никогда сильнее
Не чувствовал тебя,
И все, чего хочу я,
Я вижу наяву.
Я больше не ревную,
Но я тебя зову12.
В конце ноября 1920 года Мандельштам написал еще одно
стихотворение, навеянное встречами с Арбениной:В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем,
И блаженное, бессмысленное слово
В первый раз произнесем.
В черном бархате советской ночи,
В бархате всемирной пустоты,
Все поют блаженных жен родные очи,
Все цветут бессмертные цветы13.
Впоследствии эти строки совсем с особым чувством станут
вспоминать те обитатели Дома искусств, которые предпочтут «бархат всемирной пустоты» «черному бархату советской
ночи». Расцитированное по десяткам эмигрантских мемуаров
о Мандельштаме, стихотворение «В Петербурге мы сойдемся
снова…» вызвало к жизни немало поэтических подражаний и
ответов. Среди лучших — лаконичное десятистишие Георгия
Иванова начала 1950-х годов:Четверть века прошло за границей,
И надеяться стало смешным.
Лучезарное небо над Ниццей
Навсегда стало небом родным.Тишина благодатного юга,
Шорох волн, золотое вино…Но поет петербургская вьюга
В занесенное снегом окно,
Что пророчество мертвого друга
Обязательно сбыться должно14.
Дом искусств служил пристанищем для Мандельштама до
начала марта 1921 года. Год спустя он самокритично признавался: «Жили мы в убогой роскоши Дома искусств, в Елисеевском доме, что выходит на Морскую, Невский и Мойку, поэты,
художники, ученые, странной семьей, полупомешанные на
пайках, одичалые и сонные. Не за что было нас кормить государству; и ничего мы не делали» (II: 246). Этот период вместил
в себя интенсивное общение Мандельштама с Гумилевым, не
слишком охотное участие в возрожденном Гумилевым «Цехе»,
а также несколько их совместных поэтических выступлений.
«Как воспоминание о пребывании Осипа в Петербурге в 1920
году, кроме изумительных стихов к Арбениной, остались еще
живые, выцветшие, как наполеоновские знамена, афиши того
времени — о вечерах поэзии, где имя Мандельштама стоит рядом с Гумилевым и Блоком»15.В марте 1921 года поэт уехал из Петрограда в Киев. Из
«Второй книги» Надежды Яковлевны: «Наша разлука с Мандельштамом длилась полтора года, за которые почти никаких известий друг от друга мы не имели. Всякая связь между
городами оборвалась. Разъехавшиеся забывали друг друга,
потому что встреча казалась непредставимой. У нас случайно вышло не так. Мандельштам вернулся в Москву с Эренбургами. Он поехал в Петербург и, прощаясь, попросил Любу
<Козинцеву-Эренбург>, чтобы она узнала, где я. В январе
Люба написала ему, что я на месте, в Киеве, и дала мой новый
адрес — нас успели выселить. В марте он приехал за мной —
Люба и сейчас называет себя моей свахой. Мандельштам вошел в пустую квартиру, из которой накануне еще раз выселили моих родителей — это было второе по счету выселение.
В ту минуту, когда он вошел, в квартиру ворвалась толпа арестанток, которых под конвоем пригнали мыть полы, потому
что квартиру отводили какому-то начальству. Мы не обратили ни малейшего внимания ни на арестанток, ни на солдат
и просидели еще часа два в комнате, уже мне не принадлежавшей. Ругались арестантки, матюгались солдаты, но мы
не уходили. Он прочел мне груду стихов и сказал, что теперь
уж наверное увезет меня. Потом мы спустились в нижнюю
квартиру, где отвели комнаты моим родителям. Через две-три
недели мы вместе выехали на север. С тех пор мы больше не
расставались»16.
1 Одоевцева И. На берегах Невы. С. 144.
2 Мандельштам в архиве Э.Ф. Голлербаха // Слово и судьба. Осип
Мандельштам. С. 105.3 Минчковский А. Он был таким // Александр Прокофьев: вспоминают друзья. М., 1977. С. 106.
4 Оношкович-Яцына А. Дневник 1919–1927 // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 13. М.; СПб., 1993. С. 398.
5 Герштейн Э. Мемуары. С. 12.
6 Цит. по: Парнис А.Е. Штрихи к футуристическому портрету
О.Э. Мандельштама. С. 190.7 Павлович Н. Воспоминания об Александре Блоке // Прометей.
Вып. 11. М., 1977. С. 234.8 Цит. по: Гришунин А.Л. Блок и Мандельштам // Слово и судьба.
Осип Мандельштам. С. 155. Во всех изданиях дневника Блока эта запись
купирована.9 Цит. по: Летопись. С. 225. «Превосходными» в 1921 г. назовет мандельштамовские стихи Михаил Слонимский (Сл[онимский] М. Дракон
// Жизнь искусства. 1921. 9—10—11 марта. С. 2). В качестве «свадебного
генерала» Мандельштам будет упомянут в одной из рецензий на сборник
«Всероссийского Союза поэтов» (Д. В. [Рец. на кн.: Союз поэтов. Сб. 2.
М., 1922] // Петербург. 1922. № 2. С. 21.). Ср., впрочем, в другом отзыве чуть более раннего времени: «В стихах О. Мандельштама все более и
более утрачивается внутренняя связь между строками, отчего стихотворение превращается в случайный конгломерат рифмованных строк, не
слитых воедино ни грамматически, ни логически» (Свентицкий А. Стихомания наших дней // Вестник литературы. 1921. № 6/7. С. 7).10 Арбенина О. О Мандельштаме // Тыняновский сборник. Шестые—
Седьмые—Восьмые Тыняновские чтения. М., 1998. С. 549. Оценку мандельштамовской «Венеции» см. также в заметке Льва Лунца 1922 года:
«Здесь, а не у Андрея Белого, настоящая музыка стиха, — не в симфониях, не в грубых, бросающихся в глаза внутренних рифмах, а в этом, может
быть, бессмысленном, но прекрасном сочетании звуков» (цит. по: Лунц
Л. Литературное наследие. М., 2007. С. 343).11 Арбенина О. О Мандельштаме. С. 549–550.
12 Подробнее об этом стихотворении см.: Лекманов О.А. На подступах
к стихотворению О. Мандельштама «Когда б я уголь взял для высшей
похвалы…» // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2001. Т. 60. № 1.
С. 64–65.13 Подробнее об этом стихотворении см., например: Malmstad J.
A Note on Mandelstam’s «V Peterburge my sojdemsia snova» // Russian
Literature. 1977. № 5. P. 193–199.14 Подробнее о стихотворении Мандельштама и эмигрантской поэзии см.: Тименчик Р.Д., Хазан В.И. «На земле была одна столица…» //
Петербург в поэзии русской эмиграции. СПб., 2006. С. 55.15 Ахматова А. Листки из дневника. С. 128–129.
16 Мандельштам Н. Вторая книга. С. 28.
Джон Бойн. Мальчик на вершине горы
- Джон Бойн. Мальчик на вершине горы / Пер. с англ. Марии Спивак. — М.: Фантом Пресс, 2016. — 336 с.
Новый роман автора «Мальчика в полосатой пижаме». В Париже живет обычный мальчик Пьеро. Мама у него француженка, а папа — немец. Папа прошел Первую мировую и был навсегда травмирован душевно. И хотя дома у Пьеро не все ладно, он счастлив. Родители его обожают, у него есть лучший друг Аншель, с которым он общается на языке жестов. Но этот уютный мир вот-вот исчезнет. На дворе вторая половина 1930-х. И вскоре Пьеро окажется в Австрии, в чудесном доме на вершине горы.
Пронзительный, тревожный и невероятно созвучный нашему времени роман, ставший, по сути, продолжением «Мальчика в полосатой пижаме», хотя герои совсем иные.Глава 1 Три красных пятнышка на носовом платке Хотя папа Пьеро Фишера погиб не на Великой войне, мама Эмили всегда утверждала, что именно война его и убила.
Пьеро был не единственный семилетний ребенок в Париже, у кого остался только один родитель. В школе перед ним сидел мальчик, который вот уже четыре года не видал матери, сбежавшей с продавцом энциклопедий, а главный драчун и задира класса, тот, что обзывал миниатюрного Пьеро Козявкой, вообще обретался у бабки с дедом в комнатке над их табачной лавкой на авеню де ла Мот-Пике и почти все свободное время торчал у окна, бомбардируя прохожих воздушными шариками с водой и наотрез отказываясь признаваться в содеянном.
А неподалеку, на авеню Шарль-Флоке, в одном доме с Пьеро, но на первом этаже, жил его лучший друг Аншель Бронштейн с мамой, мадам Бронштейн, — папа у них утонул два года назад при попытке переплыть Ла-Манш.
Пьеро и Аншель появились на свет с разницей в неделю и выросли практически как братья — если одной маме нужно было вздремнуть, другая присматривала за обоими. Но в отличие от большинства братьев мальчики не ссорились. Аншель родился глухим, и друзья с малых лет научились свободно общаться на языке жестов, взмахами ловких пальчиков заменяя слова. Они и вместо имен выбрали себе особые жесты. Аншель присвоил Пьеро знак собаки, поскольку считал его и добрым, и верным, а Пьеро Аншелю, самому, как все говорили, сообразительному в классе, — знак лисы. Когда они обращались друг к другу, их руки выглядели так:

Они почти всегда были вместе, гоняли футбольный мяч на Марсовом поле, вместе учились читать и писать. И до того крепка стала их дружба, что, когда мальчики немного подросли, одному лишь Пьеро Аншель разрешал взглянуть на рассказы, которые писал по ночам у себя в комнате. Даже мадам Бронштейн не знала, что ее сын хочет стать писателем.
Вот это хорошо, протягивая другу стопку бумаг, показывал Пьеро; его пальцы так и порхали в воздухе. Мне понравилось про лошадь и про золото, которое нашлось в гробу. А вот это так себе, продолжал он, отдавая вторую стопку. Но только из-за твоего ужасного почерка, я не все сумел разобрать… А это, заканчивал Пьеро, размахивая третьей стопкой, как флагом на параде, это полная чушь. Это я бы на твоем месте выкинул в помойку.
Я хотел попробовать что-то новое, показывал Аншель. Он ничего не имел против критики, но не понравившиеся рассказы защищал порою довольно яростно.
Нет, возражал Пьеро, мотая головой. Это чушь. Никому не давай читать, не позорься. Подумают еще, что у тебя шарики за ролики заехали.
Пьеро тоже привлекала идея стать писателем, но ему не хватало терпения сидеть часами, выводя букву за буквой. Он предпочитал устроиться на стуле перед Аншелем и, бурно жестикулируя, выдумывать что-нибудь на ходу или описывать свои школьные эскапады. Аншель внимательно смотрел, а после, у себя дома, перекладывал его рассказы на бумагу.
— Так это я написал? — спросил Пьеро, впервые получив и прочитав готовые страницы.
— Нет, написал я, — ответил Аншель. — Но это твой рассказ.
Эмили, мать Пьеро, уже редко упоминала в разговорах отца, хотя мальчик думал о нем постоянно. Еще три года назад Вильгельм Фишер жил с семьей, но в 1933-м, когда Пьеро было почти пять лет, уехал из Парижа. Пьеро помнил, что отец был высокий и носил его по улице на плечах, а еще умел ржать как лошадь и временами даже пускался в галоп, отчего Пьеро непременно заходился в восторженном визге. Отец учил мальчика немецкому языку, чтобы тот «не забывал свои корни», и всячески помогал осваивать пианино; правда, Пьеро хорошо понимал, что по части исполнительского мастерства и в подметки папе не годится. Тот своими народными мелодиями часто доводил гостей до слез, особенно если еще и подпевал негромким, но приятным голосом, в котором звучали печаль и тоска по прошлому. Пьеро нехватку музыкальных талантов компенсировал способностями к языкам: он без труда переключался с папиного немецкого на мамин французский. А коронным его номером было исполнение «Марсельезы» по-немецки и тотчас — «Германия превыше всего» по-французски, правда, гостей это иногда огорчало.
— Больше, пожалуйста, так не делай, Пьеро, — попросила мама однажды вечером, когда его выступление привело к недоразумению с соседями. — Если хочешь быть артистом, научись чему-то другому. Жонглируй. Показывай фокусы.
Стой на голове. Что угодно, только не пой по-немецки.
— А что плохого в немецком? — удивился Пьеро.
— Да, Эмили, — подхватил папа, который весь вечер просидел в кресле в углу, выпил слишком много вина и, как обычно, впал в хандру, вспомнив о всех тех ужасах, что вечно были при нем, не оставляли, преследовали. — Что плохого в немецком?
— Тебе не кажется, что уже хватит, Вильгельм? — Мама повернулась к нему, сердито подбоченясь.
— Хватит чего? Хватит твоим друзьям оскорблять мою страну?
— Никто ее не оскорблял, — отрезала мама. — Просто люди никак не могут забыть войну, вот и все. Особенно те, чьи любимые так и остались лежать на полях сражений.
— Но при этом они вполне могут приходить в мой дом, есть мою еду и пить мое вино?
Папа дождался, пока мама уйдет на кухню, подозвал Пьеро и обнял его, привлекая к себе.
— Настанет день, и мы вернем свое, — твердо сказал он, глядя мальчику прямо в глаза. — И тогда уже не забудь, на чьей ты стороне. Да, ты родился во Франции и живешь в Париже, но ты немец до мозга костей, как и я. Помни об этом, Пьеро.
Иногда папа просыпался среди ночи от собственного крика, его вопли эхом носились по пустым и темным коридорам квартиры. Песик Пьеро по кличке Д’Артаньян в ужасе выскакивал из своей корзинки, взлетал на кровать и, дрожа всем тельцем, ввинчивался к хозяину под одеяло. Тот натягивал одеяло до подбородка и сквозь тонкие стенки слушал, как мама успокаивает папу, шепчет: все хорошо, ты дома, с семьей, это просто дурной сон.
— Да, только это не сон, — ответил как-то отец дрожащим голосом, — а гораздо хуже. Воспоминания.
Бывало, что ночью Пьеро по пути в туалет видел из коридора: отец сидит на кухне, уронив голову на деревянный стол, и еле слышно что-то бормочет, а рядом валяется пустая бутылка. Тогда мальчик хватал бутылку и босиком несся вниз, во двор, и выбрасывал бутылку в мусорный бак, чтобы мама наутро ее не нашла. И обычно, когда он возвращался, папа каким-то образом уже оказывался в постели.
На следующий день ни отец, ни сын словно бы ничего не помнили.
Но однажды Пьеро, спеша во двор со своей ночной миссией, поскользнулся на мокрой лестнице и упал; не ушибся, но бутылка разбилась, и, вставая, он наступил левой ногой на острый осколок. Морщась от боли, Пьеро вытащил стекляшку, однако из пореза так и хлынула кровь; он допрыгал до квартиры, стал искать бинт, и тут проснулся папа и понял, чему стал виной. Продезинфицировав и тщательно забинтовав рану, он усадил сына перед собой и попросил прощения за то, что столько пьет. Затем, утирая слезы, сказал Пьеро, что очень его любит и подобных историй больше не допустит.
— Я тоже тебя люблю, папа, — ответил Пьеро. — Но я люблю, когда ты катаешь меня на плечах, как лошадка. И не люблю, когда ты сидишь на кухне и не хочешь разговаривать ни со мной, ни с мамой.
— Я тоже этого не люблю, — пробормотал папа. — Но иногда меня как будто бы накрывает черная туча, из которой мне никак не выбраться. Потому я и пью. Чтобы забыть.
— Что забыть?
— Войну. Что я там видел. — Он закрыл глаза и прошептал: — Что я там делал.
Пьеро сглотнул и спросил, хотя ему уже и не хотелось знать:
— А что ты там делал?
Папа печально улыбнулся.
— Неважно что, главное — на благо своей страны, — сказал он. — Ты ведь понимаешь, да?
— Да, папа. — На самом деле Пьеро не очень-то понимал, о чем речь, но папа должен знать, какой он отважный. — Я тоже стану солдатом, чтобы ты мной гордился.
Отец посмотрел на сына и положил руку ему на плечо.
— Главное — правильно выбрать сторону, — изрек он.
И почти на два месяца забыл о бутылке. А потом столь же стремительно, как и бросил, — вернулась черная туча — запил снова.
Мишель Пастуро. Синий. История цвета
- Мишель Пастуро. Синий. История цвета / Пер. с фр. Н. Кулиш. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 144 с.
Почему общества эпохи Античности и раннего Средневековья относились к синему цвету с полным равнодушием? Почему начиная с XII века он постепенно набирает популярность во всех областях жизни, а синие тона в одежде и в бытовой культуре становятся желанными и престижными, значительно превосходя зеленые и красные? Исследование французского историка посвящено осмыслению развития отношений европейцев с синим цветом, таящей в себе немало загадок и неожиданностей. Из этой книги читатель узнает, какие социальные, моральные, художественные и религиозные ценности были связаны с ним в разное время, а также каковы его перспективы в будущем.
ГЛАВА III
ВЫСОКОМОРАЛЬНЫЙ ЦВЕТ
Цвета предписанные и цвета запретные
Посмотрим, что говорится в этих законах, декретах и предписаниях, изданных в XIV–XV веках, о цвете одежды. Во-первых, некоторые цвета объявляются запретными для той или иной социальной категории не потому, что цвета эти слишком яркие, бросающиеся в глаза, а потому, что для их получения нужныочень дорогие красители, которые могут быть использованы лишь для одежды наиболее знатных, богатых и высокопоставленных людей. Так, в Италии знаменитое «алое венецианское сукно», для окраски которого требуется дорогостоящий сорт кошенили, имеют право носить лишь владетельные князья и сановники высшего ранга. Подобным же ограничениям в Германии подверглись красные ткани, окрашенные польской кошенилью, и даже некоторые синие, особо роскошные, так называемые «павлиньи» сукна, окрашенные высококачественной тюрингенской вайдой. Таким образом, моральные ограничения касаются не самого цвета, а вещества, необходимого для его получения. Но историку, изучающему эти законы, порой нелегко понять, о чем идет речь — о цвете, о красящем веществе или об окрашенной ткани: иногда и то, и другое, и третье обозначается одним словом. Это может привести к невообразимой путанице. Например, в XV веке в текстах законов, написанных не по-латыни, а на местном наречии (на французском, немецком и голландском языках), словом «алый» иногда обозначаются все роскошные ткани, каков бы ни был их цвет, иногда — все роскошные ткани красного цвета, вне зависимости от красителя; временами это определение относится исключительно к красным тканям, окрашенным кошенилью, временами — к самому этому красителю, знаменитому и баснословно дорогому; в других случаях слово «алый» употребляется в его современном значении: яркий, красивый оттенок красного.
По всей Европе одежду дорогостоящих или слишком ярких цветов запрещается носить тем, чей облик должен быть важным и суровым: в первую очередь, конечно же, священникам, затем вдовам, судьям и чиновникам. А всем остальным запрещается носить многоцветную одежду, со слишком резким сочетанием красок, сшитую из ткани в полоску, в шашечку или в крапинку. Она считается недостойной доброго христианина.
Однако в законах против роскоши и различных декретах об одежде основное место уделяется не запретным, а предписанным цветам. Здесь уже речь идет не о качестве красителя, а о цвете как таковом, независимо от его оттенка, степени яркости или насыщенности. Предписанный цвет не должен быть нежным или блеклым, напротив, он должен бросаться в глаза, ибо это отличительный знак, эмблема позора, клеймо бесчестия, которое должны носить на себе представители особых общественных категорий, а также все презираемые и отверженные. На городских улицах их должно быть видно издалека, поэтому предписания об одежде разработаны в первую очередь для них. Для поддержания существующего порядка, для сохранения добрых нравов и обычаев, завещанных предками, необходимо отделить почтенных горожан от мужчин и женщин, которые обретаются на задворках общества, а то и за его пределами.
Перечень тех, к кому относятся такие предписания, очень длинен. Прежде всего, это мужчины и женщины, которые занимаются опасным, постыдным или просто подозрительным ремеслом: врачи и хирурги, палачи, проститутки, ростовщики, жонглеры, музыканты, нищие, бродяги и оборванцы. Затем — все те, кто был признан виновным в каком-либо проступке, от обычных пьяниц, затеявших драку на улице, до лжесвидетелей, клятвопреступников, воров и богохульников. Затем — убогие и увечные (в средневековой системе ценностей любое увечье, физическое или умственное, почиталось за великий грех): хромые, калеки, шелудивые, прокаженные, «немощные телом», а также «кретины и слабоумные». И наконец, все нехристиане, евреи и мусульмане: во многих городах и регионах существовали еврейские и мусульманские общины; особенно многочисленными они были на юге Европы. По-видимому, первые декреты о ношении одежды определенного цвета, принятые в XIII веке Четвертым Латеранским собором, предназначались именно для иноверцев. Такое решение было связано с запретом браков между христианами и нехристианами и необходимостью идентифицировать последних.
Какие бы мнения ни высказывались на этот счет, совершенно очевидно, что в западно-христианском мире не существовало единой системы цветовых отличий для определенных категорий населения. В разных городах и регионах были приняты различные системы, и даже в одном городе они с течением времени могли меняться. Например, в Милане и Нюрнберге, городах, где в XV веке были приняты многочисленные и очень подробные предписания об одежде, цвета, которые должны были носить изгои общества — проститутки, прокаженные, евреи, — менялись от поколения к поколению, а порой даже от десятилетия к десятилетию. Тем не менее здесь обнаруживается некая закономерность, о которой стоит рассказать вкратце. Дискриминационную функцию выполняют в основном пять цветов: белый, черный, красный, зеленый и желтый. Синий не фигурирует ни в одном из предписаний. Быть может, потому, что на исходе Средневековья он был слишком почитаемым и почетным цветом? Или он успел настолько распространиться, что человек в синем просто не мог привлечь к себе внимание? Или же, как я склонен думать, первые постановления о цветовых различиях в одежде (их история еще не вполне изучена) появились до Латеранского собора (1215), когда синий цвет еще не вошел в моду и его символика считалась слишком бедной, чтобы он мог служить знаком различия? Так или иначе, отсутствие синего в наборе дискриминационных цветов (как, впрочем, и в перечне цветов богослужебных) — важное свидетельство того, сколь малую роль он играл в социальных кодах и системах ценностей до XII века. С другой стороны, данное обстоятельство способствовало «моральному» возвышению синего цвета. Раз он не упоминается ни в предписаниях, ни в запретах, значит, синюю одежду может носить каждый, свободно и без всяких опасений. Возможно, именно поэтому мужчины и женщины все чаще начинают одеваться в синее.
И еще несколько слов о дискриминационных или позорных цветах. Как правило, цветовым знаком различия служили элементы одежды: нашивки в виде крестов или кружков, повязки, шарфы, ленты, чепцы, перчатки, накидки с капюшоном. Эти знаки бывали и одноцветными, но чаще двухцветными. В последнем случае указанные пять цветов использовались во всех возможных сочетаниях, однако наиболее распространенными комбинациями были следующие: красный и белый, красный и желтый, белый и черный, желтый и зеленый. Двухцветный знак имел вид двухчастного гербового щита, разделенного по вертикали, горизонтали или диагонали, или с полосой посредине. Если знак был трехцветный, в нем могли сочетаться только красный, желтый и зеленый: в Средние века они считались кричащими цветами, а их сочетание несло в себе идею многоцветности, почти всегда понимаемой как нечто принижающее.
Если попытаться установить, какие цвета присваивались той или иной категории изгоев, то при известном упрощении можно заметить, что белый и черный, по отдельности или в сочетании, были отличительными знаками убогих и калек (особенно прокаженных), по красному знаку узнавали палачей и проституток, по желтому — фальшивомонетчиков, еретиков и евреев; зеленые или желто-зеленые знаки носили музыканты, жонглеры, шуты и умалишенные. Но есть и множество других примеров. Так, знаком проститутки (который должен был не только отпугивать добродетельных граждан, но и привлекать сборщиков налогов) чаще всего служил красный цвет (в разных городах и в разные десятилетия это могли быть красное платье, пояс, шарф, накидка или плащ). Однако в Лондоне и в Бристоле в конце XIV века проститутку можно было отличить от порядочной женщины по одежде из полосатой, разноцветной ткани. Несколькими годами позднее такой же отличительный знак носили проститутки в Лангедоке. А вот в Венеции в 1407 году эту роль выполнял желтый шарф; в Милане в 1412 году — белый плащ; в Кельне в 1423 году — красно-белый пояс; в Болонье в 1456 году — зеленый шарф; в том же Милане, но в 1498 году — черный плащ; в Севилье в 1502 году — зелено-желтые рукава. Единого правила не существует. Иногда проститутку можно узнать не по цвету, а по некоторым деталям одежды. Например, в 1375 году в Кастре такая деталь — мужская шляпа.
Знаки, которые предписывалось носить евреям, были еще разнообразнее: на сегодняшний день они мало изучены. Вопреки мнению многих авторов, здесь тоже не было единой системы, распространяющейся на весь западно-христианский мир или хотя бы надолго закрепившейся в той или иной стране, том или ином регионе. Конечно, в итоге победа осталась за желтым цветом, который в иконографии традиционно ассоциируется с иудейством; однако в течение долгого времени евреям предписывали носить или одноцветные знаки — красные, белые, зеленые, черные, — или двухцветные: желто-зеленые, желто-красные, красно-белые, бело-черные. Сочетаний множество, форма знака тоже разная: это может быть кружок, нашитый на одежду (самый частый случай), кольцо, звезда, нечто, напоминающее по виду скрижали Завета, или просто шарф, а иногда даже крест. Если знак нашивался на одежду, то он мог располагаться на плече, на груди, на шляпе и чепце, а порой на нескольких местах сразу. Здесь опять-таки нельзя доказать наличие какого-либо общего принципа. Бесспорным остается только одно: синий цвет никогда не использовался в качестве позорного или дискриминирующего.
От модного черного до высокоморального синего
Вернемся к черному цвету, который в середине XIV века неожиданно вошел в моду. По-видимому, причиной этому стали законы против роскоши и предписания об одежде, о которых только что шла речь. Мода на черное впервые появилась в Италии среди одного лишь городского населения. Некоторые представители патрициата, а также богатые купцы, еще не успевшие подняться на вершину социальной лестницы, не имели права носить одежду из роскошных красных (как, например, алое венецианское сукно) или ярко-синих (как флорентийское «павлинье» сукно) тканей. Поэтому, возможно, в знак молчаливого протеста, они завели привычку одеваться в черное. Черный цвет тогда считался скромным и отнюдь не почетным. Но эти люди богаты: они требуют, чтобы портные или суконщики достали им черные ткани более привлекательного вида, более яркой и прочной окраски. Чтобы удовлетворить требования богатых и щедрых заказчиков, суконщики обращаются за помощью к красильщикам. В результате за сравнительно недолгое время, в 1360–1380-е годы, мастерам удается изобрести новую технику крашения. И возникает мода на черный цвет. Благодаря этой моде патриции смогут, не нарушая законов и предписаний, одеваться по собственному вкусу. А еще новая мода позволит им обойти другой запрет, действующий во многих городах: запрет на ношение роскошных мехов, таких как соболь, самый дорогой и самый черный из всех, а следовательно, предназначенный для одних лишь монархов. И наконец, она даст им возможность при исполнении официальных обязанностей появляться перед людьми в строгом и полном достоинства одеянии. Очень скоро моду патрициев и богатых купцов подхватят и другие классы общества. Первыми это сделают европейские монархи. Уже в конце XIV века черная одежда появляется в гардеробе герцога Миланского, графа Савойского, а также властителей Мантуи, Феррары, Римини, Урбино. В начале следующего столетия новая мода перешагнет границы Италии: короли и принцы других стран оденутся в черное. Раньше всего это произойдет во Франции и Англии, а немногим позже — в Германии и Испании. При французском дворе черная одежда появляется в период душевной болезни короля Карла VI; впервые ее наденут дяди короля, возможно, под влиянием его невестки Валентины Висконти, дочери герцога Миланского, которая привезла с собой обычаи своей родины. Но решающую победу черный цвет одержит несколько десятилетий спустя, в 1419–1420 годах, когда юный принц, коему суждено стать самым могущественным государем Европы, оденется в черное: будущий герцог Бургундии Филипп Добрый сохранит верность этому цвету на всю жизнь.
Многие хронисты отмечали у Филиппа эту привязанность к черному и объясняли ее тем, что герцог носил траур по отцу, Жану Бесстрашному, убитому в 1419 году на мосту в Монтеро. Это, безусловно, так, однако следует учесть, что сам Жан Бесстрашный постоянно носил черное — после крестового похода, в котором он участвовал и который завершился поражением христиан в битве при Никополе в 1396 году. Очевидно, сразу несколько факторов — династическая традиция, мода княжеских дворов, политические события и личные обстоятельства — привели к тому, что Филипп Добрый стал одеваться в черное. Авторитет герцога обеспечил черному цвету окончательную победу во всей Западной Европе.
В самом деле, XV век стал веком славы черного цвета. Вплоть до 1480-х годов не было такого короля или владетельного князя, в чьем гардеробе не хранилось бы изрядное количество черной одежды из шерсти и шелка, а также мехов. Порой одежда бывала сплошь черной, а порой черный цвет в ней сочетался с каким-нибудь другим, обычно белым или серым. Ибо XV век, век славы черного и других темных цветов, стал также веком возвышения серого. Впервые в истории западноевропейского костюма этот цвет, прежде использовавшийся для рабочей одежды и для одежды бедняков, стал считаться изысканным, соблазнительным, даже разнузданным. Долгие годы у серого было два венценосных поклонника: Рене Анжуйский и Карл Орлеанский. Оба они, как в своих стихах, так и в гардеробе, часто противопоставляли серый черному. Черный связан с трауром и меланхолией; серый, напротив, — символ надежды и радости. Об этом поется в песне Карла Орлеанского, герцога и поэта «с сердцем, одетым в черное», который двадцать пять лет провел в английском плену: «Оказавшись вне пределов Франции, за горами Монсени, он не утратил надежду, вот почему он одет в серое».
Мода на черное не проходит ни после смерти в 1477 году последнего герцога Бургундского, Карла Смелого (он тоже часто одевался в черное), ни даже после завершения XV века.В следующем столетии популярность черного возрастет чуть ли не вдвое. Помимо того что короли и владетельные князья сохранят верность черному (черный цвет в придворном костюме продержится еще очень долго, кое-где до середины XVII века), этот цвет сохранится в одежде священников, чиновников и судей, всех тех, у кого он, по уже сложившейся традиции, символизирует высокую нравственность. Реформация считает черный самым достойным, самым добродетельным, глубоко христианским цветом; а со временем протестанты приравняют к черному другой цвет, цвет честности, умеренности, цвет неба и одухотворенности: синий.
Майя и другие
- Майя и другие. — М.: АСТ, 2015. — 376 с.
Сборник «Майя и другие» из совместной книжной серии журнала «Сноб» и издательства «АСТ» посвящается Майе Плисецкой. Великая балерина и удивительная женщина, она была и остается прекрасной победительницей, обладавшей неповторимым даром быть самой собой в любых обстоятельствах, при любой системе, и на любых сценах мира. История Плисецкой — один из самых притягательных мифов ХХ века, в котором сошлись и отразились судьбы многих ее современниц. Среди авторов этой книги — Элизабет Тейлор, Рената Литвинова, Марлен Дитрих, Симона Синьоре. «Майя и другие» — это еще одна попытка узнать и полюбить их заново. По традиции в сборник включен и обширный раздел современной прозы, представленный именами Татьяны Толстой, Людмилы Петрушевской, Михаила Шишкина, Александра Кабакова, Марины Степновой и других.
Сергей Николаевич
МАЙЯ НАВСЕГДАВ детстве я больше всего боялся, что никогда не увижу
ее на сцене. Все-таки ей уже было немало лет, и все ее
ровесницы давно сидели по домам или вели кружки
бальных танцев при домах культуры. А она продолжала танцевать Одетту-Одиллию, Кармен и другие
заглавные балетные партии. Случалось это, правда, довольно
редко. Большую часть сезона она проводила где-то далеко, на
гастролях, за границей, откуда то и дело доносились победные
фанфары. Программа «Время» подробно рапортовала об очередной победе советского балета и его главной звезды, народной артистки СССР, лауреата Ленинской премии и т.д. Отсюда
и стойкой ощущение, что она не здесь, не с нами. Что в любой
момент может улететь, исчезнуть, истаять в воздухе, как виллиса
из второго акта «Жизели». Ведь танцевала же она Мирту, повелительницу виллис. И, говорят, гениально. Только никто этого уже не помнил, кроме старичков-балетоманов, так давно это
было. В общем, надо ловить момент.Я ходил мимо белых простыней театральных афиш, расклеенных по Кутузовскому проспекту, вчитывался в списки действующих лиц и исполнителей (тогда за месяц вперед вывешивали все балетные и оперные составы). Как правило, не находил
ее имени и со спокойной душой отправлялся в школу, утешая
себя, что наша встреча просто откладывается на неопределенное
время.Но однажды произошло то, на что я уже перестал надеяться: афиша извещала, что 6 апреля 1972 года состоится спектакль
«Анна Каренина». В главной роли она! Первая мысль — попрошу денег у мамы и сам поеду к кассам КДС и Большого. Однажды я уже стоял в длинной очереди, извивавшейся по подземному переходу к станции метро «Библиотека им. Ленина». Вполне
себе была приличная и, я бы даже сказал, одухотворенная очередь. Не за паласами стояли пять часов, за билетами в Большой.
Правда, когда, наконец, меня допустили к заветному окошку,
выяснилось, что больше половины названий из списка вычеркнута. Осталась одна только «Иоланта».— Но это же опера! — взвыл я.
— А на балет билетов нет, — срифмовала кассирша. — Кончились!
Так я и ушел с ненужными мне билетами на «Иоланту»
и с чувством, что хоть ночь напролет стой у этих дверей, никогда ничего тебе тут не обломится. В общем, ехать туда было бессмысленно. Знакомых в театральном мире у нас с мамой не было.
Оставался единственный шанс — пострелять лишний билетик
перед самим спектаклем. Это потом я овладел этим нехитрым искусством: посмотреть весело, улыбнулся дружелюбно и, придав
голосу самый вкрадчивый и нежный обертон, спросить: «У вас не
будет лишнего билета?» Но в 13 лет я стоял около обезвоженного
бронзового фонтана в своей куртке на вырост, дубина дубиной,
и смотрел, как мама носится по пыльному скверу, приставая к незнакомым людям с просьбой о билете на «Анну Каренину». Теперь я понимаю, что в этой сцене было что-то от Достоевского:
тень бездомной Катерины Ивановны Мармеладовой витала над
нами, пробуждая то надежду, то отчаянье, то вызывая истерический хохот. Колонны Большого театра еле удерживали неистовый людской поток, рвавшийся к парадным дверям. Тогда еще не
было металлоискателей и такого количества полиции, как сейчас. Стояли одни бывалые капельдинерши с программками. Но
пройти мимо них не замеченным было невозможно.В какой-то момент рядом с нами как будто из воздуха материализовался некий господин в котелке.
— У вас есть билет? — спросила мама и вцепилась в его рукав.
— Нет, но я могу вас провести в театр, — сказал господин,
понизив голос до шепота.— Не меня, сына, сына! — не веря своему счастью, взмолилась мама.
— Давайте сына.
— Сколько?
— Десять.
Мама достала розовую десятку с Лениным и отдала господину.
— Иди с ним, — скомандовала она.
Я пошел. Впереди маячило серое пальто и импортный котелок. Людские волны то прибивали меня к нему, и тогда я слышал
запах его сладкого импортного одеколона, то разлучали, и мне
казалось, что он сейчас исчезнет с нашей десяткой навсегда.Господин оглянулся на меня только один раз, когда мы подходили к барьеру, отделявшему счастливых обладателей билетов
от бушующего безбилетного моря. Невидимый кивок седой
капельдинерше. Колючий взгляд в ответ. Она сделала вид, что
меня не видит.— А теперь марш на четвертый ярус, — прошептал одними
губами господин и исчез, так же как появился.Я буквально взлетел на последний ярус. Но там меня под-
жидало дикое разочарование. Краешек сцены, открывавшийся
моему биноклю, был не больше спичечного коробка. Я спустился в бельэтаж в надежде пристроиться в одну из лож. «Ваш
билет?» — спрашивали меня служительницы с ключом наготове. Все двери были наглухо закрыты. Звучал уже третий звонок,
и опоздавшие зрители пробирались на свои законные места,
а я все тыркался в запертые двери. Потом меня долго преследовал один и тот же сон: я в пустом театре, звучит увертюра,
и я никак не могу попасть в зал, где сейчас должен начаться главный спектакль в моей жизни. И все, что мне дано увидеть, — это
только гаснущие огни люстры в какой-то полуоткрытой створке
немедленно захлопнувшейся двери.Я поднялся на свой третий ярус. Там было душно и тесно.
Я бросил на пол сумку, которая была со мной. А когда совсем потушили свет, встал на нее на колени. Теперь я мог видеть не только оркестровую яму и край сцены, но и кусок золотого занавеса,
подсвеченного огнями рампы. Потом все погрузилось в кромешную тьму, под музыку занавес торжественно двинулся в разные
стороны, открывая вид на пустоватую сцену с падающим бутафорским снегом, железнодорожными фонарями и группой артистов, которые что-то старательно выделывали ногами, изображая
светское общение на вокзальном перроне. А потом я увидел ее.ОГОНЬ НА ПЛОЩАДИ
Когда спустя тридцать четыре года в парижском кафе De La Paix
я рассказывал Майе Михайловне Плисецкой о том, при каких
обстоятельствах я впервые увидел ее, она почему-то совсем не
растрогалась и не умилилась. Мне даже показалось, что мой рассказ ее немного расстроил. Полагаю, что за свою жизнь она слышала что-то подобное не один раз. Все эти чужие инфантильные переживания оставляли ее в лучшем случае равнодушной.
В худшем — раздражали. То, что я так долго и любовно описывал, принадлежало ее давнему, глубоко спрятанному и уже почти
забытому прошлому. А прошлое ее совсем не интересовало. Вот
ни в каком виде! Она никогда им не жила, не дорожила и, похоже, не очень-то его любила.Как все звезды, вышедшие на пенсию, она отдала ему дань,
написав свою страстную и пристрастную исповедь «Я, Майя
Плисецкая», а спустя тринадцать лет даже присовокупила к нему
еще что-то вроде обличительного постскриптума «Тридцать лет
спустя». Но это было вынужденное занятие от невозможности
чем-то еще занять себя, идущее от этой ее извечной жажды справедливости и чувства собственной правоты, которую уже никто
не пытался опровергнуть, но и не спешил подтвердить.Всей правды она сказать не могла, но и та, которую выдала
в писательском запале, задела многих. Обиделась родня, которую
она не пощадила, особенно девяностолетнюю тетку Суламифь
Мессерер. Обиделись бывшие товарки по Большому театру за
иногда небрежный, насмешливый тон. Обиделось семейство
Катанянов за отсутствие ожидаемого панегирика в адрес Лили
Брик. Точнее других резюмировала балерина Наталья Макарова,
поклонница и почитательница М. М.: «Ей не надо было писать
эту книгу. Понимаете, до этих мемуаров мы думали, что она —
богиня. А теперь знаем, что она такая же, как и мы».И все-таки нет! Другая. Непредсказуемая, изменчивая, при-
страстная, заряжающая всех вокруг своей неистребимой энергией, этим электричеством отчаянья и надежды. Где бы она ни
появлялась, все взгляды прикованы к ней. Что бы ни говорила,
всегда воцарялась какая-то предобморочная тишина, будто это
не артистка балета, а пифия пророчествует и колдует прямо перед телекамерами.Сама М. М. относилась к любым проявлениям массового
психоза без всякого трепета. Мол, ну что опять от меня все хотят? «Мы, балетные, чуть лучше цирковых» (ее фраза!). В смысле, не ждите от нее каких-то философских прозрений и открытий. Любые восторги в свой адрес мгновенно гасила иронией
или находчивой шуткой. Из всех слышанных комплиментов
чаще всего цитировала слова академика П. Капицы, сказавшего
ей после просмотра фильма-балета «Болеро»: «Майя, таких женщин, как вы, в средние века сжигали на площади».Ей нравилось играть с огнем. Она сама была огонь. И ее непокорные кудри, полыхавшие в молодые годы рыжим костром,
способны были опалить любую самую скучную классику, поджечь самый рутинный спектакль, озарить самую унылую жизнь.Может быть, поэтому ее любили так, как не любили никого
и никогда из наших балетных звезд. Она была нашей свободой,
гордостью, infant terrible, даже когда стала пенсионеркой всесоюзного значения.До последнего часа в ней оставалось что-то неисправимо
девчоночье, делавшее смешными и прелестными ее кокетливые
эскапады, ее гримасы, ее шутки на грани фола. И даже в том, как
она ела, ловко помогая себе пальцами, словно белочка лапками,
было что-то очень трогательное и милое.Ну да, конечно, до нее и долгое время рядом была Галина
Сергеевна Уланова. Великая молчальница, балерина безмолвных
пауз и выстраданных поз, окруженная беспримерным поклонением и почитанием. Первая из советских балерин, познавшая на
себе «бедствие всеобщего обожания» (Б. Ахмадулина). Но там все
другое: загробная тишина, молитвенно сложенные руки, взгляд,
устремленный или в небо, или опущенный долу, как на портретах
средневековых мадонн, с которых она копировала свою Джульетту.А Майя — это всегда взгляд в упор. Глаза в глаза, как в «Кармен-сюите», когда кажется, что она сейчас прожжет белое трико
тореро, танцующего перед ней свой любовный монолог.Видела всех насквозь. Даже сама этого дара немного пугалась.
«Ну зачем Z мне врет и думает, что я этого не понимаю?» — говорила она об одной нашей общей знакомой.Обмануть ее было невозможно, юлить перед ней — бессмысленно. И даже когда делала вид, что не понимает — возраст, проблемы со слухом, нежелание обижать, — все видела,
слышала, обо всем имела свое мнение. И не слишком церемонилась, чтобы высказать его вслух.Финальный жест из «Болеро» — нате вам, берите, всей раскрытой ладонью вперед прямо в зал, — это тоже Плисецкая, не
привыкшая ничего скрывать, никого бояться. А сама больше
всего на свете любила дарить, одаривать, отдавать. В балетной
истории навсегда останется эпизод, когда она пришла за кулисы
к Сильви Гиллем, тогда еще юной, нескладной, но безоговорочно гениальной. Вынула из ушей бриллиантовые серьги и отдала
их ошеломленной француженке.— Это бижу? — пролепетала Сильви, не сразу сообразив,
что держит в руках увесистые шесть каратов.— Бижу, бижу… Носите на здоровье, — улыбнулась Майя.
На самом деле у этих бриллиантов был нехилый провенанс.
Их получила на свою свадьбу с Осей Бриком в качестве подарка от свекра юная Лиля Каган. Не носила никогда, хранила про
черный день. Бог миловал, день этот Лилю, похоже, при всех
разнообразных ужасах нашей жизни миновал, а вот у Майи был
совершенно отчаянный период, когда ее не выпускали за границу, день и ночь под ее окнами дежурила гэбешная машина,
и настроение было такое, что прям хоть сейчас в петлю. В один
из таких дней Лиля Юрьевна достала из потертого бархатного
футляра заветные брюлики и подарила их Майе с тем же напутствием: «Носите на здоровье».— Если честно, я дорогие украшения никогда не любила, —
признавалась она мне много позже. — Во-первых, это вечные
нервы. Положила, спрятала, перепрятала. Куда? Забыла, уже
пора на сцену. Возвращаешься, кольцо исчезло. Где кольцо? Нет
кольца. Это ж театр! Какие замки ни ставь, каких охранников
ни заводи, а если кому-то очень надо, все равно упрут. Во-вторых, меня это как-то психологически угнетало. Вот сидишь на
каком-нибудь приеме и думаешь только о том, что сейчас на
тебе надета половина квартиры, или новая машина, или какая-нибудь крыша для дачи, которая протекает и ее пора ремонтировать. И как-то от этих мыслей не по себе становится. Вот
Галя Вишневская разные бриллиантовые люстры в ушах обожала. И носила с удовольствием, насверкалась ими всласть. А мне
недавно Щедрин купил самые простые пластиковые часы с черным циферблатом и большими белыми цифрами, чтобы глаза
не ломать, и счастливее меня не было никого.Вкусы, надо сказать, у нее были самые демократические.
Могла гулять по Парижу с дешевой пластиковой сумкой Tati
(«А почему нет? Я там кучу всего полезного покупала и себе,
и в дом»). Могла бесстрашно признаться, что набрала лишних
два килограмма («Друзья из Испании прислали нам целую ножищу хамона. Просто не было сил оторваться! Так вкусно!»). Из
всего российского глянца предпочитала «Gala Биография», который регулярно покупала в Шереметево («Очень познавательный журнал. Мы там с Родионом Константиновичем столько
про себя нового узнали!»).Мне нравилось в ней это отсутствие всякой претензии.
Она, которая как никто умела принимать самые красивые позы
на сцене, в жизни их старательно избегала. Точно так же легко обходилась без нарядов haute couture, парадных лимузинов,
дорогих интерьеров — всего того, что ей полагалось по праву планетарной звезды и дивы. Единственная роскошь, в которой Майя не могла себе отказать, — это духи. Вначале любила
Bandit Piguet и долго хранила им верность. Потом, когда духи
перекупили американцы и, как ей показалось, изменили классическую рецептуру, перешла на Fracas той же марки. Пронзительный, тревожащий, драматичный аромат с душной нотой
туберозы. Я отчетливо слышал его, когда она приглашала меня
на свои чествования в разные посольства, где ей вручали очередные правительственные ордена. Можно было не видеть, где
она находится, но нельзя было не уловить аромат Fracas. Она
была где-то близко, совсем рядом. По заведенному ритуалу все
приглашенные, покорно внимавшие речам послов и других
начальников, напоминали мне тот самый кордебалет из первого акта «Анны Карениной», который предварял своим танцем
выход главной героини на заснеженный московский перрон.
Собственно, мы и были этим самым кордебалетом, не слишком
уже молодым, но приодевшимся и приосанившимся по случаю
праздника нашей Королевы. А она, как всегда, была самой молодой и красивой.
Стивен Вайнберг. Объясняя мир. Истоки современной науки
- Стивен Вайнберг. Объясняя мир. Истоки современной науки. — М.: Альпина нон-фикшн, 2016. — 474 с.
Книга одного из самых известных ученых современности, нобелевского лауреата по физике, доктора философии Стивена Вайнберга — захватывающая и энциклопедически полная история науки. Это фундаментальный труд о том, как рождались и развивались современные научные знания, двигаясь от простого коллекционирования фактов к точным методам познания окружающего мира. Один из самых известных мыслителей сегодняшнего дня проведет нас по интереснейшему пути — от древних греков до нашей эры, через развитие науки в арабском и европейском мире в Средние века, к научной революции XVI–XVII веков и далее к Ньютону, Эйнштейну, стандартной модели, гравитации и теории струн. Эта книга для всех, кому интересна история, современное состояние науки и те пути, по которым она будет развиваться в будущем.
Часть 1. Физика в Древней Греции
Глава 4. Эллинистическая физика и техника
После смерти Александра Македонского его империя развалилась на несколько частей. С точки зрения истории науки наибольший интерес из образовавшихся в тот момент государств
представляет Египет. Там правила династия царей греческого
происхождения, которую основал Птолемей I, один из главных военачальников армии Александра. Закончилась династия
на Птолемее XV, сыне Клеопатры и (возможно) Юлия Цезаря.
Последний из царствовавших Птолемеев был убит вскоре после
поражения флота Антония и Клеопатры у мыса Акциум в 31 г.
до н. э., после чего Египет был поглощен Римской империей.Эпоху от Александра до битвы при Акциуме1
принято называть Эллинистическим периодом. Это понятие (в немецком
языке — Hellenismus) было введено в употребление в 1830-х гг.
Иоганном Гюставом Дройзеном. Не уверен, так ли задумал
Дройзен, но, с моей точки зрения, по-английски слова с суффиксом «-ический» звучат как понятия с оттенком вторичности,
в отличие от слов без него. Например, «архаический» используется для имитации чего-либо из эпохи архаики, и в этом отношении напрашивается мысль, что эллинистическая культура была
вторична по отношению к культуре непосредственно Эллады,
как если бы она лишь воспроизводила достижения Классического периода, длившегося с V по I в. до н. э. Эти достижения
действительно были значительны, особенно в области геометрии, драматического искусства, историографии, архитектуры,
скульптуры и, возможно, в иных областях искусства Классического периода, таких как музыка или живопись, которые
не дошли до нашего времени. Но именно наука достигла в Эллинистический период таких высот, которые не только затмили
научные успехи Классической эры, но и не были превзойдены
вплоть до научной революции XVI–XVII вв.Особенно важным центром науки эллинизма был город
Александрия, столица династии Птолемеев, основанная самим
Александром недалеко от устья Нила. Александрия стала крупнейшим городом в греческом мире, и даже потом, в Римской
империи, уступая размером и роскошью лишь самому Риму.Около 300 г. до н. э. Птолемей I основал Александрийский
Мусейон — им стала часть царского дворца. Вначале Музей,
названный так, потому что был посвящен девяти музам, был
местом, где изучали литературу и языки. Но после восшествия
на престол Птолемея II в 285 г. до н. э. он превратился также
и в центр по изучению наук. Над литературой знатоки продолжали работать и в Музее, и в Александрийской библиотеке,
но теперь в Музее муза астрономии Урания засияла ярче своих
сестер, отвечающих за различные искусства. Музей и наука
Древней Греции пережили падение династии Птолемеев, и,
как мы увидим, некоторые наиболее значительные достижения
в науке совершались в греческой половине Римской империи —
в основном в Александрии.Миграция интеллектуалов того времени между Египтом
и греческой метрополией напоминала миграцию между Америкой и Европой в XX в.2
Богатство Египта и щедрость по отношению к грамотным людям, по крайней мере первых трех правителей из династии Птолемеев, привлекали в Александрию уже
прославившихся в Афинах ученых, точно так же как Америка
притягивала к себе европейскую интеллигенцию начиная с 30-х
годов XX в. и по сей день. Начиная с 300 г. до н. э. бывший участник афинского Ликея Деметрий Фалерский стал первым директором Музея, перевезя в него свою афинскую библиотеку. Примерно тогда же Птолемей I вызвал из Афин другого участника
Ликея, Стратона из Лампсака, чтобы тот стал учителем его сына.
Возможно, именно ему принадлежит заслуга в том, что Музей
превратился в научный центр после того, как сын Птолемея
унаследовал престол.Путешествие морем из Афин в Александрию в эпоху эллинизма и во времена Рима занимало примерно то же время, какое
требовалось пароходу в XX в., чтобы дойти из Ливерпуля в Нью-
Йорк. Поэтому люди массово перемещались в обоих направлениях между Египтом и Грецией. К примеру, Стратон не остался
в Египте насовсем — он вернулся в Афины, чтобы стать третьим
главой Ликея.Стратон был ученым-наблюдателем. Он сумел установить,
что падающие тела движутся вниз с ускорением, наблюдая,
как ведет себя струя воды, стекающей с крыши во время дождя,
когда она разбивается на отдельные капли. Он заметил, что эти
капли удаляются друг от друга по мере падения. Так происходит
потому, что капля в нижней части струи падает дольше и в силу
того, что ускоряется, проходит большее расстояние, чем непосредственно следующая за ней капля, которая в тот же момент
времени падала не столь долго (см. техническое замечание 7).
Также Стратон обратил внимание, что тело, падающее с небольшой высоты, лишь слегка ударяется о землю, тогда как оно же,
упавшее со значительной высоты, бьется о землю гораздо сильнее, и это означает, что его скорость увеличивается за время
падения3
.Вероятно, не случайно Александрия, как и другие центры
древнегреческой натуральной философии — Милет и Афины,
была и центром коммерции. Оживленный рынок привлекает выходцев из иных культур и вносит разнообразие в сельское хозяйство. Коммерческие связи Александрии простира-
лись очень далеко: товары из Индии попадали морским путем
в Средиземноморье, путешествуя на судах через Аравийское
море, далее — на север вдоль Красного моря, потом караваном
до Нила и затем вниз по реке до Александрии.Однако в интеллектуальном климате Афин и Александрии
были существенные различия. В частности, ученые из Музея
обычно не занимались созданием всеобъемлющих теорий, так
привлекавших греческих мыслителей от Фалеса до Аристотеля.
Как отмечает Флорис Коэн, «афиняне мыслили о всеобщем,
а александрийцы — о частном«4
. Ученые из Александрии сосредоточились на изучении отдельных явлений, в чем они действительно могли добиться реальных успехов. Их тематика включала
оптику, гидростатику и, прежде всего, астрономию — предмет
второй части этой книги.То, что древнегреческие мыслители Эллинистической
эры не пытались создать «теорию всего», вовсе не говорило
об их ущербности. И тогда, и сейчас для развития науки крайне
важно отличать, какие задачи созрели для изучения, а какие —
еще нет. Например, на рубеже XIX–XX вв. некоторые ведущие
физики того времени, такие как Хендрик Лоренц и Макс Абрахам, затратили массу усилий на то, чтобы понять структуру
открытого незадолго до того электрона . Все было напрасно:
никто не смог добиться лучшего понимания природы электрона
до тех пор, пока два десятилетия спустя не была изобретена
квантовая механика. Создание и развитие Специальной теории относительности Альбертом Эйнштейном стало возможно
благодаря тому, что он решил не принимать во внимание,
чем на самом деле являются электроны. А затем, в преклонном
возрасте, Эйнштейн обратился к вопросу объединения известных природных взаимодействий и не достиг никакого успеха,
поскольку в то время еще не было накоплено достаточно знаний для новой теории.Другое важное отличие ученых эпохи эллинизма от ученых эпохи классицизма было в том, что, в отличие от своих
предшественников, они с гораздо меньшим снобизмом относились к делению предмета науки на чистое знание как таковое и на знание, используемое в прикладных целях: в греческом языке — противопоставление понятий ἐπιστήμη и τέχνη
(в латыни — scientia и ars). История свидетельствует, что мно
гие философы рассматривали изобретателей примерно так же,
как распорядитель увеселений Филострат в шекспировской
пьесе «Сон в летнюю ночь», говоря об участниках афинской
актерской труппы: «Здешний мелкий люд, мастеровые с жесткими руками, вовек не изощрявшие мозгов». Как физик, чья
область интересов — исследование элементарных частиц и космология, не имеющая немедленного практического применения, я, разумеется, не собираюсь утверждать, что чистое знание — это что-то плохое, но проведение научных исследований
на благо человека — это чудесный способ заставить ученых
перестать витать в эмпиреях и вернуться к реальности5
.Естественно, что люди были заинтересованы в усовершенствованиях техники еще с тех времен, как научились использовать огонь для приготовления пищи и делать инструменты,
ударяя одним камнем по другому. Но устойчивый интеллектуальный снобизм таких мыслителей Классического периода,
как Платон или Аристотель, прочно отгораживал их теоретические работы от реального применения.И хотя этот предрассудок не исчез и при эллинизме, он перестал быть столь влиятельным, как раньше. Некоторые люди,
даже не аристократического происхождения, в это время смогли
прославиться, создав технические изобретения. Хорошим примером служит Ктезибий Александрийский, сын цирюльника,
который в середине III в. до н. э. изобрел гидравлические насосы
и водяные часы, измеряющие время более точно, чем их предшественники, за счет поддержания постоянного уровня жидко-
сти в сосуде-измерителе, из которого вытекала вода. Ктезибий
снискал такую известность, что его упоминал два столетия спустя римский автор Витрувий в своем трактате «Об архитектуре».Важно то, что некоторые технические изобретения века
эллинизма были созданы теми же учеными, которые занимались систематическими научными исследованиями, в свою очередь служившими почвой для изобретений. К примеру, Филон
Византийский, живший и работавший в Александрии примерно в 250 г. до н. э., был военным инженером, написавшим
сочинение под названием «Механика», посвященное устройству гаваней для судов, укреплений, осадных приспособлений и катапульт (частично его работа была основана на трудах
вышеупомянутого Ктезибия). Но в книге «Пневматика» Филон
приводит экспериментальные доводы, подтверждающие взгляд
Анаксимена, Аристотеля и Стратона на то, что воздух является реальной субстанцией. Например, если пустую бутылку
опустить в воду открытым горлышком вниз, вода не станет ее
наполнять, поскольку ее не пустит воздух, которому некуда
выйти из такой бутылки. Но если позволить воздуху уйти, проделав отверстие в донце, то вода заполнит сосуд6
.
Техническое замечание 7 Стратон пронаблюдал, что падающие одна за другой капли одной струи отдаляются друг от друга все больше и больше по мере падения. Из этого факта он заключил, что капли падают ускоренно. Если одна капля в какой-то момент падения оказалась ниже другой, это значит, что первая из них прошла большее расстояние. К тому же, раз капли по мере падения отдаляются, то та из них, которая падает дольше, падает быстрее, демонстрируя ускоренное падение. Хотя Стратон не знал этого, ускорение в этом случае постоянно, и, как мы увидим, результатом является то, что разрывы между каплями в цепочке капель, в которую превращается струя, возрастают пропорционально времени падения.
Как упоминалось в техническом замечании 6, если сопротивлением воздуха можно пренебречь, то ускорение падающего тела равно g, ускорению свободного падения , которое вблизи поверхности Земли равно 9,8 м / с за секунду. Если в начальный момент падения тело находилось в покое, то по истечении интервала времени τ (тау) его скорость будет равна gτ. Таким образом, если две одинаковые капли 1 и 2 срываются со среза одного и того же сливного лотка в различные моменты времени t1 и t2 , то в какой-то более поздний момент времени они приобретут скорости v1 = g (t — t1) и v2 = g (t — t2) соответственно. Разность их скоростей, таким образом, составит:
v1 — v2 =g (t — t1) — g (t — t 2) = g (t2 — t1). Несмотря на то что и v1 , и v2 растут со временем, их разность не зависит от конкретного момента t, поэтому расстояние s между двумя каплями просто увеличивается прямо пропорционально времени:
s= (v1 — v2) t = gt( t1 — t2). Например, если вторая капля срывается со среза сливного лотка на одну десятую долю секунды позже первой, то половину секунды спустя две капли окажутся на расстоянии 9,8 × 1 / 2 × 1 / 10 = 0,49 м одна от другой.
Примечания 1. Это наименование я позаимствовал из ведущей современной работы по этому периоду: Alexander to Actium (University of California Press, Berkeley, 1990).
2. Я считаю, что это замечание первоначально принадлежало Джорджу Сартону.
3. В английском переводе Симпликий о работах Стратона см.: M. R. Cohen and I. E. Drabkin, A Source Book в Greek Science (Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1948), pp. 211–212.
4. H. Floris Cohen, How Modern Science Came into the World (Amsterdam University Press, Amsterdam, 2010), p. 17.
5. О новейших исследованиях взаимосвязи технологии с физикой см.: Bruce J. Hunt, Pursuing Power and Light: Technology and Physics from James Watt to Albert Einstein (Johns Hopkins University Press, Baltimore, Md., 2010).
6. Описание экспериментов Филона см.: G. I. Ibry-Massie and P. T. Keyser, Greek Science of the Hellenistic Era (Routledge, London, 2002), pp. 216–219.
Ирина Левонтина. О чем речь
- Ирина Левонтина. О чем речь. — М.: Corpus, 2015. — 512 с.
«О чем речь» — продолжение «Русского со словарем». Это собранье веселых и ярких эссе о жизни русского языка, об изменениях, которые происходят в нем на наших глазах. А еще, по словам автора, ее книга о том, «что язык неотделим от жизни. Настолько, что иной раз о нем и поговорить почти невозможно: пишешь про слова, а читатели яростно возражают про жизнь. Наша жизнь пропитана языком — и сама в нем растворена».
Бэд карма и мастдай
У меня в прошлой книжке есть рассказ о том,
как один деятель искусства, повествуя о своей тяжелой жизни, с подобающим смирением произнес: «Ну что ж, такая моя харизма». Я предположила, что он спутал слова
харизма и планида («судьба, участь»). И вот
одна моя знакомая написала: «Я, конечно,
не знаю, что это был за „деятель“ и какого
именно „искусства“, но рискну предположить, что имел
он в виду не старомодно-литературную „планиду“, а новомодную „карму“, которая вошла в речевой обиход относительно недавно — вместе с „харизмой“». Что ж, могло быть и такое. Хотя по типажу мне показалось, что скорее у него могло быть в пассиве старое слово планида,
которое послужило субстратом для нового — харизма.
А слово карма как-то с ним не вязалось. Но поди пойми,
что там у человека в голове.Однако я задумалась о самом слове карма. Оно пришло к нам извилистыми путями. Если посмотреть Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru),
легко заметить, что в текстах до 1970 года это слово встречается, но нечасто. Есть оно у Лескова, Толстого, Лосского, С. Булгакова, В. Соловьева, Рериха и т. д. — и всё в нормальном буддийском контексте. Ну, у Андрея Белого, конечно, не без метафор и фантазий. Вообще карма — это
одно из центральных понятий в индийских религиях и философии, некий вселенский причинно-следственный закон, по которому праведные или греховные действия человека определяют его судьбу, причем не только в текущем,
но и в последующих существованиях.А на исходе тысячелетия на нас хлынул мутный поток оккультно-эзотерического варева, в котором булькала и карма:
Без специальных знаний невозможно определить, что является
источником проблем: порча, сглаз, проклятие или карма.
Снятие порчи, коррекция кармы, целитель, снятие проклятия,
экзорцизм.
Восковой отливкой можно достать даже на уровне зрелой,
а при необходимости, и скрытой Кармы.
Плохие экстрасенсы нарушают закон кармы, когда устраняют
последствия болезни. Одни латают ауру, другие чистят карму,
но все это временно.
Любая подверженность порчам связана с кармой человека.
Здесь самое время обратиться к специалисту по карме. Дело
в том, что на каждый род, семью отводится определенное количество кармической энергетики.И вот уже Гребенщиков, который в свое время изрядно способствовал и увлечению эзотерикой, и популяризации самого слова карма (вспомним «Балладу о Кроки, Ништяке
и Карме», которую он пел вместе с Майком Науменко),
раздраженно отвечает на вопрос журналиста: «Может, нищенская пенсия — это карма, против которой, как вы сами
как-то спели, не попрешь?» — «Я думаю, непонятное чужеземное слово карма здесь ни при чем. Существует социальная справедливость, которую можно обеспечить тем или
иным образом».А в последнее время слово карма употребляется и совершенно иначе. Говорят слегка иронически: карма такая,
то есть попросту непруха. Например, обсуждается на каком-то сайте некий магазин бытовой техники, и кто-то пишет: вот его ругают, а у меня вся техника оттуда, да и у родителей, так что это если у кого-то бэд карма… (в смысле,
кому как повезет).А еще — еще бывает такая постановка вопроса: «Что такое Карма и как ей пользоваться на форуме?» Это уже, конечно, не про то, что, как пел Высоцкий, «если был как дерево, родишься баобабом», да и не про везение. Это некий
цифровой показатель авторитета:Если ты активный участник и постоянно участвуешь в жизни форума, например, отвечаешь на вопросы пользователей, то карма
увеличивается, а если ты флудер и постоянно нарушаешь правила
форума, то карма уменьшается. Это некое общественное мнение.
Отношение к твоим постам. Чем больше карма, тем значит вас
больше уважают и любят на форуме.Тоже, между прочим, своего рода причинно-следственный
закон. Кстати, в этом контексте бэд карма — плохой, значит, пост.А вот еще одна история в тему. Недавно я наткнулась
в Сети на забавную запись: «Смотрю фильм и не понимаю. Исус Христос суперзвезда, рок опера вот все понятно
но причем тут виндоуз???»Здесь я прерву цитату и спрошу: догадался ли кто-нибудь, о чем речь? Нет? Тогда цитирую дальше:
Первосвященники несколько раз повторили МАСТДАЙ. причем
они явно кричали и возмущались что и тогда уже проблема виндусей была актуальна? или это пророчество/провидство???Все помнят конечно же этот фрагмент из Jesus Christ Superstar:
So like John before him, this Jesus must die.
For the sake of the nation, this Jesus must die.
ALL (inside). Must die, must die, this Jesus must die.
Вот молодой человек услышал это впервые и шутит: он решил, что обнаружил просто случайное и смешное созвучие.
Нет, юноша, это даже не просто формально то же самое сочетание слов must die, это действительно именно то маст-
дай (масдай, маздай), которое Windows. Потому что зря
многие программисты думают, что «выражение „мастдай“
появилось в среде сисадминов в 90-е годы. Так на жаргоне называли (и продолжают называть) Windows из-за ее ненадежности». Действительно, Windows часто так называют:
«А я вчера мастдаище 98-е поставил»; «Re: Поработал я с Линуксом… Мастдай имхо лучше». — «Гнать в шею отсюда,
пришедших под флагом M$ Die’я!!! Тошнит от етих юзверей»; «Что такое недопатченный мастдай или энциклопедия
начинающего крекера»; «ВЫНЬДОС — Windows, она же
МАСТДАЙ. (Син.: ВИНДА, ВИНДУЗА, ВИНДЮК,
ОКОШКИ, СТЕКЛА и др.)». Однако говорят и по-другому, например: «Это просто мастдай / полный маст-
дай» в смысле «очень плохо» (хочется сказать: «бэд карма»).
И здесь антонимом будет вовсе не Линукс, а форевер: «Прапорщик МАСТДАЙ! Сержант ФОРЕВА!»; «Универ маст-
дай, митхт тоже мастдай, учеба мастдай, все мастдай, прикладная медицина форевер»; «Тупы и примитивны. Полный
мастдай!!!»; «Материализм мастдай, вы правы.. но все же..
не поверить ли вам хоть немного в светлое?»По-моему, очевидно, что слово мастдай первоначально возникло вовсе не для обозначения Windows. Оно более
раннего и более возвышенного происхождения. Его подхватили поклонники великой рок-оперы как некий западный вариант клича «Банзай!». А Microsoft, программы — это
уж потом.На ход ноги
Вообще-то возникновение новых слов
обычно связано с изменениями картины мира. Ну, появился новый смысл,
а слова-то для него нет, вот и… Однако в языке есть и другие механиз-
мы. Прежде всего существуют разные
подъязыки, в частности, жаргоны —
молодежные, профессиональные и пр. Здесь специфические словечки нужны как опознавательные знаки для своих,
а то и как шифр — от чужих. И они, разумеется, должны
меняться, а то постепенно словечки просачиваются за пределы узкого круга своих и теряют эксклюзивность. Но, кроме
того, в языке явно действует и механизм обновления: людям
надоедают одни и те же слова, хочется чего-то новенького.
Старые слова затираются, новые кажутся яркими и свежими.
Потом и они приедаются, и снова откуда-то берутся новые.Это особенно хорошо видно на всяких формулах речевого общения: у каждого поколения свои коммуникативные
обыкновения. А еще очень характерны «слова-паразиты» —
мода на них тоже меняется. Вот в последние годы — эпидемия на словечко по ходу (в интернете видим также написания походу и по-ходу). Ну, там: «Ты что по ходу совсем дурак?»; «А у тебя по ходу самое длинное сочинение».Вот несколько примеров, выловленных в Сети (орфография,
само собой, аутентичная):Набираю в гугле «что делать», найдено 11 900 000 результатов.
по ходу проблема очень актуальна…
По-ходу забился бензиновый фильтр в машине. Не завелся.
Каждый раз после визита к родителям (что своих, что жены)
у меня в голове крутится один вопрос, по ходу не имеющий ответа: «зачем, НУ ЗАЧЕМ?! Ну вот нафига я ТАК ОБОЖРАЛСЯ?!»:).
В городе Н как-то все дует и красный восход не впечатляет. На на-
бережной дубак по ходу.
И написала Насте в 23 часа, что МОЖЕТ не поеду (почему я выделяю «может», потому что по ходу Настя именно этого слова
не заметила).
Походу я правда ф-ленты сильно засоряю.
Я по ходу заболела. Температура маленькая, но голову долбит
конкретно!
Был отвратительный вечер, по пьяному делу люди расплатились
с офицанткой, а та походу воспользовалась и попросила расплатиться их еще раз.
Но сейчас-то я ничего не пишу. И поэтому через два года я, может,
пролистаю страницу в 20 постов и скажу «ээ, чувак, да я так посмотрю с 2007 по 2009 ты ваще ничерта не делал походу».И вот самый замечательный:В хлебопечке сварил варенье из мякоти мандаринок, а потом
подумал и из шкурок тоже. Первое вкусно кушать ложкой, второй
походу хорошо на начинку пустить для какой нибудь вкусняшки.Тут все, что я люблю — и мандаринки, и кушать, и особенно — бр-р!.. — вкусняшка. Ну и тут же наше походу.
Вообще это слово довольно вульгарное. Правда, в молодежном сленге, кажется, сейчас почти общепринятое. При этом мне не раз приходилось слышать от коллег:
«Да брось ты! Нет такого слова». Не попадалось. А ведь оно
на каждом шагу — если места знать, конечно.Судьба выражения по ходу в качестве «паразита» складывается так удачно, потому-то у него очень подходящий
семантический потенциал. Подобные слова призваны помочь человеку в нелегком деле речевого общения. Трудно
ведь одновременно говорить и думать, слова могут подвернуться какие-нибудь неточные. Вот язык и предлагает целый
арсенал словечек, снимающих с говорящего ответственность
за такие неточности. Классика жанра здесь — знаменитые
как бы и типа (типо). Действительно, одно дело «Он профессор», и другое — «Он типа профессор» или «Он как бы
профессор». А тут еще Грайс со своими постулатами!Один из столпов лингвистической прагматики
Г. П. Грайс выделил четыре принципа речевого общения
(коммуникативные постулаты): 1) количества (требование
информативности высказывания); 2) качества (требование истинности); 3) отношения (соответствие высказывания теме коммуникации); 4) способа (требование ясности — однозначности, упорядоченности и т. п.). Грайс называет это Принципом Кооперации. Он, конечно, признает,
что люди часто в своем общении отклоняются от его постулатов. Он говорит лишь о том, что люди при говорении бессознательно стремятся следовать этим постулатам,
а при восприятии речи друг друга интерпретируют ее исходя из предположения, что собеседник, скорее всего, им следует. Отсюда и фундаментальное понятие коммуникативной импликатуры.Ничего себе: «Будь информативен»; «Не отклоняйся от темы». А как тут быть информативным и тем более
как не отклоняться от темы, если говорится как-то само со-
бой, а зачем — «затем, что ветру и орлу…» Поэтому очень
удобно на всякий случай пересыпать речь словечками, которые помогают сделать вид, что вот это говорится так, между делом, как будто вообще-то человек открыл рот, чтобы
сказать нечто важное, просто случайно отвлекся на что-то
другое. Тут возможны такие выражения, как между прочим,
между тем, кстати — и наше славное по ходу из этой когорты. Постепенно в выражении по ходу, конечно, остается
лишь слабый след первоначальной идеи. В вариантах по ходу
дела или, как сейчас часто говорят, по ходу пьесы, смысла гораздо больше. Но и употребляются они гораздо более ограниченно. По ходу содержит, так сказать, гомеопатическую
дозу. Вроде почти что ничего, но при регулярном применении довольно эффективно.Вообще было бы неверно считать, что подобное слово
каждый раз конкретно указывает на то, что такая-то часть
высказывания недостоверна, нерелевантна, неинформативна и т. п. Это некие словесные жесты, передающие определенную установку говорящего. Мол, не предъявляйте
ко мне повышенных требований: это я так просто, пусть
Грайс со своими постулатами пока покурит.Между прочим, а почему мы так часто начинаем речь
со слова а? Потому что очень трудно начать речь, вступить
в словесный контакт. Вот мы и говорим «А скажите, пожалуйста…»; «А можно войти?» Как будто мы уже до этого
с человеком разговаривали, а сейчас просто хотим тему сменить. А то действительно — как это прямо так и брякнуть:
«Можно войти?» Или там: «Где найти директора?»Да и закончить речь непросто, именно поэтому люди
так часто в конце фразы прибавляют ни к селу ни к городу:
во-о-о-т или еще что-нибудь в этом роде. Скажем, как в рус-
ском переводе «Над пропастью во ржи»— трогательно-беспомощное и все такое… Сейчас, кстати, в моде вариант вот
это все..., до него — как-то так…
Франсуаза Барб-Галль. Как говорить с детьми об искусстве XX века
- Франсуаза Барб-Галль. Как говорить с детьми об искусстве XX века. От модернизма к современному искусству. — СПб.: Арка, 2015. — 180 с.
Издательство «Арка» выпустило новую книгу Франсуазы Барб-Галль — искусствоведа, знающего, как не разочаровать ребенка походом в музей. «Как говорить с детьми об искусстве XX» — доказательство того, что понять модернизм смогут даже малыши.
В книге, написанной доступным языком, рассказ об основных тенденциях в искусстве нашего времени сменяется разбором тридцати конкретных произведений.
С помощью вопросов, разбитых по условным возрастным группам, можно войти в контакт с произведением, двигаться от вглядывания в него к интерпретации, а потом переходить к обобщению, то есть делать выводы о соответствующем периоде и о художнике.Для начала — побольше уверенности в себе
Общий взгляд на проблему
Совершенно нормально, что мы чувствуем себя перед произведениями XX века довольно беспомощно. Часто они вызывают у человека ощущение полного непонимания: то, что он видит, невозможно связать ни с какими известными ему образами. Разочарованный и собственно произведением, и мыслью об усилиях, которые надо приложить, чтобы во всем этом разобраться, он начинает сомневаться еще сильней: во-первых, в своей способности видеть адекватно, а во-вторых, в самих произведениях. И это замешательство может превратиться в полное нежелание иметь дело с подобным искусством, но никогда не поздно предотвратить такой исход, вернуться на шаг назад и сделать эту точку началом нового путешествия. Само это замешательство показывает, что такое искусство как-то влияет на нас и, даже не отдавая себе в этом отчета, мы глубоко ощущаем на себе его влияние. Многие произведения современного искусства действуют именно так: они адресуются непосредственно к чувствам, не нуждаясь в окольных путях дополнительных знаний. И с того момента, как мы это осознали, мы уже продвинулись на шаг вперед.
Смириться с предрассудками
Восприятие усложняется не столько самим произведением, сколько ореолом окружающих его клише и предрассудков. Хотим мы этого или нет, но даже при самом непредвзятом отношении мы все равно снабжены целым набором стереотипов, которые могут представляться нам осмыслен ными умозаключениями, а на самом деле препятствуют возникновению собственных мыслей. Восприятию старого искусства подобные проблемы не мешают. Независимо от того, много ли мы знаем об искусстве тех времен, и от того, нравится ли нам конкретное произведение, искусство давних эпох в целом вызывает у нас доверие: тот факт, что живописец хорошо владеет своим ремеслом, вкупе с масштабностью сюжетов, «солидность» старого искусства и пиетет с нашей стороны, вызываемый его вековой историей, — все это вместе выглядит в наших глазах чем-то надежным. С оглядкой на этот багаж старого искусства, мы склонны в искусстве XX века выделять в первую очередь те черты, которыми оно не обладает. Но не стоит с порога отметать такой подход как ничем не оправданную реакцию профана: попробуем лучше извлечь из него пользу. Подобное негативное отношение может стать хорошей стартовой площадкой, если мы поймем, почему оно возникло. От нас это потребует только открытости и заинтересованности: в любом случае, прежде чем входить в мир современного искусства вместе с ребенком, стоит позаботиться о том, чтобы нам было чем с ним поделиться, кроме собственной настороженности перед этой новой вселенной.
«Красота себя исчерпала»
Чаще всего искусство XX века упрекают в отказе от Красоты. Во многих случаях такой упрек оправдан, по крайней мере, если пользоваться традиционными критериями, согласно которым это понятие связывается с поисками гармонии, изящества и пропорциональности. И хотя мы уже не придерживаемся концепции единственно правильного канона красоты, который ассоциируется с совершенством классицизма, но, тем не менее, не готовы восторгаться произведениями, которые слишком явно от этого канона отступают.
Много веков искусство считало своей целью создание красоты. Церковь ставила перед ним главную задачу — показать совершенство божественного. Во всех изображениях, которыми сегодня заполнены музеи, зритель должен был увидеть безупречность и чистоту, благородство и спокойствие, саму идею святости — таким образом у него создавалось представление о мире, противоположном нищете и печалям нашего бренного бытия. Всех этих достоинств мы не найдем в искусстве XX века просто потому, что его задачи, а следовательно, и выразительные средства, изменились. Для нас, духовных наследников неоплатонической философии Возрождения, в которой постулируется, что Красота, Добро и Истина — суть одно и то же, это изменение выглядит ошеломляющим.
Вместо того, чтобы предлагать зрителю духовный или интеллектуальный идеал, а то и оба вместе, искусство XX века обращается к реальной жизни, к той обыденной реальности, в которой мы живем. Искусство претерпело глубочайшее потрясение в результате двух мировых войн и больше не верит в существование и всемогущество Добра. Вера в Красоту, которой полагалось это Добро сопровождать, была также утрачена. Но крушение иллюзий компенсируется тем, что искусство Для начала — побольше уверенности в себе возвышает мельчайшие детали реальной жизни просто за то, что они настоящие.
Каждый раз, когда мы чувствуем себя растерянно перед произведением, в котором не видим ни гармонии, ни изящества, ни подлинной возвышенности, в нем можно обнаружить, как минимум, попытку или надежду высказать Истину, — а иногда и просто яростное стремление к ней. Вместе со всеми несовершенствами, неточностями или даже ужасами, которые при этом обнаружатся, но также и вместе с другой, ускользающей, тайной, неожиданной красотой. Зачастую это и всё, что к ней прилагается, но это уже очень много. Человек с улицы наконец получает возможность узнать себя в этом зеркале, не проиграв заранее от сравнения. Искусство XX века говорит нам, что мы в равной мере потомки и Аполлона, и «человека- слона». Это искусство разрешает нам не быть идеальными. <…>
Франтишек Купка. «Пианино»

Франтишек Купка (1871–1957)
«Пианино» (1909)
Холст, масло
0,79×0,72 м
Национальная галерея, Прага, Чехия5-7 лет
Мы видим клавиши пианино
Всю нижнюю часть картины заполняют клавиши: справа, там, где видна рука пианиста, они просматриваются очень четко. Но художника интересует не само пианино (он ведь не изобразил инструмент целиком), а игра музыканта, сосредоточенного на своих нотах.
Оно на берегу озера
А может, даже и в самом озере: непонятно, где именно находится пианино. Создается впечатление, что оно плывет или скользит над водой. А на другом берегу собрались люди в ярких одеждах.
Люди катаются на лодке
Лодка медленно и бесшумно скользит вперед. Еле различим плеск воды, рассекаемой веслами. Всем изображенным на картине слышна музыка.
Некоторые одеты в красное
Красный цвет контрастирует с остальными цветами в картине и делает ее более приятной для глаз. Красный — теплый цвет, он напоминает языки пламени; а если мы представим себе тот же фрагмент, но без красного, нам станет немного зябко.
Там не очень светло
Судя по темно-синему цвету воды, это вечер. Свет с трудом пробивается между ветвями деревьев, растущих вокруг озера. В воде отражается облако, а вдали, над горами, виден клочок ясного неба. Наверное, вечер не такой уж и поздний.
8-10 лет
От лодки по воде расходятся круги
По этой детали мы понимаем, что лодка плывет. Чем дальше уходит лодка, тем больше круги. Это движение воды подобно распространению музыки в пространстве. Образ этого движения очень важен для картины, потому что художник одно-временно показывает и то, как мелодия внедряется в пейзаж, увлекая в кильватере слушателя. Это настоящее путешествие.
Все-таки это день или ночь?
С уверенностью сказать нельзя, обычный ход времени здесь остановлен музыкой: ведь когда мы играем музыку или слушаем ее, мы забываем о реальности. А может быть, это вообще и день и ночь одновременно — какое-то протяженное время, которое включает в себя всю длительность звучания музыкальной пьесы. Есть еще и третья возможность. То, что в картине преобладает синий цвет, наводит на мысль о музыкальной композиции, называемой «ноктюрн» (что значит «ночной»): это медленное произведение, в центральной части которого мелодия обычно более оживленная — в точности как на этой картине.
В верхней и нижней части картины цвета разные
В нижней части картины главное — клавиши. Чередование белого и черного напоминает о работе музыканта над нотами и о работе художника над своим рисунком. Обоим приходится тренироваться, играть свои гаммы… А в верхней части картины царит разнообразие цветов, которые составляют своего рода букет. Если перемещать взгляд по картине снизу вверх, она наводит на мысль о том, что строгость
и дисциплина нужны, чтобы выразить эмоции и передать красоту.А что означают вертикальные полосы в центре картины?
Такое впечатление, что центральные клавиши поднялись и отделились от клавиатуры, став просто разноцветными дощечками. Купка показывает сходство клавиш пианино и мазков на полотне — в центре картины они одной и той же формы. Так он связывает в один образ игру пианиста и то, как художник пишет картину. Мазок, положенный на холст, задевает нужную струну внутри инструмента, чтобы раздался звук. Вместе они создают некий мостик, переход к внешнему миру. И главное — это сообщение, которое они вместе могут передать.
Почему он не изобразил пианино целиком?
Тогда ему пришлось бы показать и пианиста, и это был бы уже обычный сюжет, просто жанровая сценка. Купка предпочел уделить больше внимания пейзажу, а пианино изобразить только частично: инструмент для него менее важен, чем способность музыки передавать чувства. А корпусом пианино здесь становится сама природа, она же служит и источником вдохновения для композитора. Кстати, блестящая поверхность озера очень напоминает лакированную крышку рояля…
11-13 лет
Все равно — невозможно нарисовать звуки!
Это правда. Зрение и слух — разные чувства, но с конца XIX века художники часто пытались преодолеть границы каждого из них. Они искали возможность показать сходство между ними. Ведь мы говорим, что художник добавил в свое произведение определенную «нотку» или написал картину в темных тонах, а композитор развертывает «палитру» звуков. Как писал Шарль Бодлер в стихотворении «Соответствия»: «Перекликаются звук, запах, форма, цвет…» Образ воды помогает художнику показать расплывчатость границы между музыкой и живописью, между зримым и различимым на слух. Водораздел между ними не более четкий, чем между реальностью и воображением. В 1908 году Купка назвал другую свою картину «Желтая гамма», в ней он изучает оттенки желтого, как будто слушает оттенки звучания по-разному аранжированной мелодии.
А сам этот художник играл на пианино?
Нет, не играл. Рука, которую мы видим на картине, — напоминание о работе пианиста, и художник сравнивает ее со своим трудом: живопись не существует отдельно от остальных искусств. Купка не учился играть на пианино, но инструмент купил, как только наскреб нужную сумму, хотя и был очень небогат. Друзья приходили
в его мастерскую музицировать. Кажется, как раз слушая игру друга, который больше всего любил фуги Баха, художник понемногу дрейфовал в сторону новой манеры в живописи, полностью основанной на игре красок и форм.Сильно ли музыка влияет на живопись?
Да, именно такой процесс начался со второй половины XIX века. Некоторые художники, например, Фантен-Латур, запечатлевали на своих полотнах воспоминания об операх, которые им понравились (как раз в то время люди познакомились с музыкой Вагнера); Ван Гог считал, что в будущем на живопись большее влияние будет оказывать музыка, а не романы: эмоциональное воздействие музыки окажется сильнее, чем притяжение литературного повествования. Именно такие художники, как Кандинский, Клее и Купка, к 1910 году превратили живопись в пространство цвета, пронизанное напряжением и движением, которое уже могло, подобно музыке, существовать самостоятельно, не ставя задачи имитировать окружающий мир.
Это фигуративная живопись или абстрактная?
Ни то ни другое, или и то и другое сразу: это переходная картина — и в творчестве Купки и в живописи в целом. Мы видим на ней, как узнаваемые формы теряют знакомые очертания. Потихоньку погружаясь в это озеро, они превращаются
в абстрактные цветовые пятна. И сама картина становится метафорой отстраненности; она сообщает, что изображение может «отойти от пристани», оставить узнаваемое позади и перейти в неизвестное пространство, которое уже не имеет ничего общего с театральной сценой. Купка — один из пионеров абстрактного искусства, он много размышлял об этой свободе, к которой интуитивно двигались уже некоторые художники предыдущих поколений (например, Моне, когда писал «Кувшинки»). Купка хотел пояснить свои поиски и написал книгу «Творение в пластических искусствах», которая вышла на его родном чешском языке в 1923 году.
Донна Тартт. Маленький друг
- Донна Тартт. Маленький друг / Пер. с английского А. Завозовой. — М.: АСТ : Corpus, 2015 — 640 с.
Роман Донны Тартт «Маленький друг» появился в 2002 году и спустя несколько лет был переведен на русский язык. В 2015 издательство CORPUS подготовило новый перевод текста лауреата Пулитцеровской премии.
«Маленький друг» — еще один повод убедиться в том, что Донна Тартт является непревзойденным мастером интриги и детективного сюжета. На этот раз она рассказывает историю Гарриет, которая ищет убийцу своего брата, найденного повешенным во дворе родительского дома, когда она была еще совсем маленькой. Девочка, превратившаяся в упрямого и решительного подростка, не подозревает, какую опасную игру она затеяла.Когда Робин погиб, Первая баптистская церковь объявила о сборе пожертвований в его честь — на них купили бы потом куст японской айвы или новые подушки на скамьи, но никто не думал, что денег соберут так много. Церковные окна — шесть штук — были витражными, с изображением сцен из жизни Христа, один из витражей во время вьюги пробило суком, и оконный проем с тех пор так и был забит фанерой. Пастор, который уж отчаялся прикидывать, во сколько обойдется церкви новый витраж, предложил на него и потратить собранные деньги.
Значительную сумму собрали городские школьники. Она ходили по домам, устраивали лотереи, торговали печеньем собственной выпечки. Друг Робина, Пембертон Халл (тот самый Пряничный Человечек из детсадовской пьески), отдал на памятник погибшему другу почти двести долларов — этакое богатство, уверял всех девятилетний Пем, хранилось у него в копилке, но на самом деле деньги он стащил из бабушкиного кошелька. (Еще он пытался пожертвовать обручальное кольцо матери, десять серебряных ложечек и невесть откуда взявшийся масонский зажим для галстука, усыпанный бриллиантами и явно недешевый.) Но и без этих внушительных пожертвований одноклассники Робина собрали весьма солидную сумму, а потому вместо того, чтоб снова вставлять витраж со сценой брака в Кане Галилейской, было решено не только почтить память Робина, но и отметить так старательно трудившихся ради него детей.
Новое окно представили восхищенным взорам прихожан полтора года спустя — на нем симпатичный голубоглазый Иисус сидел на камне под оливковым деревом и разговаривал с очень похожим на Робина рыжим мальчиком в бейсболке.
ПУСТИТЕ ДЕТЕЙ ПРИХОДИТЬ КО МНЕ — такая надпись бежала по низу витража, а на табличке под ним было выгравировано следующее:
Светлой памяти Робина Клива-Дюфрена
От школьников города Александрии, штат Миссисипи
«Ибо таковых есть Царствие Небесное».
Всю свою жизнь Гарриет видела, как ее брат сияет в одном созвездии с архангелом Михаилом, Иоанном Крестителем, Иосифом, Марией, ну и, конечно, самим Христом. Полуденное солнце текло сквозь его вытянувшуюся фигурку, и той же блаженной чистотой светились его одухотворенное курносое личико и озорная улыбка. И так ярко оно светилось потому, что чистота его была чистотой ребенка, а значит — куда более хрупкой, чем святость Иоанна Крестителя и всех остальных, однако на всех их лицах — в том числе и на личике Робина — общей тайной лежала тень вечного равно- душного покоя.
Что же именно произошло на Голгофе или в гробнице? Как же плоть проходит путь от скорби и тлена до такого вот калейдоскопного воскресения? Гарриет не знала. А вот Робин — знал, и эта тайна теплилась на его преображенном лице.
Воскресение самого Христа очень ловко называли таинством, и отчего-то никому не хотелось в этом вопросе докопаться до сути. Вот в Библии написано, что Иисус воскрес из мертвых, но что это на самом деле значит? В каком виде Он вернулся — как дух, что ли, как жиденький какой-нибудь призрак? Но нет же, вот и в Библии сказано: Фома Неверующий сунул палец в рану от гвоздя у Него на ладони; Его во вполне себе телесном обличии видели на пути в Эммаус, а в доме одного апостола Он даже немного перекусил. Но если Он и впрямь воскрес из мертвых в своей земной оболочке, где же Он сейчас? И если Он взаправду всех так любил, как сам об этом рассказывал, то почему тогда люди до сих пор умирают?
Когда Гарриет было лет семь-восемь, она пришла в городскую библиотеку и попросила дать ей книжек про магию. Но открыв эти книжки дома, она пришла в ярость — там были описания фокусов: как сделать так, чтобы шарик исчез из-под стаканчика или чтоб у человека из-за уха вывалился четвертак. Напротив окна с Иисусом и ее братом был витраж, изображавший воскрешение Лазаря. Гарриет снова и снова перечитывала в Библии историю Лазаря, но там не было ответов даже на простейшие вопросы. Что рассказал Лазарь Иисусу и сестрам о том, как он неделю пролежал в могиле? И что, от него так и воняло? А он сумел потом вернуться домой и жить с сестрами, как и прежде, или теперь все соседи его боялись и потому ему, может быть, пришлось уехать куда-нибудь и жить в одиночестве, как чудищу Франкенштейна? Гарриет никак не могла отделаться от мысли о том, что будь она там, то уж рассказала бы обо всем поподробнее, чем святой Лука.
Но, может, это все была выдумка. Может, и сам Иисус никогда не воскресал, а люди просто придумали, что Он воскрес, но если Он и впрямь откатил камень и вышел из гробницы живым, то почему тогда этого не мог сделать ее брат, который по воскресеньям сиял подле Него?
И это стало самой большой навязчивой идеей Гарриет, породившей все другие ее навязчивые идеи. Потому что больше «Напасти», больше всего на свете — она хотела вернуть брата. Или найти его убийцу.
На дворе был май, со дня смерти Робина прошло уже двенадцать лет, и как-то утром Гарриет сидела на кухне у Эди и читала путевые журналы последней экспедиции капитана Скотта в Антарктику. Она ела яичницу-болтунью с тостом, и книжка лежала у нее под локтем, возле тарелки. По пути в школу они с Эллисон часто заходили к Эди позавтракать. Дома у них за готовку отвечала Ида Рью, но раньше восьми утра она не приходила, а их мать, которая, впрочем, вообще почти ничего не ела, обычно завтракала сигаретой, иногда разбавляя ее бутылкой «Пепси».
День был будний, но каникулы начались, и Гарриет не надо было идти в школу. На Эди был фартук в горошек, она стояла у плиты и готовила яичницу себе. Чтение за столом она не слишком одобряла, но пусть уж Гарриет читает, все легче, чем одергивать ее каждые пять минут.
Вот яичница и готова. Она выключила плиту, пошла к буфету за тарелкой. При этом ей пришлось переступить через другую свою внучку, которая распласталась ничком на кухонном линолеуме и монотонно всхлипывала.
Всхлипывания Эди проигнорировала, осторожно перешагнула через Эллисон и ложкой переложила яйца на тарелку. Опять осторожно обошла Эллисон, уселась за стол рядом с погруженной в чтение Гарриет и молча принялась за еду. Нет, для такого она уже старовата все-таки. С пяти утра на ногах и все это время — с детьми.
Беда была с их котом, который лежал на полотенце в коробке возле головы Эллисон. Неделю назад он перестал есть. Потом начал вопить, когда до него дотрагивались. Кота принесли к Эди, чтоб Эди его осмотрела.
Эди умела обращаться с животными и частенько думала, что из нее вышел бы отличный ветеринар или даже врач, если бы в ее время девушки таким занимались. Она вечно выхаживала то котят, то щенков, спасала птенцов, выпавших из гнезд, промывала раны и вправляла кости попавшим в беду животным. Об этом знали не только ее внучки, но и все соседские дети, которые вечно тащили к ней не только своих прихворнувших питомцев, но и всех бездомных кошечек-собачек и прочих зверьков.
Эди животных любила, но сентиментальничать не сентиментальничала. И чудес не творила тоже, напоминала она детям. Деловито осмотрев кота — тот и вправду был вяловат, но с виду вполне здоров, — она встала и отряхнула руки об юбку, пока внучки с надеждой глядели на нее.
— Лет-то ему сколько уже? — спросила она.
— Шестнадцать с половиной, — ответила Гарриет.
Эди нагнулась и погладила беднягу — кот жался к ножке стола, таращился на них — безумно, жалобно. Этого кота она и сама любила. Котик был Робина. Тот его летом подобрал на раскаленном тротуаре, когда кот помирал и даже глаз уже не мог раскрыть, и с робкой надеждой притащил ей — в сложенных ковшиком ладонях. Эди пришлось попотеть, чтоб его спасти. Опарыши проели котенку бок, и она по сей день помнила, как он лежал покорно, не жалуясь, пока она промывала рану, и какая красная потом была вода.
— Он ведь поправится, правда, Эди? — спросила Эллисон, которая уже тогда была готова разреветься. Кот был ей лучшим другом. После смерти Робина он привязался к Эллисон: ходил за ней по пятам, как что убьет или стащит — нес ей (дохлых птиц, лакомые кусочки из мусорного ведра, а однажды каким-то загадочным образом притащил даже непочатую пачку овсяного печенья), а когда Эллисон пошла в школу, кот каждый день без пятнадцати три принимался скрестись в заднюю дверь, чтоб его выпустили и он мог встретить ее на углу.
И Эллисон обходилась с котом куда нежнее, чем с родственниками. Она вечно с ним разговаривала, подкармливала с тарелки курицей и ветчиной, а ночью брала к себе в кровать, где он укладывался у нее на шее и засыпал.
— Наверное, что-нибудь не то съел, — сказала Гарриет.
— Поживем — увидим, — ответила Эди.
Но, похоже, все было, как она и думала. Ничем кот не болел. Старый он был, вот и все. Она пыталась кормить его тунцом, поить молоком из пипетки, но кот только жмурился и сплевывал молоко, которое пенилось у него в пасти противными пузырями. Накануне утром, пока дети были в школе, она зашла на кухню, увидела, что кота, похоже, скрутило в припадке, завернула его в полотенце и отнесла к ветеринару.
Когда девочки пришли к ней вечером, она им сообщила: — Уж простите, но поделать ничего нельзя. Утром я кота носила к доктору Кларку. Говорит, его надо усыпить.
Гарриет могла бы тоже истерику закатить, с нее бы сталось, но она восприняла новости на удивление спокойно.
— Бедный старичок Вини, — сказала она, присев возле коробки, — бедный котик, — и погладила его вздрагивающий бок. Как и Эллисон, она очень любила кота, хотя он, правда, ее не особо жаловал своим вниманием.
Зато Эллисон вся так и побелела:
— Что значит — усыпить?
— То и значит.
— Ни за что. Я тебе не позволю.
— Мы ему больше ничем не поможем, — резко ответила Эди. — Ветеринару лучше знать.
— Я тебе не дам его убить.
— Ну а чего ты тогда хочешь? Чтоб несчастное животное еще помучилось?
У Эллисон затряслись губы, она рухнула на колени рядом с коробкой, где лежал кот, и истерично зарыдала.
Это все было вчера, в три часа пополудни. С тех пор Эллисон от кота не отходила. Ужинать она не ужинала, от подушки с одеялом отказалась и так и пролежала, плача и подвывая, всю ночь на холодном полу. Эди где-то с полчаса просидела с ней на кухне, деловито пытаясь ее вразумить — мол, все мы смертны, и Эллисон пора бы с этим смириться. Но Эллисон рыдала все громче и громче, и тут уж Эди сдалась, поднялась в спальню, захлопнула дверь и уселась за детектив Агаты Кристи.
Александр Архангельский. Коньяк «Ширван»
- Александр Архангельский. Коньяк «Ширван». — М.: Время, 2016. — 288 с.
Книга прозы «Коньяк „Ширван“» проходит по опасной грани — между
реальной жизнью и вымыслом, между историей и частным человеком,
между любовью и политикой. Но все главное в этой жизни одновременно и самое опасное. Поэтому проза Александра Архангельского, герои
которой лицом к лицу сталкиваются с грозным историческим процессом, захватывает и не отпускает. В рассказе «Ближняя дача» мелькает тень умершего Сталина, на страницы лирической повести «1962»,
построенной как разговор с сыном-подростком, ложатся отблески
Карибского кризиса, персонажи повести «Коньяк „Ширван“» попадают
в Карабах за несколько недель до начала конфликта и застают исчезающий рай, который может обернуться адом.Ближняя дача
Рассказ
Москва бульварного кольца была неприбранной столицей коммуналок, облезлым остовом исчезнувшей роскошной жизни. Москва хулиганов Таганки спорила с Москвой
индустриальных зон, где шалили без финок и фикс, но со
свистящими нунчаками и свинцовыми кастетами, которые
напоминали сросшиеся перстни. Там, за горизонтом, начинался бесконечный край хрущевок и девятиэтажек, блочное
царство спальных районов: Черемушки, Беляево, чуть позже Теплый Стан.И были мы. Матвеевка. Ни город ни деревня. Возле станции — темные избы, просевшие и мрачные; грязный сортир
во дворе, ржавая колонка на обочине, бабки, повязавшие
платки по самые глаза, и запах загаженной, тлеющей жизни. По другую сторону путей — случайные пятиэтажки;
ощущение, что строить начали, а заселить забыли. Два или
три универсама, где пахнет оттаявшей треской и размякшим минтаем, но зато из прозрачного конуса наливают томатный сок, на прилавке стоит стакан с бесплатной солью
и мокрой алюминиевой ложкой, а в жестяных гильзах пенят
молочный коктейль. Но при этом в бесконечно длинном перелеске можно собирать грибы. В нем пахнет пыльной электричкой, прелой листвой; мужчинки ласкают увесистых
женщин, жарят на костре сосиски и разливают из бидонов
пиво. Если мужчинки довольны, то могут предложить пивка
в немытой майонезной банке, если злы — держись подальше; ко мне однажды подошли такие трое, дыхнули кислым,
посмотрели сверху вниз: ну как тебе, жиденок, нравится
у нас? Сердце провалилось вниз; я трусливо ответил, что
нравится, и они меня не стали трогать.Сейчас бы я вписал тот эпизод в большую историческую рамку, вспомнил бы борьбу с космополитами, которую Сталин задумал в Матвеевке, на своей Ближней Даче,
но в детстве имелись дела поважнее. Положить на рельсы
украденный у мамы пятачок, залечь в кусты, переждать
проносящийся поезд и отыскать раскатанную биту, горячую, как только что отлитый свинец. Или порыться в мокром шлаке бывшей свалки, найти двадцарик, оттереть его
и купить в продуктовом две булки по восемь копеек, одну
с маком, а другую с повидлом, еще останется на два стакана
газировки в красном автомате, один с сиропом, а второй, уж
ладно, без.На балконах кукарекали петухи, за металлическими гаражами, крашеными салатовой краской, можно было встретить тетку в вечном пуховом платке и с замызганными козами на собачьих поводках; козы презрительно мекали. Вдоль
железки были вырыты глухие погреба; обитые жестью тяжелые дверцы затворены амбарными замками. В погребах
хранили капусту с проросшей картошкой — и то и другое
крали в соседнем совхозе, когда-то носившем имя Сталина.
Возле помоек всегда догорали костры, и коленки у любого
мальчика были прожжены насквозь. А внизу, в овражной
сырости, валялись могильные плиты — следы аминьевского
кладбища; старые кривые буквы были непонятны и поэтому веяли тайной.Но главное было не здесь; главное начиналось на излете
Веерной, где городское шоссе обрывалось и тропинка вела
под откос, вдоль островерхого высокого забора, бесконечного, как двуручная пила. Поверх забора шла колючая проволока, она проржавела насквозь и где-то уже порвалась,
а где-то сбилась в колтуны; некоторые доски сгнили, и через щели видно было заросшую, заброшенную территорию.
Что там, за этим забором, меня не слишком волновало —
вплоть до четвертого класса. Очередная охраняемая зона.
Кем охраняемая, зачем и почему — какая разница? Что-то
там такое, краем уха, я слышал про вождя народов и его последнее пристанище в Матвеевке, но никакого интереса не
испытывал. Тем более, что в темной глубине раздавались
утробные гавки, а я особой храбростью не отличался. Мне
нравилось книжки читать, а бороться с большими собаками — нет.Поэтому я шел все дальше, дальше, к милой сердцу речке-вонючке, она же Сетунь; там процарапывался через густой
кустарник, проползал сквозь ржавый ельник, и через полчаса выныривал возле Поклонной горы. Перебегал, рискуя
жизнью, Минское шоссе — и снова терялся в лесу. Имя Поклонной горы должно было рождать ассоциации с Наполеоном и Кутузовым, но как никого из нас не волновало имя
Сталина, так поверх сознания скользили и слова учителей
про Бонапарта, понапрасну ждавшего ключи от города: вот,
дети, в каком замечательном месте мы с вами живем. Какая
там Поклонная гора? Мир вокруг был размечен иначе. Не
кровавой историей, а вольной природой.А чтобы понять, какая то была природа — в самом сгустке Москвы, в четверти часа езды от Ленинских гор! — достаточно узнать, что фильм про Дерсу Узала, легендарного
таежного проводника, снимался именно в Матвеевке. Представьте себе: чуть вперед — и уже Триумфальная арка, а немного назад — и пошла череда мосфильмовских посольств.
А тут — непролазные заросли. С непристойной силой прут
боровики и подосиновки; палая листва гниет так сладко,
так опасно; боярышник усыпан круглыми крепкими ягодами, зеленоватые орехи пахнут медом, ты один на целом белом свете, сам себе Дерсу и Узала.Возвращаться домой никогда не хотелось. Еще немного,
еще полчаса… Одну из таких бесконечных прогулок я затянул до сумерек. И вдруг скорей почувствовал, чем осознал,
что поменялось время года. Из дому я выходил в разгар роскошной алой осени, а теперь наступила зима. Дунул ветер,
небо раскорячилось, встряхнулось — по-собачьи, бурно,
и на незавершившуюся осень вывалился первый снег. Он
падал ровно и отвесно. Фонари на трассе стали синими, автобусы включили оранжевые фары, и что-то военное проявилось в ландшафте.Я поспешил домой, пока не развезло дорогу. Cтановилось
скользко, снег таял, ноги мокли. Пришлось тащиться в обход, вдоль шоссе. Добрел кое-как до гигантской больницы,
грозной именуемой аббревиатурой ЦКБ — в ней лечили
партийных начальников, прошмыгнул мимо официального въезда на Ближнюю Дачу, один в один складские ворота,
и понял, что дальше тащиться — нет сил. А, была не была,
и я свернул — на скользкую тропинку вдоль забора.Она появилась внезапно. Бесшумно проскользнула через выбитую доску. Как в замедленном черно-белом кино.
И встала поперек дороги.Топорщится мокрая шерсть. Глаза почти прозрачные,
зрачки как долька, узкие, смотрит ровно, не мигая. Ты уже
во всем признался или нет? Подумай.Я замер как вкопанный. И она в ответ не шевелилась. Надежно расставила лапы, тяжело уперлась в землю; страшная
хозяйка этих мест, немецкая овчарка с Ближней Дачи.Темнело, снег таял и стекал за шиворот; нужно было что-то предпринять. Но что? Будучи мальчиком робким, я на
всякий случай отступил — тихо-тихо, спокойно-спокойно,
усыпим бдительность, а там, глядишь, и отползем на трассу.
Овчарка убежденно рыкнула: стоять! И я бы охотно смирился, но в глубине закрытой территории на рык отозвались армейским лаем несколько других овчарок. И стало ясно, что
терять-то нечего. Либо эта пропустит, либо другие порвут.Я резко наклонился, сделал вид, что поднимаю камень,
замахнулся. Овчарка глухо заворчала. Не опуская руку, я
шагнул вперед. Ворчание перешло в утробный рокот. Следующий шаг. Она открыла пасть, вывалила страшный язык, от
которого пошел тяжелый пар, и присела, готовясь к атаке.
Третий шаг — она не прыгнула! Отвела глаза, по-детски заскулила, и, огрызаясь, отползла к забору; нырнула в черную
дыру, исчезла.На ватных ногах я добрался в тот вечер до дому. Что-то со
мной приключилось, из сознания выбило пробку, стало интересно, важно, до дрожи: что же там было, за этим забором?
Почему там никто не живет? Кто такой этот загадочный Сталин? И, даже чаю не попив, чтобы согреться, я полез в черную трехтомную энциклопедию, стоявшую на бабушкиной
полке. Сел в продавленное кресло и подряд, не пропуская ни
абзаца, от начала до конца прочел огромную статью.Статья восхваляла вождя, описывала путь героя, клеймила врагов-отщепенцев, была скучна как смерть, ничего про
Сталина не объяснила. Недовольный, я перелистнул страницу и попал на огромную вклейку: портрет усталого мудреца, крест-накрест перечеркнутый учительским карандашом.
Жирно, злобно; даже покарябана бумага. Странно. В нашем
доме никогда о Сталине не говорили; вообще избегали политики. Не было ничего, не знаем, тссс. Ну тссс так тссс, какая
разница… Оказывается, страсти тут кипели, только до меня
не доносились… Я окликнул бабушку и маму: а чего это вы
Сталина? Карандашом? За что? Он плохой? И почувствовал,
что воздух загустел, как холодец; мама с бабушкой умолкли
и надулись, откровенно недовольные друг другом.— Вырастешь — узнаешь.
И отобранный том был поставлен на полку.
Назавтра я снова спускался к вонючке вдоль щербатого забора. Было страшно. Вдруг опять появится овчарка?
Но при этом я сгорал от любопытства. А все-таки что там,
на Даче? Происходило что-то непонятное, меня, как металлическую стружку на магнит, напыляло на эту проклятую
дачу. Нельзя туда ходить. Нет сил сопротивляться. Порвут.
А, будь что будет. И я отодвинул повисшую доску.Здесь было безжизненно, глухо. Осины почернели, высохшие заросли чертополоха перемешались с пижмой; передвигаться было тяжело — поваленные мертвые стволы
покрылись скользким мхом и струпьями наростов. Никаких
тебе расчищенных дорожек, никаких протоптанных тропинок. Холодная пустая тишина, поперек которой каркают вороны. И, что очень странно, никаких собак. После долгих
мучений я вышел к дому с тыльной стороны. Дом был деревянный, крашеный темно-зеленой краской: цвет сукна на
биллиардном столе. Аляповатый, несуразный: очень длинный, а при этом низкий, двухэтажный, с выпирающей пузом ротондой.Из-за угла появился облезлый мужик в телогрее и высоких грязно-желтых валенках; в руках у мужика был эмалированный таз. Я отпрянул — спрятался за дерево. Но мужик
не глазел по сторонам, он был занят делом. Вывалил содержимое таза на снег, кисловато запахло крупой и тушенкой;
от кучи съестного пошел соблазнительный пар; мужик почмокал, посвистел, и в одну секунду на полянку перед несуразным домом набежали собаки. Виляя хвостами, переругиваясь, стаей! Им тоже было сейчас не до меня; их кормили,
и они так сладко, так жизнелюбиво жрали! А мужик стоял
и любовался на собачек.Незачем испытывать судьбу; я немедленно ретировался.
Не буду врать, что думал про историю, про то, как вот отсюда, из пахнущей талым снегом и солдатской кашей матвеевской Дачи, мог управляться целый мир — и управлялся
ли он на самом деле отсюда? Конечно же, я думал только
про собачек. Что вот сейчас они покушают, пометят территорию, принюхаются, побегут за мной.…Матвеевское разрасталось, разбухало; природной воли
становилось меньше, домов и жителей — наоборот; овраг
между Матвеевкой и Ломоносовским проспектом превратился в дорогой район, белые дома — как сахарные головы.
В лесу перестали попадаться могильные плиты, Поклонную
гору постригли под ноль… Только огороженная дача с аляповатым домом, перестроенным в несколько приемов, стоит как стояла. Говорят, что ее обиходили, расчистили упавшие стволы, прорыли дорожки, залили асфальтом.А еще говорят, что собачки там бродят по-прежнему; я не
знаю, проверять не рисковал.