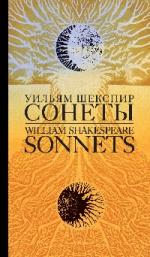- Мариам Петросян. Дом, в котором. – М.: Livebook, 2009.
Дом стоит на окраине города. В месте, называемом Расческами. Длинные многоэтажки здесь выстроены зубчатыми рядами с промежутками квадратнобетонных дворов — предполагаемыми местами игр молодых «расчесочников». Зубья белы, многоглазы и похожи один на другой. Там, где они еще не выросли, — обнесенные заборами пустыри. Труха снесенных домов, гнездилища крыс и бродячих собак гораздо более интересны молодым «расчесочникам», чем их собственные дворы — интервалы между зубьями.
На нейтральной территории между двумя мирами — зубцов и пустырей — стоит Дом. Его называют Серым. Он стар и по возрасту ближе к пустырям — захоронениям его ровесников. Он одинок — другие дома сторонятся его — и не похож на зубец, потому что не тянется вверх. В нем три этажа, фасад смотрит на трассу, у него тоже есть двор — длинный прямоугольник, обнесенный сеткой. Когда-то он был белым. Теперь он серый спереди и желтый с внутренней, дворовой стороны. Он щетинится антеннами и проводами, осыпается мелом и плачет трещинами. К нему жмутся гаражи и пристройки, мусорные баки и собачьи будки. Все это со двора. Фасад гол и мрачен, каким ему и полагается быть.
Серый Дом не любят. Никто не скажет об этом вслух, но жители Расчесок предпочли бы не иметь его рядом. Они предпочли бы, чтобы его не было вообще.
Некоторые преимущества спортивной обуви
Все началось с красных кроссовок. Я нашел их на дне сумки. Сумка для хранения личных вещей — так это называется. Только никаких личных вещей там не бывает. Пара вафельных полотенец, стопка носовых платков и грязное белье. Все как у всех. Все сумки, полотенца, носки и трусы одинаковые, чтобы никому не было обидно.
Кроссовки я нашел случайно, я давно забыл о них. Старый подарок, уж и не вспомнить чей, из прошлой жизни. Ярко-красные, запакованные в блестящий пакет, с полосатой, как леденец, подошвой. Я разорвал упаковку, погладил огненные шнурки и быстро переобулся. Ноги приобрели странный вид. Какой-то непривычно ходячий. Я и забыл, что они могут быть такими.
В тот же день после уроков Джин отозвал меня в сторонку и сказал, что ему не нравится, как я себя веду. Показал на кроссовки и велел снять их. Не стоило спрашивать, зачем это нужно, но я все же спросил.
— Они привлекают внимание, — сказал он.
Для Джина это нормально — такое объяснение.
— Ну и что? — спросил я. — Пусть себе привлекают.
Он ничего не ответил. Поправил шнурок на оч ках, улыбнулся и уехал. А вечером я получил записку. Только два слова: «Обсуждение обуви». И понял, что попался.
Сбривая пух со щек, я порезался и разбил стакан из-под зубных щеток. Отражение, смотревшее из зеркала, выглядело до смерти напуганным, но на самом деле я почти не боялся. То есть боялся, конечно, но вместе с тем мне было все равно. Я даже не стал снимать кроссовки.
Собрание проводилось в классе. На доске написали: «Обсуждение обуви». Цирк и маразм, только мне было не до смеха, потому что я устал от этих игр, от умниц-игроков и самого этого места. Устал так сильно, что почти уже разучился смеяться.
Меня посадили у доски, чтобы все могли видеть предмет обсуждения. Слева за столом сидел Джин и сосал ручку. Справа Длинный Кит с треском гонял шарик по коридорчикам пластмассового лабиринта, пока на него не посмотрели осуждающе.
— Кто хочет высказаться? — спросил Джин.
Высказаться хотели многие. Почти все. Для начала слово предоставили Сипу. Наверное, чтобы побыстрее отделаться.
Выяснилось, что всякий человек, пытающийся привлечь к себе внимание, есть человек самовлюбленный и нехороший, способный на что угодно и воображающий о себе невесть что, в то время как на самом деле он просто-напросто пустышка. Ворона в павлиньих перьях. Или что-то в этом роде. Сип прочел басню о вороне. Потом стихи об осле, угодившем в озеро и потонувшем из-за собственной глупости. Потом он хотел еще спеть что-то на ту же тему, но его уже ни кто не слушал. Сип надул щеки, расплакался и замолчал. Ему сказали спасибо, передали платок, заслонили учебником и предоставили слово Гулю.
Гуль говорил еле слышно, не поднимая головы, как будто считывал текст с поверхности стола, хотя ничего, кроме поцарапанного пластика, там не было. Белая челка лезла в глаз, он поправлял ее кончиком пальца, смоченным слюной. Палец фиксировал бесцветную прядь на лбу, но как только отпускал, она тут же сползала обратно в глаз. Чтобы смотреть на Гуля долго, нужно иметь стальные нервы. Поэтому я на него не смотрел. От моих нервов и так остались одни ошметки, незачем было лишний раз их тер зать.
— К чему пытается привлечь внимание обсуждаемый?
К своей обуви, казалось бы. На самом деле это не так. Посредством обуви он привлекает внимание к своим ногам.
То есть афиширует свой недостаток, тычет им в глаза окружающим. Этим он как бы подчеркивает нашу общую беду, не считаясь с нами и нашим мнением. В каком-то смысле он по-своему издевается над нами…
Он еще долго размазывал эту кашу. Палец сновал вверх и вниз по переносице, белки наливались кровью. Я знал наизусть все, что он может сказать — все, что вообще принято говорить в таких случаях. Все слова, вылезавшие из Гуля, были такими же бесцветными и пересушенными, как он сам, его палец и ноготь на пальце.
Потом говорил Топ. Примерно то же самое и так же нудно. Потом Ниф, Нуф и Наф. Тройняшки с поросячьими кличками. Они говорили одновременно, перебивая друг друга, и на них я как раз смотрел с большим интересом, потому что не ожидал, что они станут участвовать в обсуждении. Им, должно быть, не понравилось, как я на них смотрю, или они застеснялись, а от этого получилось только хуже, но от них мне досталось больше всех. Они припомнили мою привычку загибать страницы книг (а ведь книги читаю не я один), то, что я не сдал свои носовые платки в фонд общего пользования (хотя нос растет не у меня одного), что сижу в ванне дольше положенного (двадцать восемь минут вместо двадцати), толкаюсь колесами при езде (а ведь колеса надо беречь!), и наконец добрались до главного — до того, что я курю. Если, конечно, можно назвать курящим человека, выкуривающего в течение трех дней одну сигарету.
Меня спрашивали, знаю ли я, какой вред наносит никотин здоровью окружающих. Конечно, я знал. Я не только знал, я сам уже вполне мог бы читать лекции на эту тему, потому что за полгода мне скормили столько брошюр, статей и высказываний о вреде курения, что хватило бы человек на двадцать и еще осталось бы про запас. Мне рассказали о раке легких. Потом отдельно о раке. Потом о сердечнососудистых заболеваниях. Потом еще о каких-то кошмарных болезнях, но про это я уже слушать не стал. О таких вещах они могли говорить часами. Ужасаясь, содрогаясь, с горящими от возбуждения глазами, как дряхлые сплетницы, обсуждающие убийства и несчастные случаи и пускающие при этом слюни от восторга. Аккуратные мальчики в чистых рубашках, серьезные и положительные. Под их лицами прятались старушечьи физиономии, изъеденные ядом. Я угадывал их не в первый раз и уже не удивлялся. Они надоели мне до того, что хотелось отравить никотином всех сразу и каждого в отдельности. К сожалению, это было невозможно. Свою несчастную сигарету-трехдневку я выкуривал тай ком в учительском туалете. Даже не в нашем, боже упаси! И если кого и травил, так только тараканов, потому что никто, кроме тараканов, туда не наведывался.
Полчаса меня забрасывали камнями, потом Джин постучал по столу ручкой и объявил, что обсуждение моей обуви закончено. К тому времени все успели забыть, что обсуждают, так что напоминание пришлось очень кстати. Народ уставился на несчастные кроссовки. Они порицали их молча, с достоинством, презирая мою инфантильность и отсутствие вкуса. Пятнадцать пар мяг ких коричневых мокасин, против одной ярко-красной пары кроссовок. Чем дольше на них смотрели, тем ярче они разгорались. Под конец в классе посерело все, кроме них.
Я как раз любовался ими, когда мне предоставили слово.
И… сам не знаю, как так получилось, но я впервые в жизни сказал Фазанам все, что о них думал. Сказал, что весь этот класс со всеми в нем находящимися, не стоит одной пары таких шикарных кроссовок. Так и сказал им всем. Даже бедному запуганному Топу, даже Братьям Поросятам. Я и в самом деле в тот момент так чувствовал, потому что не терплю предателей и трусов, а они были именно предателями и трусами.
Они, должно быть, решили, что я сошел с ума с перепугу. Только Джин не удивился.
— Вот ты и сказал нам то, что думал, — он протер очки и ткнул пальцем в кроссовки. — Дело было вовсе не в них. Дело было в тебе.
Кит ждал у доски с мелом в руке. Но обсуждение закончилось. Я сидел, закрыв глаза, пока они не разъехались. И просидел так еще долго, оставшись один. Усталость потихоньку вытекала из меня. Я сделал что-то выходящее за рамки. Повел себя, как нормальный человек. Перестал подлаживаться под других. И чем бы все это ни кончилось, знал, что никогда об этом не пожалею.
Я поднял голову и посмотрел на доску. «Обсуждение обуви. Пункт первый: самомнение. Пункт второй: привлечение внимания к общему недостатку. Пункт третий: наплевательское отношение к коллективу. Пункт четвертый: курение».
Кит умудрился сделать в каждом слове не меньше двух ошибок. Он почти не умел писать, зато единственный из всех мог ходить, поэтому во время собраний к доске всегда ставили его.
Следующие два дня никто со мной не разговаривал. Делали вид, что меня не существует. Я стал чем-то вроде привидения. На третий день такой жизни Гомер сообщил, что меня вызывают к директору.
Воспитатель первой выглядел примерно так, как выглядела бы вся группа, не маскируйся они зачем-то под мальчишек. Как старуха, сидевшая у каждого из них внутри, в ожидании очередных похорон. Гниль, золотые зубы и подслеповатые глазки. Хотя у него по крайней мере все было на виду.
— Уже и до дирекции дошло, — сказал он с видом врача, сообщающего пациенту, что он неизлечим. Потом еще какое-то время вздыхал и качал головой, глядя на меня с жалостью, пока я не начал чувствовать себя не очень свежим покойником. Достигнув нужного эффекта, Гомер, сопя и охая, удалился.
В директорском кабинете я был два раза. Когда только приехал и когда надо было вручить рисунок для выставки с дурацким названием «Моя любовь к миру». Результат своего трехдневного труда я окрестил «Древом жизни». Только отойдя от рисунка на пару шагов, можно было разглядеть, что «древо» усеяно черепами и полчищами червей. На близком расстоянии они казались чем-то вроде груш среди изогнутых веток. Как я и думал, в Доме ничего не заметили. Оценили мой мрачный юмор, должно быть, уже только на выставке, но как к этому отнеслись, я не узнал. Вообще, это даже не было шуткой. Все, что я мог сказать о своей любви к миру, примерно так и выглядело, как я там изобразил.
В мой первый визит к директору мелкие червячки в мировой любви уже копошились, хотя до черепов дело еще не дошло. Кабинет был чистый, но какой-то неухоженный. Видно было, что это не центр Дома, не то место, куда все стягивается и откуда вытекает, а так — сторожевая будка. В углу на диване сидела тряпичная кукла в полосатом платье с рюшами. Размером с трехлетнего ребенка. И всюду торчали пришпиленные булавками записки. На стенах, на шторах, на спинке дивана. Но больше всего меня потряс огромный огнетушитель над директорским столом. Он до того приковывал внимание, что приглядеться к самому директору уже не получалось. Сидящий под антикварным огненным дирижаблем, наверное, на что-то такое и рассчитывает. Думать можно только о том, как бы эта штука не свалилась и не убила его прямо у тебя на глазах. Ни на что другое не остается сил. Неплохой способ спрятаться, оставаясь на виду.
Директор говорил о политике школы. О ее пути. «Мы предпочитаем лепить из готового материала». Что-то в этом роде. Я не очень внимательно слушал. Из-за огнетушителя. Он ужасно нервировал. И все остальное тоже. И кукла, и записки. «Может, у него амнезия? — думал я. — И он сам себе постоянно обо всем напоминает. Вот сейчас я уеду, а он напишет про меня и пришпилит эту информацию где-нибудь на видном месте».
Потом я все же послушал его немного. Он как раз дошел до выпускников. Тех, «кто многого достиг». Это были люди на застекленных фотографиях по обе стороны от огнетушителя. Обыденные и обиженные личности, при наградах и каких-то грамотах, которые они уныло демонстрировали камере. Если честно, фотографии кладбищ было бы веселее рассматривать. Учитывая специфику школы, хотя бы одну такую следовало повесить рядом с остальными.
В этот раз все было иначе. Огнетушитель остался, и записки белели на всех доступных и недоступных поверхностях, но в обстановке кабинета что-то изменилось. Что-то, не связанное с мебелью и с исчезнувшей куклой. Акула сидел под огнетушителем и копался в бумагах. Сухой, пятнистый и мохнатый, как поросший лишайником пень. Брови, тоже пятнистые, серые и мох натые, свисали на глаза грязными сосульками. Перед ним была папка. Между листами я разглядел свою фотографию и понял, что папка набита мной. Моими оценками, характеристиками, снимками разных лет — всей той частью человека, которую можно перевести на бумагу. Я частично лежал перед ним, между корешками картонной папки, частично сидел напротив. Если и была какая-то разница между плоским мной, который лежал, и объемным мной, который сидел, то она заключалась в крас ных кроссовках. Это была уже не обувь. Это был я сам. Моя смелость и мое безумие, немножко потускневшее за три дня, но все еще яркое и красивое, как огонь.
— Должно было случиться что-то очень серьезное, если ребята больше не хотят тебя терпеть, — Акула продемонстрировал мне какой-то листок. — Вот здесь у меня письмо. Под ним пятнадцать подписей. Как это понимать?
Я пожал плечами. Пусть понимает, как хочет. Не хватало еще объяснять ему про кроссовки. Это было бы просто смешно.— Ваша группа — образцовая группа…
Пятнистые сосульки обвисли, прикрыв глаза.
— Я очень люблю эту группу. И не могу отказать ребятам в просьбе, к тому же о таком они просят впервые. Что ты на это скажешь?
Я хотел сказать, что тоже буду счастлив от них избавиться, но промолчал. Что значило мое мнение против мнения пятнадцати образцовых акульих любимцев? Вместо протестов и объяснений я незаметно рассматривал обстановку.
Фотографии «многого достигших» оказались даже противнее, чем помнилось. Я представил среди них свою постаревшую и обрюзгшую физиономию, а на заднем плане — картины, одна кошмарнее другой. «Его называли юным Гигером, когда ему было тринадцать». Стало совсем тошно.
— Ну? — Акула помахал у меня перед глазами растопыренной пятерней. — Ты заснул? Я спрашиваю, ты понимаешь, что я обязан принять определенные меры?
— Да, конечно. Мне очень жаль.
Это было единственное, что пришло в голову.
— Мне тоже очень жаль, — проворчал Акула, захлопывая папку. — Очень жаль, что ты такой тупица и умудрился испортить отношения со всей группой одновре менно. А теперь можешь катиться обратно и собирать вещи.
У меня внутри что-то подпрыгнуло вверх и вниз, как игрушечный шарик на резинке:
— А куда меня отправят?
Мой испуг доставил ему массу удовольствия. Он немного понаслаждался им, перекладывая разные предметы с места на место, вдумчиво изучая ногти, закуривая…
— А как ты думаешь? В другую группу, конечно.
Я улыбнулся:
— Вы шутите?
Легче было подселить в любую группу Дома живую лошадь, чем кого-то из первой. У лошади было больше шансов прижиться. Несмотря на размеры и навоз. Мне следовало промолчать, но я не сдержался:
— Никто меня не примет. Я же Фазан.
Акула по-настоящему разозлился. Выплюнул сигарету и ударил кулаком по столу.
— Хватит с меня этих фокусов! Довольно! Что это еще за Фазан? Кто выдумал всю эту чушь?
Бумаги расползлись под его кулаком, окурок упал мимо пепельницы.
Я так перепугался, что в ответ заорал еще громче:
— Не знаю я, почему нас так называют! Спросите тех, кто это придумал! Думаете, легко произносить эти дурацкие клички? Думаете, кто-то объяснил мне, что они означают?
— Не смей повышать голос в моем кабинете! — завопил он, свешиваясь ко мне через стол.
Я мельком глянул на огнетушитель и тут же отвел глаза.
Он держался.
Акула проследил мой взгляд и вдруг шепнул доверительно:
— Не свалится. Там вот такие штыри, — и он показал мне свой мерзкий палец.
Это было так неожиданно, что я оторопел. Сидел и таращился на него, как дурак. А Акула ухмылялся. И я вдруг понял, что он просто издевается. Я не так давно жил в Доме и все еще с трудом называл некоторых людей по кличкам. Надо быть совсем лишенным комплексов, чтобы в лицо обзывать человека Хлюпом или Писуном, не чувствуя себя при этом полной сволочью. Теперь мне объяснили, что все это не приветствуется дирекцией. Но зачем? Просто чтобы покричать и посмотреть, как я среагирую? И я догадался, что изменилось в кабинете с моего первого визита. Сам Акула. Из неприметного дядьки, прятавшегося под огнетушителем, он превратился в Акулу. В то самое, чем его называли. Значит, клички давались не просто так.
Пока я думал обо всем этом, Акула снова закурил.
— Чтобы я больше не слышал в своем кабинете этих глупостей, — предупредил он, вылавливая из моей папки предыдущий окурок. — Этих попыток унизить лучшую группу.
Лишить ее полагающегося статуса. Ты понял? — То есть вы тоже считаете это слово ругательным? — уточнил я. — Но почему? Чем оно хуже просто Птиц? Или Крыс? Крысы. По-моему, это звучит намного противнее, чем Фазаны.
Акула заморгал.
— Вам, наверное, известно значение, которое все в него вкладывают, да?
— Так, — сказал он мрачно. — Хватит. Заткнись. Теперь я понял, почему первая тебя не выносит.
Я посмотрел на кроссовки. Акула был слишком высокого мнения о фазаньих мотивах, но этого я говорить не стал. Спросил только, куда меня переводят.
— Пока не знаю, — не моргнув глазом соврал он. — Надо подумать.
Не зря его прозвали Акулой. Он ею и был. Пятнистой, косоротой рыбиной, с глазами, глядящими в разные стороны. Она состарилась и, наверное, была не очень удачлива на охоте, если ее веселила такая мелкая добыча, как я. Конечно, он знал, куда меня отправят. И даже собирался об этом сообщить. Но передумал. Решил помучить. Только слегка перестарался, потому что группа не имела значения, Фазанов ненавидели все. Я вдруг сообразил, что дела мои не так уж плохи. Появился реальный шанс выбраться из Дома. Первая меня вышвырнула, то же самое сделают другие. Может, сразу, а может, нет, но если как следует постараться, процесс ускорится. В конце концов какую уйму времени я потратил,
пытаясь стать настоящим Фазаном! Убедить любую другую группу в том, что я им не гожусь, будет намного легче. Тем более, они и так в этом уверены. Возможно, и сам Акула так считает. Меня просто исключили сложным способом. Позже можно будет сказать, что я не прижился нигде, куда меня ни пристраивали. А то ведь могут плохо подумать о Фазанах…Я успокоился. Внимательно следивший за мной Акула почуял момент просветления, и ему это не понравилось.
— Езжай, — сказал он с отвращением. — Собери вещи. Завтра в половине девятого я лично за тобой зайду.
Закрывая за собой дверь директорского кабинета, я уже знал, что завтра он опоздает. На час или даже на два. Я теперь видел его насквозь со всеми его мелкими акульими радостями.
Рубрика: Отрывки
Леонард Млодинов. (Не)совершенная случайность
Авторское вступление к книге
Как случай управляет нашей жизнью
Несколько лет назад один испанец выиграл в национальную лотерею; номер его билета заканчивался цифрой 48. Гордясь своим «достижением», испанец поведал о том, как ему удалось так разбогатеть. «Семь ночей подряд мне снилась семерка, — сказал он, — а семью семь и есть сорок восемь». Те, кто лучше помнит таблицу умножения, наверняка хмыкнут: испанец-то ошибся, но у всех нас формируется собственное видение мира, через которое мы пропускаем наши ощущения, обрабатываем их, выуживая смысл из океана информации в повседневной жизни. И при этом часто ошибаемся, причем ошибки наши, пусть и не такие очевидные, как у этого испанца, бывают не менее значимы.
О том, что в ситуации неопределенности от интуиции проку мало, было известно еще в
Недостаточность данных невольно порождает противоречивые объяснения. Именно поэтому так непросто было подтвердить факт глобального потепления, именно по этой причине наркотики, случается, сначала объявляют безопасными, а потом объявляют вне игры и, скорее всего, именно из-за этого не каждый согласится с моим наблюдением: шоколадно-молочные коктейли — неотъемлемая часть укрепляющей сердце диеты. К сожалению, ложная интерпретация данных приводит к многочисленным отрицательным последствиям, как крупным, так и мелким. К примеру, и врачи, и пациенты часто неправильно воспринимают статистические данные по эффективности лекарств и важности медицинских испытаний. Родители, преподаватели и студенты неправильно оценивают важность экзаменов как нечто вроде проверки способности к обучению, а дегустаторы, оценивая вина, совершают одни и те же ошибки. Инвесторы, основываясь на показателях паевых инвестиционных фондов за определенный период, приходят к неверным заключениям.
В мире спорта широко распространено убеждение, основанное на интуитивном опыте соотнесения: победа или поражение команды по большей части зависит от профессиональных качеств тренера. В итоге после проигрыша команды тренера часто увольняют. Однако результаты недавнего математического анализа свидетельствуют о том, что в общем и целом увольнения эти на характер игры не влияют — незначительные улучшения, достигаемой сменой тренеров, обычно перекрываются имеющими случайный характер изменениями в игре отдельных игроков и всей команды. То же самое происходит и в мире корпораций: считается, что генеральный директор обладает сверхчеловеческими способностями, может создать или разрушить фирму, но на примере таких компаний как «Кодак», «Люсент», «Ксерокс» снова и снова убеждаешься — власть обманчива. В
Непросто плыть против течения человеческой интуиции. Мы еще убедимся в том, что человеческий ум устроен определенным образом — для каждого события он ищет вполне определенную причину. И ему сложно учесть влияние факторов несоотносимых или же случайных. Таким образом, первый шаг — это осознание того, что успех или неудача порой оказываются результатом не исключительных способностей или полного их отсутствия, а, как выразился экономист Армен Алчиан, «случайных обстоятельств». И хотя случайные процессы лежат в основе устройства природы и где только ни встречаются, большинство людей их не понимает и попросту не придает им значения.
Название последней главы книги, «Походкой пьяного», происходит из математического термина, описывающего случайные траектории, например, пространственное движение молекул, беспрестанно сталкивающихся со своими собратьями. Это своеобразная метафора нашей жизни, нашего пути из колледжа вверх по карьерной лестнице, от холостяцкой жизни к семейной, от первой лунки на поле для гольфа до девятнадцатой. Удивительно то, что метафора эта применима и к математике — математика случайных блужданий и способы ее анализа могут пригодиться и в повседневной жизни. Моя задача состоит в том, чтобы пролить свет на роль случая в окружающем нас мире, продемонстрировать, как можно распознать его действие, чтобы глубже проникнуть в суть бытия. Надеюсь, что после этого путешествия в мир случайностей читатель увидит жизнь в новом свете, лучше поймет ее.
О книге Леонарда Млодинова «(Не)совершенная случайность. Как случай управляет нашей жизнью»
Комический театр «Квартет И». Шесть комедий
Вступление к книге и первое действие пьесы «День радио»
Вместо вступления
В этой книге вы найдете четыре оригинальные комедии и две переработки. Они так и расположены: сначала те четыре пьесы, которые написаны только нами, а потом, в приложении — две, у которых сначала были другие авторы, но в процессе работы как-то вдруг оказалось, что авторы — уже те, чью книгу вы сейчас держите в руках.
И действительно, переписывая пьесы Лабиша и Уайлдера, мы как бы сами становились авторами этих произведений, проникали в них и принимались изнутри ощупывать изгибы сюжета и швы между частями. Мы начинали понимать, как сделаны эти пьесы и что нужно,чтобы они зазвучали современнее, свежее, актуальнее, но при этом замысел автора не нарушился, а наоборот, проступил максимально отчетливо. А сейчас мы сделаем важное признание: на самом деле мы стали драматургами вынужденно; мы — драматурги по необходимости. Вместо того, чтобы быть просто актерами, играть, гулять, пить, ездить на гастроли, ночевать в убогих гостиницах, спать там с нетрезвыми поклонницами, сниматься в плохих сериалах, чтобы этих поклонниц становилось все больше, — мы обрекли себя на ежедневный тяжелый труд. Каждый день с 12 до 8 мы, как сказал один драматург, «выдавливаем из себя по капле Чехова».
Наверное, это выглядит кокетством. Более того, оно кокетством и является — хотя все это чистая правда. Просто мы считаем, что театр — это способ выражения своих мыслей, своих идей… если, конечно, они у тебя есть. И если нет современных пьес, с помощью которыхты мог бы это сделать — а их, к сожалению, нет… во всяком случае, выражающих наши мысли — надо начинать писать их самим. Ведь откуда-то должны, наконец, взяться хорошие современные пьесы.
Поэтому, несмотря ни на что, мы счастливы, что так случилось. И искренне сочувствуем режиссерам, которым приходится доносить свои идеи о сегодняшнем состоянии общества с помощью текстов, например, Эсхила или Корнеля. Нет, мы ничего не имеем против Эсхила, наоборот! — просто нам такой способ кажется излишне усложненным и малоэффективным.А главное — это все на Эсхиле плохо отражается… не говоря уже об идеях.
В заключение — одна история, которую мы придумали для «Разговоров мужчин…», стилизовав ее под театральную байку: «Поссорились как-то два режиссера, и один другого решил на хер послать. А впрямую не может — не так обучен. Его же всегда учили: подтекст, второй план, „играешь злого — ищи, где он добрый“; и средства у него другие — пьеса, актеры, мизансцены… Так он пьесу нашел, репетировал полгода, руки потирал от удовольствия, наконец, пригласил того, — а тот не понял. Поздравил с премьерой и пошел с ним на банкет .А вот на банкете первый напился и послал-таки этого на хер. И как гора с плеч. Думает — „ну, и зачем надо было для этого спектакль ставить?“.
Короче, спектаклей он больше не ставит. Сидит в служебном буфете и посылает всех на хер…»
Мы от этой истории отказались, потому что посчитали ее надуманной. А ведь, если разобраться, такое легко могло случиться. И, если честно, столько раз уже случалось…
День радио
Когда мы начинали писать пьесу «День Рaдио»… нет, не так… когда мы затевали эту историю, мы не собирались писать никакой пьесы. Просто, за несколько лет работы на радиостанции «Наше Радио» у нас накопилась куча материала — пародийные новости и хит-парады, идиотские социологические опросы, издевательские биографии звезд и т. д. Все это выходило в эфир, а потом навсегда исчезало, чтобы, в лучшем случае, мелькнуть еще раз в новогоднем дайджесте Михаила Козырева.
И возникла идея — с помощью всего этого материала сымитировать эфир некоей обобщенной московской радиостанции, а песни, звучащие в эфире этой радиостанции, чтоб исполняла группа «Несчастный Случай». Поскольку творчество этой группы отличается жанровым разнообразием, мы легко представляли, что песня «Чего мы носим брюки задом наперед?» будет исполняться от лица военного ансамбля песни и пляски, «Что ты имела в виду?» — от лица группы старых стиляг-рок-н-ролльщиков (типа «Браво») и т. д. Вершиной наших мечтаний была надежда что, может быть, Кортнев и Кo напишут по такому случаю пару новых песен. А мы, соответственно, некоторое количество «связок» и «подводок».
Так вот, схалтурить не удалось — ни нам, ни «Несчастному Случаю». Сейчас уже даже не вспомнить, почему, но результат перед вами: Кортнев написал десять оригинальных песен, а мы — пьесу про марафон в прямом эфире на радиостанции «Как Бы Радио». А еще в самом начале работы над пьесой произошло судьбоносное событие, навсегда определившее нашу эстетику, да и направление, в котором мы с тех пор работаем.
Мы задумались об именах действующих лиц. И возник вот какой вопрос — почему, допустим, Славу в пьесе, где он будет играть человека лет тридцати с небольшим, остроумного, немного ленивого, весьма любвеобильного, — так вот, почему этого человека в пьесе могут звать как угодно (Костя, Виталик), но только не Слава? Кто это придумал? И в чем тут смысл?
С тех пор персонажей в наших пьесах зовут так же, как и артистов, исполняющих эти роли — ну, в большинстве случаев (а в «Дне Радио» этот принцип соблюдается неукоснительно). И это те случаи, когда персонаж близок и знаком нам, когда он из нашей жизни, из нашей среды. А мы стараемся, по возможности, брать таких героев, про которых мы знаем, какие они, как разговаривают, как себя ведут… одним словом, стараемся как можно меньше безответственно фантазировать.
Первую награду за это мы уже получили. Один наш друг, побывав на кассовом шлягере в одном московском театре, задумчиво сказал: «там смешно, потому что там все так подстроено, а у вас смеешься, потому что так все и есть на самом деле». И мы очень надеемся, что так оно и есть на самом деле.
Действие 1
Эфирная студия. За ди-джейским пультом Слава, который откладывает наушники и растирает уши руками. Рядом стоит Леша, просматривающий листок с новостями. Открывается дверь, входит Максим — и сразу облапливает Лешу.
МАКСИМ. Ну, как дела, малыш?
ЛЕША. Руки!.. Я сказал — «руки»!
МАКСИМ (изображает удивление). Тебе перестали нравиться мои грубые мужские ласки?
ЛЕША. Господи, почему ты не дал этому человеку мозгов? Все ушло в рост. И в вес. И в объем талии.
МАКСИМ. Хорошо сказал. А ты как — продолжаешь рекламировать детскую одежду?
ЛЕША (начинает заводиться). А тогда знаешь, кто ты? Гигантский платяной шкаф с малюсенькими антресольками.
МАКСИМ (невозмутим). Ну, неплохо. А ты — человеческий минимум. Эталон минимализма.
ЛЕША. Огромный оптический обман.
МАКСИМ. Это уже было. Слав, он повторяется!
ЛЕША. Тогда ты — мамонт. Вы же все вымерли. Чего ты остался? И главное — где твои бивни?
СЛАВА. (пытаясь вклиниться). Вы, конечно, молодцы оба, но…
МАКСИМ. Крупная потеря для баскетбола. Хотя, какая крупная…
ЛЕША. Огромный, источающий агрессию ди-джей-убийца.
СЛАВА. Я напоминаю, что эфир…
МАКСИМ. Неопознанный летающий объект.
ЛЕША (озадачен). Почему?
МАКСИМ. Потому что сейчас вылетишь у меня из окна с пятого этажа, и тебя потом никто не опознает.
СЛАВА. Эй, эфир уже через…
ЛЕША. А ты вообще лысый бубен!
МАКСИМ. И лысый чибис. Помолчи.
СЛАВА. А вы знаете, кто вы оба?
МАКСИМ и ЛЕША (шепотом). Тсс! Эфир!
Максим дает знак звукорежиссеру. Звучит заставка «Как бы ра-
дио». Максим наклоняется к микрофону.
МАКСИМ. Добрый вечер, дорогие как бы радиослушатели, вы слушаете «Как бы радио», и это я — ди-джей Макс. Меньше чем через полчаса начнется наше ежевечернее как бы шоу «Чума», в рамках которого пройдет супермарафон, организованный нами в помощь нашим туристам в Конго. Напомню вкратце: группа российских туристов прилетела на отдых в Конго, их там никто не встретил, не поселил в гостиницу, улететь они тоже не могут, живут прямо на земле рядом со взлетной полосой. Ситуация осложняется тем, что почти все коренное население Конго заражено бамбуковым червем. Этот червь достигает в длину 90 см и может жить в организме человека до 35 лет. Никакого вреда он, правда, не причиняет, но неприятно жить с сознанием, что у тебя в организме живет еще кто-то кроме тебя. В нашем марафоне примут участие ведущие российские рок-группы и исполнители, специалисты в вопросах туризма, политики, дипломаты и т. д.
В течение всего этого монолога Леша и Слава бесшумно, чтобы в эфире не было слышно, рвут плей-лист и обстреливают Макси ма комочками бумаги. Убедившись, что это его не сбивает, они начинают засовывать куски бумаги ему в уши, в ноздри, за шиворот, а когда и это не приводит к срыву эфира, поджигают бумагу, торчащую из Максимова уха. Но, до того, как она догорает, Максим успевает закончить.
МАКСИМ. Все это через двадцать пять минут. А пока другие главные новости. У микрофона — Алексей.
Дает знак звукорежиссеру. Звучит заставка новостей («Как бы новости — с Алексеем»), а Максим выхватывает горящую бумагу из уха и бросает в пепельницу. Леша наклоняется к микрофону.
ЛЕША. Привет! Как всегда в начале каждого часа — новости:
Новости из-за океана. В Лос-Анджелесе впервые в истории разорился банк спермы. В головной офис банка уже выстроилась огромная очередь обманутых вкладчиков, которые требуют вернуть им назад их вклады.
Новости медицины. Белорусские врачи доказали, что слепую кишку можно не только вырезать, но и лечить. Полностью вернуть слепой кишке зрение пока не удалось, но она уже может различать очертания предметов, попадающих в кишечник.
Новости орнитологии. В подмосковном лесу в районе Пушкино дятел застукал свою жену вместе с любовником.
Пока Леша читает, Максим подбирается ближе и спускает перед ним на веревочке огромного резинового паука. В первую секунду Леша пугается так, что у него перехватывает голос. Правда, он быстро понимает, в чем дело, отпихивает паука и крутит пальцем у виска.
МАКСИМ. Спасибо, Алексей. А сейчас настала очередь Ростислава…
Пауза. Слава, который успел на секунду забыть, зачем он здесь находится, смотрит на Максима то ли с изумлением, то ли с ужасом.
МАКСИМ. Да-да, Ростислав, познакомьте нас, пожалуйста, с хитами следующей теленедели.
Дает знак звукорежиссеру. Звучит заставка телеанонса, Слава наклоняется к микрофону.
СЛАВА (с выражением, чтобы было похоже на голос Максимова, читающего анонсы на Первом канале). Он сорвался с крыши небоскреба. Проносясь мимо
А Леша и Максим тем временем достают из-под пульта баллончик с пеной для бритья. Леша от души покрывает этой пеной Славину лысину, а Максим начинает брить ее опасной бритвой.
СЛАВА (старается читать быстрее, но по-прежнему с выражением). От этого чудовищного поступка его удерживает внезапно вспыхнувшее чувство к горничной с
Закончив бритье, Леша вытирает Славину голову салфеткой, а Максим обильно поливает ее одеколоном.
СЛАВА (закрывая микрофон рукой). Идиоты!!!
Вера Полозкова. Непоэмание
Три стихотворения из сборника
Люболь
История болезниГолос — патокой жирной. Солоно.
Снова снилось его лицо.
Символ адова круга нового —
Утро. Дьявола колесо.
«Нет, он может — он просто ленится!»
«Ну, не мучает голова?»
Отчитаться. Удостовериться —
Да, действительно,
Ты жива.
Держит в пластиковом стаканчике
Кофе — приторна как всегда.
А в ночную? — Сегодня Танечке
Подежурить придется — да?
Таня — добрая, сверхурочная —
Кротость — нету и двадцати…
Попросить бы бинтов намоченных
К изголовью мне принести.
Я больная. Я прокаженная.
Мой диагноз — уже пароль:
«Безнадежная? Зараженная?
Не дотрагиваться — Люболь».
Солнце в тесной палате бесится
И Голгофою на полу —
Крест окна. Я четыре месяца
Свою смерть по утрам стелю
Вместо коврика прикроватного, —
Ядом солнечного луча.
Таня? Тихая, аккуратная…
И далекой грозой набатною —
Поступь мерная главврача.
Сухо в жилах. Не кровь — мазутная
Жижа лужами разлита
По постели. Ежеминутное
Перевязыванье бинта
Обнажает не ткань багровую —
Черный радужный перелив
Нефти — пленкой миллиметровою —
Будто берег — меня накрыв.
Слито. Выпарено. Откачано
Все внутри — только жар и сушь.
Сушь и жар. Горло перехвачено.
Голос как у шальных кликуш.
Слезы выжаты все. Сукровицу
Гонит слезная железа
По щекам — оттого лиловятся
И не видят мои глаза.
День как крик. И зубцами гнутыми —
Лихорадочность забытья.
День как дыба: на ней рас-пнуты мы —
Моя память — и рядом я.
Хрип,
Стон, —
Он.
Он.
День как вихрь в пустыне — солоно,
А песок забивает рот.
Днем — спрессовано, колесовано —
И разбросано у ворот.
Лязг.
Звон.
Он.
Он.
Свет засаленный. Тишь пещерная.
Мерный шаг — пустота идет.
Обходительность предвечерняя —
А совсем не ночной обход.
Лицемерное удивленьице:
«Нынче день у Вас был хорош!» —
Отчитаться. Удостовериться —
Да, действительно,
Ты умрешь.
Просиявши своей спасенностью,
«Миновала-чаша-сия» —
Не у ней же мы все на совести —
Совесть
Есть
И у нас
Своя.
…Утешения упоительного
Выдох — выхода брат точь-в-точь, —
Упаковкой успокоительного:
После вечера
Будет ночь.
Растравляющее,
Бездолящее
Око дня — световой капкан.
Боже, смилостивись! — обезболивающего —
Ложку тьмы
На один стакан.
Неба льдистого литр —
В капельницу
Через стекла налить позволь.
Влагой ночи чуть-чуть отплакивается
Моя проклятая
Люболь.
Отпивается — как колодезной
Животворной святой водой.
Отливается — как в палящий зной
Горной речкою молодой —
Заговаривается…
Жалится!..
Привкус пластиковый во рту.
Ангел должен сегодня сжалиться
И помочь перейти черту.
Пуще лести велеречивыя,
Громче бегства из всех неволь —
Слава, слава, Неизлечимая
Безысходность Твоя, Люболь!
Звонче! — в белом своем халатике
Перепуганная сестра —
Воспеваю — Хвала, Хвала Тебе,
Будь безжалостна и остра!
Пулей — злою, иглою — жадною!
Смерти Смертью и Мукой Мук!
Я пою тебя, Беспощадная
Гибель, Преданный мой Недуг!..
Сто «виват» тебе, о Великая…
Богом… посланная… чума…
Ах, как солоно… Эта дикая
Боль заставит сойти с ума…
Как же я… ненавижу поздние
Предрассветные роды дня…
Таня! Танечка! Нету воздуха!
Дверь балконную для меня
Отворите… Зачем, зачем она
Выжигает мне горло — соль…
Аллилуйя тебе, Священная
Искупительная Люболь.
Ночь с 12 на 13 января 2004 года
Покер
Надо было поостеречься.
Надо было предвидеть сбой.
Просто Вечный хотел развлечься
И проверить меня тобой.
Я ждала от Него подвоха —
Он решил не терять ни дня.
Что же, бинго. Мне правда плохо.
Он опять обыграл меня.
От тебя так тепло и тесно…
Так усмешка твоя горька…
Бог играет всегда нечестно.
Бог играет наверняка.
Он блефует. Он не смеется.
Он продумывает ходы.
Вот поэтому медью солнце
Заливает твои следы,
Вот поэтому взгляд твой жаден
И дыхание — как прибой.
Ты же знаешь, Он беспощаден.
Он расплавит меня тобой.
Он разъест меня черной сажей
Злых волос твоих, злых ресниц.
Он, наверно, заставит даже
Умолять Его, падать ниц —
И распнет ведь. Не на Голгофе.
Ты — быстрее меня убьешь.
Я зайду к тебе выпить кофе.
И умру
У твоих
Подошв.
Ночь с 23 на 24 апреля 2004 года
Банкиры
Портят праздник городу разодетому.
Вместо неба — просто густое крошево.
Ты на море, мама, и вот поэтому
Не идет на ум ничего хорошего.
Знаешь, мама — Бога банкиры жирные
Нам такие силы дают кредитами!
Их бы в дело! Нет, мы растем транжирами,
Вроде бы богатыми — но сердитыми,Прожигаем тысячами — не центами
Божье пламя — трепетное, поэтово!
Но они потребуют всё. С процентами.
И вот лучше б нам не дожить до этого.Их-то рыла глупо бояться пшенного —
Только пальцем будут грозить сарделечным.
Но оставят перечень несвершённого.
И казнят нас, в общем-то, этим перечнем.И пришпилят кнопочками к надгробию —
Что им с нами, собственно, церемониться.
У тебя ж поэтому, мама, фобия
Брать взаймы. И еще бессонница —Ты ведь часто видишься с кредиторами.
Их не взять подачками и вещичками.
За тобой идут они коридорами
И трясут бумагами ростовщичьими.А в меня кошмарные деньги вложены.
И ко мне когда-нибудь тоже явятся.
Мне теперь — работать на невозможное.
А иначе, мама, никак не справиться.
Ночь с 9 на 10 мая 2004 года
Алексей Колышевский. МЖ–2
Отрывок из романа
На аппарате правительственной связи внезапно замигала красная лампочка. От неожиданности Гера чертыхнулся, свернул сайт закрытого интернет-сообщества, где вывешивались задания для кремлевских сетевых агентов — блоггеров, и снял трубку. На дворе давно эпоха высоких технологий, а эти аппараты все те же, что были полвека назад: пластмасса цвета слоновой кости, тянется к трубке витиеватый шнур, на аппарате вместо диска государственный герб, а все вместе — надежно защищенный от прослушивания анахронизм.
— Слушаю, — лениво ответил Гера, разморенный мыслями о предстоящем отпуске.
— Конечно слушаешь. Не ссышь же ты, в самом деле, в трубку. Что еще можно с ней делать, как не слушать? — Генерал Петя был в своем репертуаре. Кленовский, давно привыкший к плоским шуткам генерала, страдальчески поморщился:
— А, это ты, Петр? Здорово.
— Чаю, здоровей видали, — парировал Сеченов, — ты блоггерам насчет хохлов задачу поставил?
— Да поставил. Куда ж они денутся?
— Вот и молодец. Да пусть они покрепче их там пропердолят, мол «салоеды изнасиловали Тимошенку. Пострадавшая обратилась в Страсбургский суд. Дело находится на рассмотрении у лесбиянки Карлы дель Понте». И вот что, ты мне нужен. Зайди-ка ко мне, поболтать надо.
— Ладно, сейчас буду, — хмуро буркнул в трубку Герман и не спеша направился в кабинет генерала Пети.
Он застал его в отменно расхлябанном виде: генерал релаксировал, закинув на стол ноги в надраенных до зеркального блеска ботинках, и курил огромную сигару «Cohiba». Был он небрит, глаза воспалены бессонницей, галстучная петля распущена дальше некуда, ворот рубахи расстегнут пуговицы на три. На письменном столе генерала были горой навалены какие-то папки с надписью «Дело», а содержимое одной из них Сеченов изучал, просматривая материалы и фотографии через узкие, держащиеся на кончике носа очки для чтения в платиновой оправе.
Гера поздоровался, но ответа не получил. Вместо приветствия генерал молча указал ему на кресло и некоторое время продолжал изучать справку, составленную, судя по верхнему грифу документа, в ведомстве, профиль деятельности которого носил деликатный характер и касался внешних интересов государства. Наконец, он закончил читать, закряхтев, поменял позу и протянул Кленовскому фотографию:
— Скажи мне, вьюнош, тебе вот этот субъект знаком?
Гера мельком взглянул на фото, затем всмотрелся пристальней и закашлялся.
— Что? Воробей залетел? Али вафля семикрылая? — участливо и непристойно осведомился генерал Петя, — водички вон испей.
— Спасибо. — Кленовский смахнул выступившую от кашля слезу. — Конечно, я его знаю. Этот субъект не кто иной, как Марк Вербицкий. Мы с ним в своем время даже дружили. Он тоже работал в торговых сетях, был закупщиком по алкоголю, потом его, кажется, подстрелили какие-то суки залетные, но он выжил. Темная, одним словом, история. Я его давно не видел, года три-четыре.
— Что про него можешь сказать?
Кленовский пожал плечами:
— Да ничего особенного. Так… Обыкновенный жулик, откатчик. В свое время бухал по-тяжелому, потом вроде завязал. Умен, спортивен. Что еще?.. Язык у него подвешен будь здоров, ну это как у всех коммерсантов и мошенников. Помню, все жаловался мне на свою непростую личную жизнь. Мы с ним вместе в несколько стран летали на выездные семинары, которые организовывали алкогольные фирмы-поставщики. В целом нормальный такой парень, только иногда, по-моему, чересчур в себя уходит. Склонен к самоанализу, так сказать. А к тебе-то он как попал?
— Попал как? — Генерал Петя посмотрел на Геру поверх очков. — Да попал-то он, как оса в варенье, то есть основательно. Я всю ночь его дело изучал. Твой друг серьезный крендель. Таких дел наворотил, что даже тебе не снилось. Убивец он. Серьезный убивец международного масштаба. Ас! И ведь нигде не учился, не готовился, а поди ж ты… Вот послушай, — и генерал принялся читать прямо из «Дела»: — «Находясь в Аргентине, завладел огнестрельным оружием и уничтожил финансового директора организации Der Spinne Струкова, а также его телохранителя…», а вот еще «…ранее, по непроверенным данным, был причастен к взрыву дома известного криминального авторитета Вертько, во время которого погиб как сам Вертько, так и находившиеся в доме в момент взрыва две женщины, личности которых установить не удалось… Анализ остатков взрывной смеси, найденной на месте преступления, позволяют сделать вывод, что взрывное устройство принадлежало к разновидности так называемого „Техасского фейерверка“. Этот рецепт неоднократно использовался в Соединенных Штатах Америки в период ганстерских войн двадцатых годов прошлого века…» А ты говоришь, нормальный парень.
— Не фига себе, — вырвалось у Геры, — вот это да! Кто бы мог подумать?! А с виду вполне интеллигентный человек.
— Ты вон тоже с виду мальчонка из Гарвард бизнес-скул, а на самом деле мошенник, что пробу поставить негде, — язвительно заметил генерал Петя. Герман вежливо промолчал.
Сеченов тем временем встал, подошел к стенному шкафу и достал оттуда бутылку минеральной воды. Сделал несколько жадных глотков.
— Занадобился он нам, этот твой Вербицкий. Таки мы в нем имеем шкурный интерес, — отдышавшись, произнес генерал, — такое добро на дороге не валяется. Нужно его привлечь по этнической линии в качества заплечных дел специалиста. Пусть поработает, раз он такой изысканный отморозок. Ты случайно не в курсе его взглядов на проблему нелегальной миграции?
— Нет, я понятия не имею, — честно признался Герман, — мы с ним этого никогда не обсуждали. Но я могу предположить, что коли он москвич и цвет кожи у него белый, то гостям с Кавказа и не только он не больно-то и рад. В конце концов подстрелили-то его на улице именно гастролеры.
— Это не факт, что не рад, — парировал Сеченов, — тут проверка нужна, прежде, чем ему что-то такое поручать. И проверка серьезная. Ты сегодняшнюю криминальную сводку по Москве читал?
— Да ну ее, — поморщился Гера, — у меня нервы не выдерживают читать все это. Убийства, грабежи, угоны. Живешь себе спокойно, так вроде и нет всего этого, а прочитаешь, и на душе становится тяжко.
— Значит, не читал, — словно не слушая Герины стенания, проговорил генерал, — на-ка вот, прочти. Убита этой ночью целая семья. Отец, мать и маленький ребенок. Убийцы, предположительно, гастарбайтеры, делавшие ремонт в соседней квартире.
Гера взял у Сеченова лист, принялся читать и, дойдя до фамилии потерпевшего, весьма сильно изменился в лице:
— Не может быть, — хрипло проговорил он, — я отлично эту семью знаю. Это же мои друзья! Я их ребенка крестил! — Герман сорвался на крик, — да что ж такое происходит-то?!
Генерал молча написал что-то на маленьком листке с липкой полоской, согнул его пополам и отдал Герману. Тот был близок к истерике, поэтому сначала, глядя в листок, ничего не понял:
— Что это? Адрес какой-то…
— Это Вербицкого адрес, — пояснил генерал Петя, — поезжай сейчас к нему, представься, кто ты и откуда, отвези его на место преступления, чтобы его проняло как следует. После этого мне позвонишь и расскажешь о его реакции. Идет?
— Идет, — Гера вдруг понял, что отпуск его накрывается, — а если он заартачится или какой-то форсмажор произойдет?
— На случай форсмажора у тебя всегда есть звонок другу. — Ткнул себя пальцем в грудь, усыпанную сигарным пеплом, генерал Петя. — Поезжай быстрей, а то он собрался из страны улететь, будет лучше, если ты его до отъезда из дома перехватишь.
…Спустя полчаса Гера позвонил и доложил, что он разминулся с Вербицким буквально на секунды. Генерал Петя, наставив своего парламентера на путь истинный и дав ему все необходимые указания, возбужденно потер руки. Начиналась его игра, он находился в своей родной стихии. Прошло несколько минут, и на Третьем транспортном кольце, при въезде на Савеловскую эстакаду, внезапно загорелся небольшой автобус. Мгновенно образовалась пробка, которая за короткое время растянулась на несколько километров. План генерала Пети работал как швейцарский часовой механизм. Без сбоев…
Иселин К. Херманн. Par avion
Отрывок из романа в письмах
19 декабря
Жан-Люку Форёру
…даже не кожей, а на каком-то подкожном уровне, там, где плоть переходит в жидкое состояние, я ощущаю Вашу картину «Sans titre 2,22 × 2» («Без названия, 2,22 × 2» (фр.).), вижу ее на стене парижской галереи «Игрек».
А может, все проще, и мое тело впитало в себя переливы ее красок?
Хотя эта картина принадлежит не мне, она моя.
Спасибо,
Дельфина Хау
Дельфина Хау!
Ваша открытка крайне меня обрадовала.
Обрадовала, потому что я узнал Ваше ощущение. У меня оно возникает от некоторых стихов Уолта Уитмена или сонат Бетховена. И мне не просто кажется, что эти стихотворения или музыкальные пьесы, которые в принципе не могут никому принадлежать, принадлежат мне, но даже чудится, будто их сочинили специально для меня.
Разумеется, я был тронут, что подобное впечатление произвела на незнакомого человека, да еще приехавшего из далеких краев, моя картина. Значит, подумалось мне, я тружусь не напрасно.
Хотя я почти перестал отвечать на письма поклонников (увы, я слишком занят другими делами) и хотя не принято благодарить за благодарственное письмо, мне все же захотелось написать Вам, тем более что на открытке стоял штамп с обратным адресом.
Жан-Люк Форёр
16 января
Месье Форёр…
…на сей раз я позволю себе послать не открытку, а письмо, зато потом я не стану более докучать Вам. Просто меня смутила мысль о том, что Вам показалось, будто штамп с обратным адресом поставлен в надежде на ответ.
Я поставила его на открытке под своей подписью, поскольку мне хотелось поместить себя в некую систему координат, которую представляет собой адрес. Адрес отправителя призван был дать чисто географические сведения: сообщить, что Ваша картина поселилась в такой-то стране, в таком-то городе, на такой-то улице, в таком-то доме, на таком-то этаже… поселилась там, где живу я… поселилась во мне. У меня не было задней мысли, что Вы ответите… так мне, во всяком случае, кажется.
За этим штампом скрывается история о том, что ни долгий путь в спальном вагоне через северную Францию, Бельгию, Германию и пол-Дании, ни пеший переход с вещами до указанного адреса и подъем на пятый этаж не сумели изгнать из моего тела нового ощущения.
Ощущение это трудно понять и тем более описать. Больше всего оно похоже на сладостно-томительное чувство, каким сопровождается влюбленность… или, скажем, лихорадка. Некое беспокойное трепетание нервных окончаний.
Сегодня я нарочно не пишу на обороте конверта свой адрес — в надежде, что Вы выбросили открытку и мое письмо не наложит на Вас никаких обязательств; просто примите к сведению, что Ваш труд вносит свою лепту в совершенствование мира.
С дружеским приветом,
Д. Х.
Дельфина Хау!
При всей своей спешке не могу не отписать Вам, поскольку Вы, кажется, намерены оставить за собой последнее слово.
Это Вам не удастся. Если обстоятельства таковы, какими Вы их изображаете, и моя работа действительно произвела на Вас столь неизгладимое впечатление, последнее слово должно всякий раз оставаться за мной.
Ж.-Л. Ф.
15 февраля
Месье Форёр!
Возьму на себя смелость снова ответить Вам, хотя был большой соблазн воздержаться.
Этот соблазн донимал меня почти месяц.
…Не поддаваться соблазну, держать себя в руках, не давать волю чувствам значило бы вести себя независимо, сохранять женское достоинство… так мне, во всяком случае, кажется.
С тех пор, как я получила Ваше последнее письмо, во мне происходила подлинная борьба между естеством и укоренившимися представлениями о женственности. Чем более я стремилась проявлять приличествующую женщине сдержанность, тем сильнее противилась моя душа. Как видите, душа победила и я пишу Вам, поскольку не могу иначе.
Мне необходимо было написать, чтобы объяснить: я ни в коем случае не пыталась оставить за собой последнее слово. Просто я не хотела долее обременять Вас и тем паче обязывать к ответу.
Я никогда не стремилась оставить последнее слово за собой. Такое стремление диктуется жаждой мести, попыткой самооправдания или чувством самоупоения. Сказать последнее слово все равно что умыть руки после убийства… или, поразив цель, подуть в дуло револьвера. Сказать последнее слово означает поставить жирную точку — например, когда ты уходишь, хлопнув дверью. Я же предпочитаю скорее открывать, чем закрывать.
Неужели раскинуть руки в стороны не красивее, чем скрестить их на груди?
Неужели открыть окно не поэтичнее, чем решительно и практично закрыть его, оттого что в комнате стало холодно или вам надобно уйти из дому?
И, на мой взгляд, куда благороднее вовсе не отвечать, чем занимать выжидательную позицию.
Я прекрасно знаю, что благовоспитанной женщине не положено вступать в споры… но даже ей не возбраняется уронить белый (надушенный) платочек. Вот я и уронила его в сточный желоб.
Ой!
Дельфина Хау
С Вашего разрешения, фрёкен… я хожу следом и подбираю Ваши платочки…
Вы, наверное, молоды…
Угадал?
Ж.-Л. Ф.
29 февраля
Ж.-Л. Ф…. теперь, в отличие от прошлого раза, меня прямо-таки обуревает желание ответить Вам. Я чувствую вскипающее во мне раздражение. Какая разница, молодая я, старая или серединка на половинку? Может быть, писать в моем духе дозволительно, только если я не ведаю, что творю?
Впрочем, извините! Просто мне почудилась в Вашем вопросе обидная снисходительность. А если Вас интересует мой возраст, пожалуйста, давайте разберемся с ним.
Я достаточно взрослая, чтобы курить, но слишком молода, чтобы задумываться о последствиях.
Я достаточно взрослая, чтобы рожать детей, но слишком юна, чтобы становиться матерью.
Я достаточно взрослая, чтобы жить отдельно от родителей, но слишком молода, чтобы иметь собственный диван.
Я достаточно взрослая, чтобы зарабатывать деньги, но слишком юна, чтобы откладывать их на старость.
Я достаточно взрослая, чтобы уже получить образование, но слишком молода, чтобы начать выплачивать взятый на учебу кредит.
Я достаточно взрослая, чтобы помнить войну в Алжире (Имеется в виду война за независимость Алжира от Франции
Я переросла возраст, когда не спят ночами напролет, но не доросла до возраста, когда начинают спать после обеда.
Вот какая я.
Таков был пространный ответ, данный более молодой женщиной на краткий вопрос солидного мужчины.
Для Ж.-Л. Ф. от Д. Х.
Мне было бы трудно определить свой возраст столь же точно, как это сделали Вы, Дельфина, но я, несомненно, нахожусь на другом жизненном этапе и передо мной стоят иные проблемы. Впрочем, есть одна смешная деталь, указывающая на мой возраст: я как раз собираюсь завести себе новый диван! Старый, который я купил в юности, только-только переехав в Париж, совсем изодрался.
И я вполне понимаю Ваше раздражение и даже негодование по поводу моего вопроса. Тем не менее оно кажется мне забавным.
Обычно вопрос о возрасте воспринимается как бестактный женщинами средних лет. Тут же я задал его женщине, которую посчитал юной… и она тоже сочла его бестактным.
Нелегкое это, право, дело — подбирать платки за женщинами… что молодыми, что старыми, что средних лет. (Возможно, я таки зря подобрал его…)
Как бы мне поточнее описать собственный возраст? Могу, например, сообщить, что у меня есть пес, Бастьeн, которому по собачьим меркам столько же лет, сколько мне по человечьим. Кстати, он отнюдь не щенок.
Прилагаю также каталог последней выставки в Венеции, где помещено мое краткое жизнеописание. Казалось бы, куда точнее?.. Впрочем, я только что сообразил, что Вы и не спрашивали о моем возрасте. А я-то расписался… Но, раз уж так случилось, отсылаю Вам письмо с самыми дружескими пожеланиями.
Ж.-Л. Ф.
19 марта
Дорогой Жан-Люк Форёр!
…Ночью я сочинила Вам письмо, но не положила его в конверт и не отправила, а скомкала и бросила в корзину для бумаг. Так-то будет лучше. Утром же в прорезь для почты опустили толстенный конверт, и в нем обнаружился каталог. Спасибо!
Итак, сегодня я пишу другое письмо, благодарственное. А еще это письмо человеку, про которого я теперь знаю, что у него темные с проседью волосы, светлые глаза на смуглом лице, темная щетина на фоне белой рубашки, темное пятно масляной краски на плече, у самого рукава… и беспорядок на большом письменном столе. Я пишу человеку, у которого слева, на стопке книг, лежат очки для чтения, — а вовсе не юноше с нежным взглядом, фотография которого тоже помещена в каталоге. Нет, не юноше без единого седого волоса, не молодому человеку, которому и брить-то было почти нечего, но который, разумеется, посчитал нужным сходить в парикмахерскую, дабы тогда, в 1952 году, предстать на сделанном в Венеции черно-белом снимке этаким киногероем.
Я благодарю мужчину с поредевшими волосами, которые к тому же длиннее, чем у коротко стриженного юнца. Благодарю мужчину с решительной складкой возле рта, мужчину, который явно претендует на то, что ничуть не изменился со времен французской выставки во Дворце дожей.
Никто не может остаться прежним: мы меняемся от всякого сна и всякой грезы, от всякого поцелуя и всякого поражения, от всякой влюбленности и всякого путешествия. Медленно и незаметно все это обращается в так называемый «опыт». Нас меняет и всякая новая дружба, а потому стоит ли удивляться, если друзья детства постепенно расходятся? Они ведь уже не те, какими были прежде…
Я тоже изменилась за сегодняшнюю ночь. Отсюда и это письмо с благодарностью, а не то, которое сочинилось ночью.
Дельфина Хау
Вознагражденные усилия любви
Отрывок статьи Сергея Радлова к изданию сонетов Шекспира в переводе Александра Финкеля
За прошедшие столетия сонеты, как затонувший галеон, покрылись густым растительным слоем. Он состоит из разных толкований, среди которых немало замечательно интересных и очень много совсем иных, скажем так, не очень умных. Последние обладают невероятной живучестью и прилипчивостью — отделить их от текста или от фигуры самого автора кажется полезным делом. К примеру, еще не успевший прочитать и строки «Гамлета» человек уже, как правило, знает о том, что их автор и некто по имени Уильям Шекспир не есть одно лицо.
В России издавна бытует два полярных и одинаково ложных представления. Одно из них рисует Шекспира народного и доступного, как гармонь в сельском клубе. Расцвет этого панибратского отношения пришелся на годы сталинского режима, когда в юбилей вождя
Когда же новая Россия взяла курс по направлению то ли к себе дореволюционной, то ли к ценностям европейской демократии, возродился другой миф о Шекспире — придворном поэте, меланхоличном затворнике и снобе.
Тем читателям, кто не вполне свободен от этих или других предубеждений, возможно, будет интересно узнать, как понимали сонеты разные люди в разные времена. Узнать свою точку зрения в чужой, особенно если она принадлежит Вольтеру, Бернарду Шоу, Полю Валери, Уистену Хью Одену, не менее приятно, чем убедиться в неповторимости собственного суждения…
…В настоящей статье некоторое внимание уделено традиции чтения шекспировского текста как собрания шифров и анаграмм. Необязательно здесь подробно цитировать примеры, и мы ограничимся одним, но характерным. Hews старались прочитать в свою пользу сторонники клана Саутгемптона, увидев в слове прямое указание на имя и титул. В труде, изданном в двадцатые годы XX века, это выглядело следующим образом: «He. W. S.»: which leads us directly to «He(nry) W(riothesley Earl of) S(outhampton)». То есть слово указывает на Генри Ризли, графа Саутгемптона.
Видеть в слове «Hews» тайное значение из-за одного только написания не нужно. Множество самых разных слов в сонетах набрано так же, что не указывает на их сокровенный смысл. Крупный шекспировед Э. Дауден в работе 1881 года обращает внимание на использование того же шрифта наборщиками первого издания в сонетах 1, 4, 20, 55, 56, 78, 100, 104, 112, 114, 119,
В 1889 году Оскар Уайльд опубликовал рассказ «Портрет мистера W. H.», в котором предложил свой взгляд на цикл сонетов и взаимоотношения Шекспира и Друга. Уилл Хьюз, как рассказывает герой Уайльда, был талантливым актером, исполнителем женских ролей в шекспировской труппе, который ушел в труппу к сопернику Шекспира — Кристоферу Марло. Эта фантазия, «возвышенно гомоэротическая», по определению С. Шенбаума, существует в литературе о сонетах на равных правах с прочими. Уайльд в первых сонетах цикла прочитал желание Шекспира увидеть красоту и дар своего друга воплощенными в ролях — детях актера.
Поклонники Уилла Хьюза могут привести и косвенное, зато документальное свидетельство в пользу своего героя. Сохранившаяся запись от 22 сентября 1576 года о смерти первого графа Эссекса сообщает нам, что последней волей умирающего было желание услышать некую семейную песню в исполнении… Уилла Хьюза, игравшего на вирджинале2. Почему бы не вообразить, что Уилл Хьюз из сонетов был сыном музыканта Уилла Хьюза? Именно так и рассуждает персонаж Оскара Уайльда, но не писатель все же является творцом имени Хьюза — Друга. Имя звучало еще в XVIII веке, и ученым удалось найти немало его обладателей, включая корабельного кока, и даже выяснить обстоятельства его кончины и названия кораблей, на которых тот ходил в море. Почтительный тон одних сонетов далек от откровенного тона других, что и объясняет амплитуду выбора героя — от знатной персоны до актера и прочих обыкновенных смертных. Шекспир, как давно и справедливо сказано, подарил бессмертие всем обладателям инициалов W. H., жившим в одно с ним время.
Гипотезы, в соответствии с которыми Друг оказывался человеком скромного происхождения и столь же скромных дарований, появились давно3. Тому, что имя Уильяма Холла (William Hall) оказалось среди прочих, способствовал не только характер его занятий (он занимался издательским делом), но и непоколебимая вера в шифр, якобы наличествующий в посвящении Торпа. Буквы в третьей строке посвящения складываются в эту фамилию, если убрать точку между «H» и «A» — «Mr. W. Hall». Уильям Холл был родственником зятя Шекспира — врача Джона Холла, но и родственник Шекспира по линии жены — Уильям Хетеуэй (William Hathaway) был также одарен от рождения инициалами, необходимыми для участия в соревновании. В 1861 году дебютировала гипотеза о том, что Шекспир, для того чтобы поддержать провинциала, снабдил его рукописью, которую последний должен был пристроить с выгодой для себя и автора.
Даже если бы чудом удалось примирить сторонников всех многочисленных «кланов», каждый из которых отстаивает своего «Mr. W. H.», принципиальный вопрос остался бы без ответа. Характер отношений Шекспира и Друга всегда будут интерпретировать диаметрально противоположным образом. В каждую из эпох доминирует одна из непримиримых точек зрения. Сегодня в фаворе взгляд, утверждающий плотскую связь между Шекспиром и Другом. Заметим, что после упомянутого издателя Джона Бенсона никто не сделал для популяризации темы гомосексуальности в сонетах больше тех ученых, которые самыми неадекватными способами пытались отстаивать положительный моральный облик поэта. В качестве аргумента в пользу добропорядочности предлагалось принять во внимание ранний брак Шекспира (1582) и рождение детей — Сюзанны (1583), Гамнета и Джудит (1585). Очевидное возражение прозвучало немедленно — возможная бисексуальность поэта. Ничего кроме иронических усмешек, несмотря на свою растиражированность, не вызвало и беззащитное рассуждение о «культе дружбы, которая ценилась выше любви в эпоху Возрождения».
От общих рассуждений вернемся к лексике сонетов, в частности к использованию Шекспиром слова «lover», не пытаясь обмануть себя тем, что это слово, употребляемое по отношению к Другу, бесспорно означает доброго и надежного товарища. Однако оно никак не может иметь и единственного значения «любовник», потому что содержание сонетов 31 и 55 окажется в таком случае, прямо скажем, патологическим. В сонете 31 Шекспир тоскует об ушедших из жизни близких и любимых людях, а не о легионе сгинувших сексуальных партнеров. В сонете 55 Шекспир обещает другу любовь новых поколений будущих читателей сонетов, но ни коем случае не будущих любовников из их числа.
Об этом нюансе резонно вспомнить уже по той причине, что в некоторых толкованиях новейшего времени гомосексуальность Шекспира безраздельно властвует на всем пространстве цикла, включая открывающие его сонеты. С нечеловеческой проницательностью В. Микушевич разглядел истинные намерения поэта, на словах вдохновляющего Друга полюбить женщину и продолжить род, а на деле подталкивающего наивную жертву к выбору совершенно иного свойства: «В первых сонетах воспевается исключительно он, а не соответствующая она, его возможная избранница, и подспудно внушается мысль, что, если ему при его совершенствах доступна любая женщина, никакая женщина его недостойна, и, стало быть, его любви недостойна… женщина».
Возвращение из этой виртуозной шахматной комбинации в лоно сонетов убеждает в том, что Шекспир был много прямодушнее своих современных читателей. Любое из первых стихотворений цикла не оскудеет, если мы решимся поверить в то, что автор говорит именно то, что говорит. Как, например, в сонете 16:
Но почему бы не избрать пути
Тебе иного для борьбы победной
С злым временем? Оружие найти
Вернее и надежней рифмы бедной?
Ведь ты теперь в расцвете красоты
И девственных садов найдешь немало,
Тебе готовых вырастить цветы,
Чтоб их лицо твое бы повторяло.
И то, что кисть иль слабый карандаш
В глазах потомства оживить не в силах,
Грядущим поколеньям передашь
Ты в образах, душой и телом милых.
Себя даря, для будущих времен
Своим искусством будешь сохранен.
…Уходящие в бесконечность стеллажи с книгами о сонетах, добротными и невежественными, талантливыми и безжизненными, появились не по воле злого духа, пожелавшего забрать у человечества гениальные стихи и заме¬нить их рассуждениями об их смысле, словарями елизаветинского англий¬ского, историческими или псевдоисторическими сведениями. Великий текст создает вокруг себя особое пространство, не знакомое точным наукам напря¬жение. Он манит своей открытостью, родством зафиксированного в слове движения души нашим чувствам и с брезгливостью отстраняет от себя в то мгновение, когда, обманувшись его доступностью, мы начинаем обустраи¬ваться в непосредственной близи, будто у кресла любимой бабушки.
Одни книги живут дольше других, быть может, не по случайному сте¬чению обстоятельств и обладают особой силой и властью не в одних ми¬стических триллерах. Возможно, сам шекспировский текст в значительной степени определил взаимоотношения с читателем. Когда между елизаветинским английским и современным язы¬ком с течением лет образовался разрыв, затруднивший чтение, пришли уче¬ные, которые восстановили эти связи. Без их трудов было бы невозможно создание какого-либо текстологического комментария, в том числе и под¬готовленного для настоящего издания. Когда время поэта с его событиями и ожиданиями, бытом, стихами, ремеслами, звуками, запахами, обычаями и манерами людей стало именоваться «старинным», выяснилось, что архивы сохранили для нас многое для того, чтобы не чувствовать себя в той эпо¬хе марсианами. А вот намерениям другого свойства суждено остаться не-удовлетворенными. Обрести полную свободу перемещения в пространстве цикла с правом заглянуть в любую из дверей, за которыми мы, как в сла¬бенькой фантастической прозе, смогли бы увидеть течение жизни Шекс¬пира или попытаться найти в цикле сюжетную последовательность — а эти два желания очень близки — не удастся никогда…
…Для этого издания подготовлена Избранная хронология жизни и твор¬чества поэта, которая позволит читателю отделить включенные в нее до¬стоверно подтвержденные факты от их интерпретаций и догадок, которые неизбежно присутствуют в любой шекспироведческой работе. Биографиче¬ские и исторические обстоятельства в настоящей статье неодно-кратно упо¬минаются в связи с так называемым «спором об авторстве шекспировских произведений». Для игнорирования этого сюжета, как и для его подробного освещения, есть равно убедительные причины. Вряд ли верна позиция нейтралитета по отношению к дискуссии, которая немалому количеству читателей кажется занимательной или даже принципиальной. Кем был Шекспир на самом деле — актером или блестящим придворным? Был он хрупким и болезненным кабинетным человеком невероятной работоспо¬собности? Или сыном заурядного перчаточника, получившим в наследство от родителей жизненную силу и актерский темперамент, а от выбравшей его непредсказуемой природы — гениальность? Откуда берется свобода, с которой он обращается к истории, перемещается вместе со своими героями по мировому пространству? Из всеобъемлющего знания? Или мы прини¬маем за него творческую волю, невероятное воображение, делающее убеди¬тельным самую далекую от истории и уклада жизни людей фантазию? Был он философом Фрэнсисом Бэконом, королевой Елизаветой, графом Окс¬фордом? Или за именем Шекспира скрывался поэт Марло? Или Уильям Шекспир и был Уильямом Шекспиром?
Не меньше, а наверняка много больше читателей, кому подобные во¬просы абсолютно безразличны. Шекспир — это великие пьесы и стихи, а биографические обстоятельства, реальное имя человека, их создавшего, не имеют для многих по прошествии веков абсолютно никакого значения.
Дело не в одном лишь имени или в попытках приспособить ту или иную биографию к шекспировским драмам и стихам. До нас сказано, что в Шекс¬пире можно прочитать любую из миллиардов прожитых на земле жизней, в том числе и каждого из претендентов на роль «истинного автора» шекспи¬ровских произведений.
Авторы биографических гипотез обычно венчают свои рассуждения со¬зданием детализированного портрета «истинного» Шекспира, который вы¬глядит безжизненно отталкивающим. В списке — по их выражению — «отпе¬чатков личности» Шекспира обозначена «принадлежность к кругу высшей аристократии», «классическое образование того времени», «сочувствие сторонникам Ланкастеров в войне Алой и Белой розы», «любовь к Италии и знание ее», «щедрость и великодушие», «любовь к музыке» и — особо важ¬ной строкой — «неуверенность в отношениях с женщинами».
Последний оборот воспроизведен в орфографии современного рос¬сийского автора, убеждающего своих читателей, что природное половое бессилие и суровое идейное ограничение любовных отношений сферой платонического суть главные черты индивидуальности истинного автора шекспировских произведений. Несуразность предложенного образа оче¬видна каждому, кто знает Шекспира если не в подлиннике, то в переводе, пусть не талантливом, но по крайней мере добротном.
К теме русских переводов Шекспира мы еще обратимся, хотя один пример и сейчас будет нелишним. Речь о сонете 151. С. Маршак, переводивший соне¬ты в сороковые годы XX столетия, думается, рисковал, осмелившись оставить сотни тысяч зорких советских читателей и читательниц наедине с откровен¬ным шекспировским слогом, но не стал уводить их в задушевные поэтические дали, прочь от оригинала. Вероятно, мы читаем единственное эротическое сти¬хотворение, чудесным образом не только прошедшее сталинскую цензуру, но и отмеченное, вместе с другими сонетами, Сталинской премией:
Не знает юность совести упреков,
Как и любовь, хоть совесть — дочь любви.
И ты не обличай моих пороков
Или себя к ответу призови.Тобою предан, я себя всецело
Страстям простым и грубым предаю.
Мой дух лукаво соблазняет тело,
И плоть победу празднует свою.При имени твоем она стремится
На цель своих желаний указать,
Встает, как раб перед своей царицей,
Чтобы упасть у ног ее опять.Кто знал в любви паденья и подъемы,
Тому глубины совести знакомы.
Литература, созданная адептами так называемого «нестратфордианского» направления, проще говоря, теми, кто не считает Уильяма Шекс¬пира из Стратфорда-на-Эйвоне автором своих произведений, необозримо обширна. Однако «нестратфордианцы» демонстрируют редкий феномен коллектив¬ного сознания. Абсолютная произвольность аргументации, брезгливое отношение к литературному тексту как справочнику с необходимой ин-формацией, отрицание органической, не книжной природы гения превра¬щают «нестратфордианские» труды в одно, с бесконечными повторами, сочинение. «Нестратфордианцы» в качестве костыля любят использовать имена Марка Твена и некоторых других замечательных людей, в зафик¬сированной светской беседе, фельетоне или стихотворении высказавших сомнение в аутентичности Шекспира из Стратфорда и творца «Гамлета». Владимир Набоков написал стихотворение о «Вилле Шекспире, подписы¬вавшем чужие труды за плату», усомнились Уолт Уитмен, Генри Джеймс, Зигмунд Фрейд, Поль Валери. Список известных писателей и философов, считавших «спор об авторстве Шекспира» самым абсурдным эпизодом в истории мировой литературы, занял бы несколько страниц убористого текста. Однако и Поль Валери, сказавший, что «Шекспир никогда не су¬ществовал, и жаль, что пьесы подписаны его именем», продолжает свое рассуждение так: «„Книга Иова“ не принадлежит никому. Самые полез¬ные и самые глубокие понятия, какие мы можем составить о человеческом творчестве, в высшей степени искажаются, когда факты биографии, сенти¬ментальные легенды и тому подобное примешиваются к внутренней оцен¬ке произведения. То, что составляет произведение, не есть тот, кто ставит на нем свое имя. То, что составляет произведение, не имеет имени» (пер. В. Козового)…
66
Tired with all these, for restful death I cry,
As, to behold desert a beggar born,
And needy nothing trimmed in jollity,
And purest faith unhappily forsworn,
And gilded honour shamefully misplaced,
And maiden virtue rudely strumpeted,
And right perfection wrongfully disgraced,
And strength by limping sway disabled,
And art made tongue-tied by authority,
And folly, doctor-like, controlling skill,
And simple truth miscalled simplicity,
And captive good attending captain ill:
Tired with all these, from these would I be gone,
Save that to die, I leave my love alone.66
Устал я жить и умереть хочу,
Достоинство в отрепье видя рваном,
Ничтожество — одетое в парчу,
И Веру, оскорбленную обманом,
И Девственность, поруганную зло,
И почестей неправых омерзенье,
И Силу, что Коварство оплело,
И Совершенство в горьком униженье,
И Прямоту, что глупой прослыла,
И Глупость, проверяющую Знанье,
И робкое Добро в оковах Зла,
Искусство, присужденное к молчанью.
Устал я жить и смерть зову, скорбя.
Но на кого оставлю я тебя?!66
Tyr’d with all these for retfull death I cry,
As to behold desert a begger borne,
And needie Nothing trimd in iollitie,
And puret faith vnhappily forsworne,
And gilded honor hamefully misplat,
And maiden vertue rudely trumpeted,
And right perfecion wrongfully disgrac’d,
And trength by limping sway disabled,
And arte made tung-tied by authoritie,
And Folly (Docor-like) controiling skill,
And imple-Truth miscalde Simplicitie,
And captiue-good attending Captaine ill.
Tyr’d with all these, from these would I be gone,
Saue that to dye, I leaue my loue alone.
Сонет занимает первое место по количеству существующих вариантов его перевода на русский язык и, наверное, по известности в России. Советские школьники звонко декламировали ясные строки С. Маршака:
Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье.
Автор публикуемого перевода посвятил этому сонету статью, фрагмент которой мы цитируем здесь в качестве комментария:
«Какие требования предъявляет к переводчику этот сонет? Ни его ритмомелодика, ни его композиция, ни его синтаксическая структура каких-либо особых трудностей не представляют. Точно так же и лексика его не отличается какими-либо коварными особенностями: нет в ней ни диалектизмов, ни профессионализмов, ни трудной идиома-тики, ни просторечия и т. п., — перед нами обычная книж¬ная лексика, несколько даже перегруженная абстрактными словами, но все же не специфически книжная и вполне доступная воспроизведению средствами современного рус¬ского литературного языка. Не бросается в глаза и образ¬ная система сонета — нет в ней ничего, что хотя бы отда¬ленно могло быть названо пышным, ярким, вычурным, — наоборот, в сонете нет почти никаких образов, а то, что есть, не выходит за рамки несложного олицетворения. Однако это отнюдь не значит, что сонет Шекспира во всех отношениях элементарен и легок.
Семантически весь сонет построен на антитезах, то развернутых, то свернутых, сжатых: Достоинству, пребы¬вающему в нищете (стих 2), противопоставляется Ничто-жество, процветающее в блеске (стих 3); Правдивость назы¬вается Глупостью (стих 11), а Глупость проверяет Знание (стих 10); Добро порабощено и служит победившему Злу (стих 12); Доверие обмануто (стих 4), а почести воздаются недостойным (стих 5) и т. д. Развернутые антитезы охватывают по два стиха, как, например, 2 и 3, 10 и 11; сжатые вмещаются в одном стихе (стихи 4, 5, 6 и следующие). Более одной антитезы в стих не вкладывается. Все они представляют собой ряд одно¬родных дополнений, подчиненных одному и тому же управляющему слову — «видеть» (to behold); всего их 11, отсюда синтаксический параллелизм 11 стихов
Когда поиск тайнописи в сонетах становится болезненной страстью, загадки мерещатся везде. Так, слово «Rose», встречающееся в сонетах 1, 67, 95, 109, всегда набрано с большой буквы. Как отметил Х. Э. Роллинс — удивительно, что до сих пор никто не отыскал биографию какого-нибудь жившего в ту эпоху в Лондоне мис-тера Роуза, чтобы представить его в качестве Друга из сонетов.
2 Сонет 8, с первой строкой — обращением к адресату: «Ты — музыка», указывается партией У. Хьюза как доказательство профессиональной принадлежности Друга — Mr. W. H.
3 В известном британском издании тридцатых годов XX века под редакцией Джорджа Л. Киттреджа сонеты разделены следующим образом: сонеты 25, 26, 38 отнесены к тем, что могли быть вручены вельможе; сонеты 30, 31, 32 предположительно адресованы тому же покровителю или человеку примерно равного поэту социального уровня; но сонеты 20, 21, 48, 56, 66, 69,
Красильников
Очерк из книги Льва Лосева «Солженицын и Бродский как соседи»
Я знал двоих харизматиков с очень своеобразной манерой речи, не заразиться которой было трудно, по крайней мере в их присутствии, Голявкина и Красильникова. Со временем это прошло, а в университетские годы все в нашей компании говорили, в меру своих имитационных возможностей, как Красильников. Я не умею описывать живую речь. Прежде всего, она неотделима от всего остального — манеры держаться, походки, мировоззрения. Красильников по меркам нашего низкорослого поколения был высок — примерно метр восемьдесят. Он ходил немного сутулясь, немного косолапо, немного пританцовывая. Потом, после тюрьмы и лагеря, прибавилась еще привычка при ходьбе держать руки за спиной. Он клонил голову набок, как бы пригорюнившись. Еще и подпирал щеку рукой. Голос у него был низкий и довольно гундосый. Вот я и подошел к необходимости описать его речь. Можно сказать, что интонационной основой она напоминала речь стариков-резонеров из народа, вернее, из советского кино — в ней была напевность и назидательность. Позднее, лет через двадцать, сходную манеру говорить культивировали в своей среде ленинградские художники-«митьки», но, мне кажется, у Красильникова это звучало помягче, не так откровенно пародийно. Да и лексика, фразеология Красильникова были, в основном, литературны, с цитатными только вкраплениями «народных» речений. Кстати, он вообще был довольно немногословен по контрасту со своим ближайшим другом Юрой Михайловым. Юра говорил в той же манере, и кто из них от кого ее перенял, я не знаю. Но Юра был словоохотлив, голос у него, при корявом, но крепком телосложении, был тонкий и сипловатый, в обращении с людьми был он смолоду резок, да еще Юра не пил, не курил — так что особой притягательностью не обладал. Однако были они в пятидесятые годы неразделимым тандемом. Они были порядочно старше нас, на четыре года. Когда мы учились на первом курсе, они, восстановившись после перерыва, на третьем. (Миша и Юра, оба 1933 года рождения, поступили в ЛГУ в 1951-м. Их выгнали из университета со второго курса, в декабре 1952 года, после многократно описанного «будетлянского хэппининга». Восстановили на следующий год.)
Бывшие однокурсники, я думаю, Миши и Юры как политически запятнанных немного побаивались и сторонились и уж точно не хотели больше с ними играть ни в какие футуристические игры, а мы хотели, да еще как! Сейчас у историков ленинградской литературы вошло в обиход выражение «филологическая школа». Под этой рубрикой перечисляют Красильникова с Михайловым, Уфлянда, Ерёмина, Виноградова, Кулле, а также Кондратова и меня. Это название условное, бессодержательное, оправданное только тем, что мы похаживали в литературное объединение филфака (в 1956–1957 годах я даже был его председателем). Но школа, учение действительно имели место. Помню, я сочинил стихотворение про строительство Петербурга. Очень им наутро после сочинения гордился и, увидев на филфаке Юру и Мишу, потащил их выслушивать мой опус. Мы нашли укромное местечко в том крыле здания, которое студенты филфака почему-то, но в данном случае уместно, называли «школой». Миша и Юра уселись на подоконник, а я им декламировал. Это было подражание романтическим стихам Антокольского. К тому же, соблазненный возможностями парономазии, я там заигрался со словом, ни смысла, ни даже правильного произношения которого я не знал, «прAсол» (торговец скотом, а я смутно думал, что вообще купец, и полагал, что ударение на втором слоге). Как начиналось, не помню, а кончалось так: «ПрасOлы про соль толковали, про сало. / То в жар, то в ознобы эпоху бросало. / Эпоху трясло на [не помню, на чем], / Эпоху несло на косых парусах / Туда, где приснится Марии иль Магде / Тот русский матрос из трактира, туда, где / В оглохшее небо стучится заря, / Как красный кулак молодого царя». Я ждал похвалы, но Миша и Юра сказали, что не «прасOлы», а «прAсолы», что стих так себе, но что-то в нем есть и привести его в порядок можно. Тут же они стали, подсказывая друг другу, импровизировать, хохоча от удовольствия. Из моего сочинения им в результате понадобились только злополучные «прасолы» и «Магде». Получилось у них нечто вроде:
Прасолы про соль да про сало — напраслина!
Если ясли в масле, так ясли на прясле — на!
А Магде к выгоде, эх, да по Вологде
Туда, где смарагде-ягоде долог день.
И еще пара строф в таком духе (я не помню, только попытался примерно воссоздать). Они похохатывали — Миша гулко и мотая головой, а Юра тонко и сипловато — и повторяли нараспев и назидательно: «Поучили маленько…»
Это и вправду было учение. И мне оно пошло впрок — я и без того писал не много, а вскоре перестал совсем, в значительной степени потому, что когда мы собирались, пьянствовали и начинали читать стихи, я знал, что, если я прочту свое сочинение, Красильников не будет мотать головой от удовольствия, как он делает, слушая Уфлянда или Кулле, не будет повторять мою строку, как он повторяет вслед за Ерёминым: «Мяч головы покатится мечтать…» («Мяч головы покатится… — и, сильно мотая головой, с напором на каждую согласную: — ме-ч-та-ть…»). Когда двадцать лет спустя я неожиданно для себя самого опять сочинил стихотворение, получилось так, что первым, кому я его показал, был Юра Михайлов. Хотя я это стихотворение похерил, никому больше не показывал, но неожиданное, хотя и не безоговорочное, одобрение Юры словно отпустило меня на волю. Но учение мое состояло не только в том, что меня научили строго относиться к тому, что пытается выйти из-под моего пера. «Будетлянство» Красильникова и Михайлова проникло в меня очень глубоко. Не в том смысле, чтобы я старался создавать футуристические пастиши, и даже не филологически, установки на «самовитое слово», как мне, по крайней мере, кажется, в моих стихах нет. Есть другое — глубоко укорененное отношение к поэзии как к игре. Наверное, этот игровой императив действует на подсознательном уровне, а уже на полусознательном возникает необходимый баланс между игрой и сентиментальным, медитативным содержанием. Я никогда не встречался с покойным А. Д. Синявским, даже, наверное, по эмигрантским раскладам числился во враждебном ему лагере, но вот что мне рассказал Саша Генис. На вопрос: «Что вы думаете о стихах Лосева?» — Синявский ответил: «Лосев, он — последний футурист». Очень может быть, что покойный критик имел в виду что-то совершенно иное, но я — см. вышесказанное — поразился проницательности этого замечания и мне захотелось тут же сообщить о нем Мише и Юре. Только ни Юры, ни Миши уже не было.
Впрочем, и в молодости однажды Красильникову сильно понравилось нечто мной сочиненное, и это необычное обстоятельство привело к тому, что я был обвинен в плагиате, притом юридически вполне основательно. А понравилось ему вот что. Мы в качестве застольной игры коллективно сочиняли поэму, полуподражая-полупародируя Заболоцкого. Мы тогда обожали «Торжество земледелия». Мой вклад был такой: «Природы вид являл собой / довольно странную картину: / шахтер спускался в свой забой, / стоял на вахте часовой, / крестьянин мирно пас скотину…» И еще, в описании главного героя: «Лицом похожий на еврея, / он обижать не хотел никого, / но иногда в свободное от работы время / прыгал с парашютом Котельникова» (парашют системы Котельникова был нам знаком по плакатам на военной кафедре). Красильников так размотался головой, так развосхищался, что мне пришла на ум редкая по глупости идея. Я ему сказал: «Давай меняться — я тебе отдам авторство своей доли в поэме, а ты мне — какого-нибудь стихотворения…» На что он, всегда склонный к игре, согласился, а наши товарищи сделку одобрили и отметили очередным выпиванием. Стихотворение, выменянное мною у Красильникова, было такое:
В лесу погода аховая,
Но ветер сник.
Идет, ружьем помахивая,
Седой лесник.Капканы на тропе сними,
Попался волк.
Лесник уходит с песнями
В далекий лог.Мети, метель неистовая,
Набегом орд.
Старик идет, посвистывая,
По гребням гор.
Видимо, Мише «Лесника» этого не особенно было жалко, а мне было все равно какое стихотворение, мне нравилась игра. Но я заигрался — отдал приобретенный стих в филфаковскую стенгазету. Как только стенгазету вывесили, разыгрался скандал. Была на филфаке, на курс старше меня, такая пара приятелей-стихотворцев — Борис Гусев и Валерий Шумилин. Валерий сочинял стихи для детей, а Борис бесконечную поэму «Дед». Из «Деда» помню четыре строки: «Шинкарка налила солдатам водки, / Привычным глазом точно рассчитав, / Чтоб на вокзал пришли такой походкой, / Какой военный требует устав». Из детских стихов Шумилина помню две строки, поскольку их любил цитировать Герасимов, не упускавший случая инсинуировать эротику: «Всем мы классом Витю просим, / Очень просим: покажи!» (на самом деле просили показать щенка или ежика). Гусев и Шумилин отличались скандальностью. Все время они кого-то разоблачали, с кем-то публично ссорились, даже время от времени между собой. Однажды в коридоре филфака я увидел такую сцену: на скамеечке мирно сидел Валя Малахов, мастер спорта по вольной борьбе, тоже писавший стихи. Неожиданно к нему подбежал кругленький подслеповатый Шумилин и стал мелко и часто плевать ему в лицо: тьфу, тьфу, тьфу. На мою беду Гусев и Шумилин были знакомы с творчеством Красильникова, и они бурно занялись уличением меня в плагиате. И тут-то я понял, в какую дурацкую историю попал: как объяснить комсомольским судьям наши литературные игры? Но пришлось объяснять. Видимо, именно крайняя нелепость объяснения спасла меня от суровой кары.
Авторитет Красильникова и Михайлова был основан не только на разнице в возрасте между ними и нами, остальными, но, конечно, и на их легендарном прошлом. Их «неофутуристическая» легенда словно бы придавала глубину нашему культурному существованию, была нашей мифологической предысторией. Времени-то между их неофутуристическими подвигами и нашим знакомством прошло всего два года, но в моем и, думаю, моих сверстников сознании между концом 1952 и концом 1954 годов возвышались два внушительных водораздела. Во-первых, когда они совершали свои неофутуристические деяния на филфаке, мы были еще детьми, школьниками. Во-вторых, произошла историческая смена эпох, время стало делиться на до и после смерти Сталина. Перемена цайтгайста ощущалась нами очень остро. Декабрь 1952 года помнился как самый темный и глухой момент перед наступлением перемен, и по контрасту деяния Красильникова и Михайлова воспринимались как особенно яркие и героические.
Я учился в девятом классе, когда прочитал в «Комсомольской правде» статью «До следующего пришествия…» (11 декабря 1952). «В аудиторию входят трое юношей. На них длинные, до колен, рубахи, посконные брюки, в руках лукошки. Стараясь привлечь всеобщее внимание, они усаживаются за стол и достают… гусиные перья. <…> Ряженые, стараясь быть у всех на виду, пробираются поближе к кафедре, вынимают из лукошек деревянные плошки, разливают бутылку кваса и начинают попивать его, напевая „Лучинушку“». Насколько я припоминаю, начало статьи вызывало смешанные чувства. С одной стороны, описывалось нечто яркое, необычное, с другой стороны, не совсем понятно было официальное негодование — ведь всяческое русопятство в тот период поощрялось, было едва ли не в центре идеологической политики. Но дальше становилось понятнее и симпатии к героям статьи росли: «…Глумясь над священными для нас именами Пушкина и Гоголя, они всячески расхваливают гнилую, растленную поэзию символистов и прочих „истов“. С чьей-то легкой руки шумливых недоучек стали называть „неофутуристами“. Хлесткое словечко, видимо, пришлось им по вкусу». Я еще в детстве сочувствовал «зазнавшимся», «оторвавшимся от коллектива» героям советских пьес и кинофильмов. Они были куда интереснее правильных комсоргов с волнистыми чубами. А уж на шестнадцатом году и сам втайне считал себя оторванным от коллектива и к символистам и футуристам испытывал большой интерес.
В 1991 году Миша сказал интервьюеру, что их акция была чисто эстетической, никакой политики у них и в мыслях не было. По рассказам Юры, почти все студенты и преподаватель (не добрейшая ли Верa Федоровнa Иванова? — не могу припомнить) отнеслись ко всему как к веселой шутке в духе капустников. Но несколько комсомольских карьеристов стали раздувать «дело», придравшись поначалу к тому, что все произошло 1 декабря — траурная дата, день смерти С. М. Кирова. В комитет комсомола их стал тащить некий Иванов, который на вершине карьеры, четверть века спустя, стал куратором изобразительных искусств в ЦК партии, куда к нему в трудную минуту Юра Михайлов обратился за помощью и тот помог, и вообще они подружились, вот как бывает. Но в декабре 1952-го Юра перепугался больше, чем Миша, потому что у него был эпизод с вызовом в госбезопасность еще в школе.
Миша, кажется, был напуган меньше, поскольку в политическом отношении за собой грехов не ведал. Отец его был военный политработник, и сам Миша, насколько я могу судить, в юности верил в «социализм с человеческим лицом», хотя само это выражение появилось позже. Про свою бабушку-дворянку он добродушно говорил, что она «сохранила верность кадетским идеалам», но в остальном семья была безупречна. Родители даже думали назвать сыновей в честь двух основных направлений политики партии — Индустриарий и Аграрий, но на Мише, к счастью, одумались. А вот его старший брат, пошедший по армейским стопам отца, таки стал Индустриарием. Правда, когда он приехал в Ленинград после ареста Миши и встречался со мной, чтобы расспросить о событиях 7 ноября, представился: Андрей.
7 ноября 1956 года мы сговорились встретиться у филфака, чтобы пойти на демонстрацию. Мы на все демонстрации ходили, потому что было весело идти в толпе по мостовой, отбегая время от времени в сторонку, чтобы выпить. А после демонстрации еще предстояла большая выпивка у кого-нибудь дома. У Уфлянда есть прелестное стихотворение об этом: «Сиденье дома в дни торжеств / есть отвратительный, позорный жест…» Двух демонстраций в год, 1 мая и 7 ноября, было мало, и мы иногда спонтанно устраивали свои, подогретые алкоголем, в прямом смысле слова демонстрации. Например, препятствуя движению прохожих, в густой толпе, где-нибудь между Фонтанкой и Литейным на Невском становились в круг, вытолкнув одного в центр, и начинали водить хоровод, играть в «Каравай» с приседаниями и вставанием на цыпочки: «Вот тако-ой вышины! Вот тако-ой нижины!» Летним днем вышли из жилья-мастерской Целкова на Гагаринской (Фурманова), неся перед собой главный на тот момент шедевр Олега, большой «Автопортрет в нижнем белье». Рубаха и кальсоны на автопортрете были фиолетовые, но на самом деле пылающие напряженным, как над газовой горелкой, пламенем, в котором переливались все тона красного, то есть сконцентрированные краски советского праздничного дня. Поощряемые художником, пронесли картину по Кутузовской набережной до спуска к воде, спустились и окунанием окрестили ее в Неве. Или просто маршировали по людным местам, распевая на популярные мелодии строчки из любимых стихов: на мотив песенки «Три танкиста» пели из Пастернака «Прорываясь к морю из-за почты, / Ветер прёт наощупь, как слепой, / К перекрестку, несмотря на то, что / Тотчас же сливается с толпой…»; на мотив «Марша авиаторов», слегка приспособив, Хлебникова «Тулупы [тулупы, тулупы] мы, / Земляные кроты, / Родились [родились] мы глупыми, / Но глупым родился и ты». Последнюю строку для пущего эпатажа выкрикивали в лицо какому-нибудь прохожему. Но, странное дело, я не помню, чтобы люди обижались, грозили нам. Миша еще любил на мелодию популярной американской песни «I love Paris in the moonlight…» петь «Это Лукас Арвареда, он идет сюда с ножом…» Строка повторялась множество раз, следуя вариациям тягучей мелодии. «Арвареду» он вычитал из латиноамериканского романа, кажется, Жоржи Амаду. Тут сошлись два пристрастия, свойственные многим в его поколении, к американскому джазу и к вычитыванию из книг, особенно переводных, текстов и сведений, которые сами по себе в советское издание не попали бы. Часто пытался он петь на непонятно какую мелодию (слуха у него не было) «Мы писатели ножом, / Тай-тай, тара-рай!»
Между прочим, «писатели ножом» — это у Хлебникова из Ницше: «философствовать молотом».
Я с благодарностью вспоминаю эти игры, потому что, для меня по крайней мере, они были больше, чем юношеские шалости. У Красильникова было очень развитое интуитивное понимание игровой природы искусства, в особенности авангардного искусства — русского футуризма, обэриутов. И нам он помог избежать ловушки осерьезнивания того, что по природе своей весело и легко. В середине шестидесятых, начитавшись «нео-обэриутских» сочинений авторов следующего за нами поколения, я спросил у Герасимова, почему это перечитывать Хлебникова и Введенского мне интересно, а читать этих ужасно скучно. Мыслящий как всегда трезво Герасимов ответил так: если бы можно было из футуристов и обэриутов устранить смешное, они тоже стали бы скучными.
Миша обожал праздничные шествия еще и потому, что ему нравилось орать во все горло. Уже после лагеря мы с ним ходили на футбол. Моя теща Анна Всеволодовна подрабатывала контролером на Кировском стадионе и пропускала меня с приятелями без билетов. Перед началом матча мы, как и все нормальные болельщики, выпивали на травке по дороге к стадиону. Во время матча, всякий раз когда судья назначал штрафной в наши («Зенита») ворота и болельщики начинали шуметь, Миша во всю свою зычную мощь самозабвенно вопил: «Су-у-ука!» Но к середине матча и тогда, когда штрафной назначался в сторону нашего противника, Миша, так же закатив глаза, вопил: «Су-у-ука!» — и соседи по трибуне поглядывали на него с удивлением и даже испугом: может, сумасшедший?
А он просто любил эти просветы воли — ходи где хочешь, ори что хочешь. В то утро нас всех разнесло в толпе и Красильникова я потерял из виду еще на подходе к Дворцовому мосту, но знал, что под вечер встретимся все у Уфлянда на Пантелеймоновской. Помню ожидание — что это его все нет? Разговоры о том, что, кажется, последний раз он мелькнул в компании своих рижских приятелей, Карла Лаува и «Китайца» (Китаенко). А уже позднее то ли пришел, то ли позвонил перепуганный Карл Лаува и сказал, что «Миху повязали».
Что он именно орал, проходя по Дворцовой площади, в точности неизвестно. Сам он на следствии и на суде, говорил: «Был пьян, ничего не помню». Мне из тогдашних рассказов запомнилось «Свободу Вен-грии!» и «Утопим крокодила Насера в Суэцком канале!». И Миша, и Юра обожали цитировать образцы всяческой политической риторики. Дело происходило в разгар подавления венгерского восстания и вскоре после Суэцкого кризиса, так что недавно услышанное по «Голосу Америки» или прочитанное в советских газетах легко наворачивалось Мише на язык. Другие вспоминают и наоборот — «Утопим Бен-Гуриона в Суэцком канале!». Я не исключаю, что Миша мог кричать и то, и другое, как он кричал: «Су-у-ка!», независимо от того, в чью пользу судил футбольный судья. Вроде бы он еще и орал: «Долой кровавую клику Бул-ганина и Хрущева!» Вроде бы на это намекает и вынесенный ему приговор: «Красильников выкрикивал антисоветские лозунги, направленные против Советского строя, — так, тавтологично, говорится в приговоре, — и одного из руководителей Советского государства».
Сравнивая с «Архипелагом ГУЛАГом» и с расправами брежневских времен, Миша отсидел четыре года без особенных страданий. Из мордовского лагеря он своим аккуратным почерком сообщал о книгах и журналах, которые там прочитал, просил прислать книги и журналы. Компания была хорошая — много молодых интеллигентных людей, писателей и художников. Попадались и люди иного круга. Вернувшись, Миша любил порой похвастаться, что знаком с Гитлером «через одного»: сидел в одном лагере с генералом вермахта Ферчем, осужденным за военные преступления, а тот лично знал фюрера. Но из всех Мишиных лагерных рассказов мне особенно запомнился такой. Сидел с ними один бывший военный летчик, чуть ли даже не Герой Советского Союза, который в конце войны попал в плен к немцам, а после войны был cразу посажен за то, что попал в плен, а при Хрущеве его не реабилитировали потому, что, отличаясь буйным характером, он успел чего-то уголовное натворить уже в лагере. И вот однажды его, опять наскандалившего, два надзирателя тащат в ШИЗО. Он вырывается, кричит: «Суки, фашисты! Немцы в Бухенвальде в карцер сажали, и вы сажаете!» На это пожилой надзиратель говорит ему укоризненно: «Значит, и там нарушал».
В интервью сотруднице «Мемориала» Миша говорил, что никогда не считал себя поэтом: «Я не ставил себе целью печататься, получить литературную известность, нет, такой цели у меня не было никогда» (Даугава. 2001. № 6. С. 114.). Да я и не помню, чтобы в нашем кругу, магнитным полюсом которого он был, он считался поэтом. Поэты — это Уфлянд, Ерёмин, Виноградов, Кулле, а Миша — это Миша. Если он сочинял что-то под Хлебникова и Заболоцкого, то нам всем это дружно нравилось, но, хотя вслух не говорили, мне кажется, подспудно все считали, что нравится не по поэтической категории, а по игровой, поведенческой. У него был изумительно ровный, четкий почерк, как у учительницы. Я не думаю, что такой почерк совместим с поэтическим дарованием. По отношению к поэзии он был скорее не писателем, а читателем. На определенной стадии опьянения он начинал экстатически читать стихи. Тут уж голова клонилась набок и моталась отчаянно. Его приводила в транс звуковая сторона стиха — аллитерации, ассонансы, парономазии. В первый период нашего знакомства главным текстом мишиного экстатического репертуара был «Гость» Леонида Мартынова. С какими отчаянными завывами читал он:
Убедитесь: не к бездне ведет вас прохожий,
Скороходу подобный, на вас непохожий, —
Тот прохожий, который стеснялся в прихожей,
Тот приезжий, что пахнет коричневой кожей,
Неуклюжий, но дюжий, в тужурке медвежьей.
Каким же праздником было для него это скопление «ж»! Он их артикулировал даже с каким-то дополнительным фырком, хотя вообще шепеляв не был. Как он тянул губы на всех четырех «у-ю» в последней строке!
Он и заинтересовал меня Мартыновым. Сначала я раздобыл книжечки, изданные во время войны, «Эрцынский лес» и «Лукоморье», а уж потом добрался до поэм, которые мне до сих пор здорово нравятся. Я листал в библиотеке двадцатых годов комплекты журнала «Сибирские огни», выискивая Мартынова. Взялся писать о нем курсовую работу. Нашел его в Москве по легко запоминающемуся адресу: 11-я Сокольническая, дом 11, квартира 11. Там, кстати, выяснилось, что Мартынов видел меня в детстве в Омске: «Сын Аси Генкиной…» — заулыбался он. Вернувшись в Ленинград, я рассказал маме, и она вспомнила: «В Омске однажды к нам приехал на велосипеде местный поэт Мартынов. На руле велосипеда висела связка баранок — пособие эвакуированной семье ленинградского писателя от омского отделения Союза писателей». Узнав, что Мартынову исполняется пятьдесят лет, Миша, Юра и Леня послали на его однообразный адрес такую телеграмму:
ПРОХОЖЕМУ ПРОНИКШЕМУ ДВЕРЬ ВЕЛИМИРА КРАСИЛЬНИКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ МИХАЙЛОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ЛЕОНИД ВИНОГРАДОВ
Я соглашался с ними, что Мартынов должен оценить сцепление имен, но про себя сомневался, что Леонид Николаевич догадается, что это за «дверь Велимира». Ведь он вряд ли был таким дотошным читателем всего, относящегося к футуризму, как Миша и Юра, а они намекали на строки о Хлебникове в поэме Асеева «Маяковский начинается»: «Он был Маяков-ского лучший учитель, / Но дверь за собой затворил навсегда. / А вы в эту дверь напирайте, стучите, / Чтоб не потерять дорогого следа».
Мог Миша с таким же упоением, как Мартынова, Маяковского или Хлебникова, иногда декламировать и какую-нибудь советскую чушь, если расслышивал там столь его чарующие повторения звуков: «Сталинский солдат на пьедестале…» Потом, вернувшись из лагеря, он уже по пьяной лавочке больше пел, чем читал. Чаще всего — дикую песню без определенной мелодии с абсурдным набором слов, переходящим в глоссолалию, но с неожиданно бесхитростным концом:
Ты будешь лыс, седая борода,
Но ты свободы не увидишь никогда.
Пил Миша что до лагеря, что после, не зная меры, так же и мы все вслед за ним. Свою стипендию и присылаемые родителями деньги пропивал быстро, но всегда находил охотников его угостить. Только один помню случай, когда достать денег было абсолютно негде, и Миша предложил пойти сдать кровь в институт переливания крови. Там у нас взяли кровь на анализ и выдали направление, чтобы прийти на донорскую процедуру в другой день. Слабым утешением Мише было то, что у него из всех нас одного оказалась кровь нулевой, арийской, группы. Для меня, однако, дело на том не закончилось. Я по беспечности оставил скрепленный кровью договор с институтом на столе, где его увидела мать. Мое намерение торговать собственной кровью ее так потрясло, что она даже говорить со мной об этом не стала, а накатала ябеду папе в Москву: вот, мол, ваш сын попал в дурную компанию, уже и кровь продает на водку. Отец прислал мне очень обидное письмо. Дескать, это недостойно мужчины. Если нужны деньги, так иди разгружать вагоны, и тому подобные вполне справедливые вещи. А через день пришел от него и перевод на круглую сумму, сверх и без того приличного пособия, которое он мне присылал.
В пьяном виде Миша был склонен к буйству, как, впрочем, и второй Миша в нашей компании, Ерёмин. Буйство было всегда одного рода: Миши с невменяемой злодейской улыбкой пытались выбросить что-нибудь из окна — стул, пишущую машинку, любимую собачку хозяев, самих себя, но как-то так получалось, что в последнюю минуту их всегда удавалось удержать. Это было вроде ритуала и запечатлено в стихах. В альманахе, который друзья коллективно изготовили мне на день рожденья в 1956 году, так описывается предстоящее веселье:
Выпьем кружку квасу
С уханьем да с гиканьем.
Расписную вазу,
Эх, в окно да выкинем!
Жизнь подвела под этими шалостями серьезную черту. Летом 1961 года оба Миши выпивали вдвоем. Когда первая бутылка опустошилась, Ерёмин решил сбегать за второй и, чтобы сократить путь, лихо прыгнул из окна. Квартира была в бельэтаже, но прыгнул он неудачно — сломал ногу, на открытом переломе началась гангрена, Ерёмин чуть не умер, остался навсегда инвалидом.
У напившегося, напевшегося, побуянившего Красильникова начинали краснеть и опускаться веки, и он засыпал на стуле. Потом его укладывали — на диван, на пол, куда придется. Чтобы он уходил или чтобы его уводили, я не помню. Да и то сказать, жил он у черта на куличках и в престранном месте — в сумасшедшем доме. У дяди и тети, врачей-психиатров, на территории психбольницы в Удельной. Я там был только раз. Дядя и тетя были в отъезде, и Миша пригласил нас к себе — меня, Иру Цимбал, Олега Целкова и кого-то еще. Кто-то еще довольно скоро высунулся в окно и наблевал в тетин ящик для цветов. Миша сказал: «Ничего, птички склюют». Похмельным утром шли на станцию. На территории больницы прогуливались пациентки. Головы у них были повязаны нечистыми вафельными полотенцами. Завидев нас, они кричали: «Иванов, дай закурить!»
Миша был принципиально, сознательно ленив. Его почти всегда выручал врожденный шарм. Юра Михайлов вспоминал: идем на экзамен по зарубежной литературе, я чего-то подзубрил, кое-как доцент Ванов-ская ставит мне четверку, а Миша пропьянствовал всю ночь, ничего не знает, сел, повздыхал и выходит с пятеркой. Отбывая срок, как он сам рассказывал, он предпочел пойти в штрафной изолятор, лишь бы не работать. Он даже немногословен был, как кажется, из лени. Зато у него получалось вкладывать много смысла и чувства в одну короткую фразу, иногда в одно слово, подкрепленное мотанием головы: «Па-а-р-шивец».
Летом предотъездного 1975 года они с Эрной гостили у нас в Паланге. На отдыхе Миша свел количество производимых за день движений к абсолютному минимуму. Между завтраком и обедом, обедом и ужином лежал на пляже или на кровати, положив на ухо приемничек, настроенный на «Свободу». Даже питье ограничивалось в большинство из дней парой бутылочек пива. За две недели мне запомнилось единственное его высказывание. Мы сидели под вечер у костерка, собирались делать шашлык. Неожиданно в вечернем деревенском беззвучии громко, низко, долго проблеяла коза. Миша помотал головой и сказал, растягивая гласные: «У-бе-ди-тельно».
Об импровизированном наезде к Мише в Ригу, когда мы столкнулись у него с Бродским, я уже рассказал (в воспоминаниях об Иосифе). При мне Иосиф там стихов не читал, а, видимо, перед нашим приездом читал в рижской компании и, как вспоминают рижане, прослушав «Большую элегию Джону Донну», Миша сказал Иосифу неодобрительно: «Напестрил» (См.: Даугава. 2001. № 6. С. 102.).
Последнее наше веселое, как в юности, общение было в 1961 году, когда Миша приехал в Ленинград оканчивать прерванный арестом университетский курс. В мае или в июне мы прожили несколько дней вместе на дачке, которую родители Герасимова получили в Солнечном. Денег почти не было. Однажды на копейки купили копченых костей с остатками жира и мяса. На всех костей бы не хватило, и их отдали Красильникову: после лагеря человек! Остальные ели кашу на воде без масла. Стараясь себя подбодрить, я сказал: «Хороша кашка». На это бестактный Миша с лоснящейся от копченого жира бородой, выламывая бычий сустав, зычно откликнулся: «Кости тоже хороши». Дошли до того, что, как бомжи, собирали пустые бутылки в кустах возле пляжа — не было денег на электричку обратно в Ленинград. У нас есть фотография: мы сидим на перроне в ожидании этой самой электрички. Миша держит на коленях узел с оставшимися бутылками — никому не доверяет. Вид у него тогда был и в самом деле бомжеватый, в вечной черной рубахе, скорее заношенной, чем застиранной.
Следующие лет пятнадцать до лета 1975 года в Паланге мы общались редко. Несколько раз виделись то в Риге, то в Ленинграде. Мишина жизнь наладилась. Он встретил Эрну. Эта милая женщина, увидев Мишу, оставила своего преуспевающего художника-мужа (по фамилии не более, не менее как Барбаросса) и ушла на весь остаток своей, увы, не слишком долгой жизни заботиться о Мише. Пить он не бросил, но в какие-то рамки питье было введено. Он стал ухоженный, стала видна врожденная элегантность. На иных фотографиях стареющий Миша похож на Роберта де Ниро.
Мы не переписывались, но несколько раз, когда мои американские знакомые ездили в Латвию, я направлял их к Мише и Эрне с подарками — виски и книги. Потом пришла печальная весть — Эрна умерла от рака. Потом — что Мишу хватил удар. Он умер 7 декабря 1996 года, на шесть лет пережив Юру, через сорок четыре года и шесть дней после неофутуристического действа на филфаке.
Повторяю: название для нашего кружка — «филологическая школа» — бессодержательно. Значительно точнее называет его Уфлянд: «Круг Михаила Красильникова». После мишиной посадки «центр перестал удерживать». Миша был центральной звездой нашего маленького космоса. Или черной дырой, потому что я в сущности очень мало о нем знаю. Изо всех, чья дружба сильно на меня повлияла, о нем я знаю меньше всего. А может быть, и знать нечего? Я читаю подобранные в журнале «Даугава» нежные воспоминания его школьных товарищей, лагерных товарищей, рижских друзей в послеленинградский период, но загадка Мишиного обаяния не проясняется. Чем притягивал нас этот человек, в общем-то равнодушный к тем, кто к нему тянулся? Или не равнодушный, но как-то очень рано душевно уставший.
Немножко о юном Мише мне рассказывала в по-следние годы Татьяна Патера, коллега-славист из Монреаля, дочь известного ядерного физика Шальникова. Насколько я понимаю, Миша за ней в юности ухаживал. Таня прислала мне ксерокопии нескольких десятков Мишиных писем к ней из лагеря. Они написаны так же ровно, тем же изумительно ровным почерком, что и письма ко мне: о прочитанных книгах, просмот-ренных фильмах. Я послал Тане воспоминания из «Даугавы». Она написала в ответ, что Мишин товарищ по лагерю ошибается — великий физик Ландау Мише посылок в лагерь не посылал. Но знакомы они были. Ландау отдыхал у Шальниковых на Рижском взморье. У Тани хранится фотография: Ландау сидит, поставив себе на голову ведро, а Миша сверху в это ведро плюет.
А вот что мне рассказал Леонид Виноградов. Миша, уже послелагерный усталый Миша, гостил у него в Москве, и они загуляли. Какими-то пьяными путями их свело в тот день с немного знакомым Виноградову фарцовщиком или режиссером, который тоже в этот день кутил и принялся их угощать. Из ресторана поехали к фарцовщику (или режиссеру) домой. К этому моменту Миша уже полностью отключился, опустил веки, и его от дверей до такси, от такси до дверей таскали как куль с мукой. Фарцовщик по пути подобрал на улице девчонку-пэтэушницу. При всей свободе нравов было что-то ниже черты дозволенного в том, чтобы трахать этих полуголодных, глупых полудетей, хотя именно они составляли в те годы едва ли не основу рынка сексуальных услуг. Режиссер-фарцовщик хихикал от предвкушаемого удовольствия и, потирая ладошки, все повторял: «Не-ет, весь я не умру». И вот, когда он произнес свою присказку в очередной раз, Миша, к изумлению Виноградова, медленно поднял веки и сказал своим гулким голосом непререкаемо: «Весь — умрешь».
2006
О книге Льва Лосева «Солженицын и Бродский как соседи»
Очерк о Юзе Алешковском
Очерк о Иосифе Бродском
Эдвард Лир. Большая книга чепухи
Григорий Кружков. Одиссея Эдварда Лира
Эдвард Лир, поэт и художник, знаменит, прежде всего, своими «книгами нонсенса». Когда первая из них (The Book of Nonsense) в 1846 году была опубликована под псевдонимом «Дерри из Дерри», публика не сразу ее распробовала. Но, распробовав, захотела еще и еще. Пошли переиздания. Книгу затрепывали в клочья — и затрепали: кажется, даже Британская библиотека не располагает самым первым изданием.
Откуда же взялся этот эксцентричный «дядюшка Дерри», ведущий за собой хоровод приплясывающих ребятишек? Все началось в
Что тут смешного? Во-первых, нестыковка эпического начала: «Жил один больной человек из Тобаго» — и скоропалительного финала. Во-вторых, энергичный ритм с «приплясом» в укороченных строках. В-третьих, каламбурная рифма: «Тобэйго, сэйго, ю_мэй_го» («можете переходить»). Наконец, если вдуматься, само содержание лимерика тоже довольно познавательно. Это вам не какое-то:
Вот и сказка вся.
В лимерике найдена золотая середина между растянутостью романа и чрезмерной краткостью пословицы. Конструкция такова. В первой строке появляется герой (или героиня), с непременным указанием на местожительства, во второй — даются его (ее) свойства или что он(а) свершил(а). Причем второе определяется первым! Если наш герой из Тобаго, то он должен есть саго. Если, скажем, из Кёльна — огурец малосольный. Дама из Салоников не может обойтись без поклонников, а леди из Атлантики просто обязана носить бантики. И прочее в таком духе. Герой лимерика, как он ни свободен совершать любые глупости, все-таки чем-то связан — но не пошлой логикой жизни, а рифмой.
Далее, в третьей и четвертой строках лимерика совершается то, что Аристотель называет перипетиями. Герой совершает некие поступки, зачастую опрометчивые, и обыкновенно успевает пожать плоды этих поступков. Здесь-то и появляются «они», «другие». Олдос Хаксли в своем блестящем эссе о Лире впервые исследовал этих странных персонажей. Впрочем, ничего особенно странного в них нет. Это законопослушные, хотя и недалекие люди, свидетели удивительных деяний героя. Порой они просто изумлены, порой задают всякие неуместные вопросы. Но бывает, что ведут себя и похуже: злорадствуют, изгоняют из родного города, а то могут и побить любым рифмующимся предметом. «В большинстве своем лимерики, — пишет Хаксли, — не что иное, как эпизоды, извлеченные из истории вечной борьбы между гением и его ближними».
Почему же чопорные (как мы их представляем) викторианцы так полюбили «книги нонсенса»? А потому, что и сам эксцентричнейший мистер Лир был викторианцем до мозга костей. Он, между прочим, давал уроки рисования самой королеве Виктории. Он настолько любил поэта-лауреата Альфреда Теннисона, что писал романсы на его стихи и вдохновенно исполнял их в обществе, аккомпанируя себе на фортепьяно.
Лучшие стихи Лира — органическая часть большой романтической традиции английской литературы. Неповторимый причудливый колорит, который создан в «Джамблях» и других великих балладах Эдварда Лира, никак не отменяет того, что эти стихи, по сути своей, совсем не пародийны. В них слышен пафос предприимчивости и стойкого мужества — что, вкупе с учтивостью и чувством юмора, составляет почти полный набор викторианских добродетелей. Неизбывная романтическая грусть и — вопреки всему — вера в победу духа над косными обстоятельствами жизни…
Переливчатый глюк
Перевод Марины Бородицкой
В погожий денёк на некошеный луг
Пришёл погулять Переливчатый Глюк.
И тут же с гор, из лесов и прерий
Сбежались к нему любопытные звери.
Собака и кот, кенгуру и джейран,
И свинка морская, и дикий кабан…
От визга и лая, от воя и крика,
Ослиного рёва и львиного рыка
Едва не оглох Переливчатый Глюк.
А звери толкались, толпились вокруг
И, шеи вытягивая в изумленье,
Дивились на странное это явленье.«Лиса! — раздались голоса зверей. —
Ты всех речистей и всех мудрей!
Попробуй с вопросом к нему обратиться:
Что он такое — зверь или птица?
Рыба? А может быть, насекомое?
Что за животное, нам не знакомое?»А новичок головой покачал
И громко пропел-проревел-прорычал:
«Брыккети-брык, бруккети-брук,
Меня зовут Переливчатый Глюк!»В погожий денёк на раскидистый сук
Присел отдохнуть Переливчатый Глюк.
И вмиг отовсюду слетелись птицы:
Дрозды и грачи, журавли и синицы.
И стриж, и орёл, и павлин, и баклан,
И чайка, и сойка, и сам пеликан…
От клёкота, щебета, уханья, свиста,
От звонких рулад соловья-вокалиста
Слегка одурел Переливчатый Глюк.
А птицы порхали, скакали вокруг
И, хлопая крыльями от удивленья,
Глядели на странное это явленье.И хором они закричали: «Сова!
Ты длинные, умные знаешь слова.
Попробуй с просьбой к нему обратиться:
Пускай объяснит — он зверь или птица?
А может быть, рыба? А вдруг, а вдруг
Это какой-то невиданный жук?!»Но тут незнакомец на ветке запрыгал
И звонко пропел-просвистел-прочирикал:
«Чиккети-чик, риккети-рюк,
Меня зовут Переливчатый Глюк!»В лазурных потоках залива Джамбук
Поплавать решил Переливчатый Глюк.
И тотчас рыб разноцветная стая
Примчалась к нему, чешуёй блистая.
Белуга, севрюга, кефаль и форель,
Акула и камбала, скат и макрель…
От бульканья, плюханья, бликов и блеска,
Китовых фонтанов, дельфиньего плеска
Совсем обалдел Переливчатый Глюк.
А рыбы сверкали, скользили вокруг
И, рты разевая в немом изумленье,
Глазели на странное это явленье.Ну, кто самый храбрый? Конечно же, кит!
Он гостя расспросит, он всем разъяснит,
Что перед ними за небылица:
Летучая рыба? Плавучая птица?
Зверь? Или, может быть, насекомое,
От Караманджаро теченьем влекомое?Но гость в ответ плавником покачал
И тихо пропел-пробурлил-прожурчал:
«Хлиппети-хлюп, пликкети-плюк,
Меня зовут Переливчатый Глюк…»Под деревом возле залива Джамбук
Присел помечтать Переливчатый Глюк.
Но тут насекомых народец летучий
Над ним закружился огромною тучей.
Букашки, мурашки, жуки, пауки,
Цикады, стрекозы, шмели, мотыльки…
От стрёкота, звона, гуденья и писка,
От мух и москитов, жужжащих так близко,
Вконец очумел Переливчатый Глюк.
А мелкие твари кишели вокруг
И, вытянув усики от удивленья,
Взирали на странное это явленье.
И вот пропищали они: «Муравей!
Ты всех прилежней и всех шустрей.
Ступай и попробуй ответа добиться:
Что он за зверь — или что он за птица?
А вдруг это крупная божья коровка?
Мы сами спросили бы, только неловко».А незнакомец повёл хоботком
И тонким-претонким пропел голоском:
«Цвиккети-цвик, зиккети-зюк,
Меня зовут Переливчатый Глюк».И тут все звери друг за другом
Пошли отплясывать круг за кругом,
И тут все рыбы в пучине вод
Плескучий свой завели хоровод,
И вереница за вереницей
Кружиться начали в небе птицы,
И все букашки и мураши
Захороводились от души.
И на весь мир они пели, рычали,
Чирикали, булькали и пищали:
«Не зверь! Не птица! Не рыба! Не жук!
Он просто наш друг — Переливчатый Глюк!»
Алексей Иванов. Хребет России
Фрагмент книги по телепроекту Алексея Иванова и Леонида Парфенова
«Наш фильм — это не рассказ о роли Урала в российской истории. Это рассказ о самой России. В уральском можно прочитать многое о всей стране. По одной ископаемой косточке можно достроить весь скелет динозавра, а тут не косточка — целый хребет».
Леонид Парфенов
«Уральский хребет — это линия, по которой тектоническая плита Европы налезла на тектоническую плиту Азии. И этот геологический удар имеет „феномен преображения“. Урал — всегда место встречи: Европы с Азией, Руси с Сибирью, христианства с исламом и язычеством, славян с тюрками и финно-уграми. Здесь контакт двух явлений неизменно порождает третье, получившееся из первых двух. Такова „уральская матрица“. Она производит сверхпродукт, новые идеи, образы, смыслы…»
Алексей Иванов

Истинные арийцы
Но самое удивительное место встречи на Урале — в челябинских степях.
В 1984 году степной колхоз решил построить на речке Караганке небольшое водохранилище. Как раз имелась подходящая долинка между покатых холмов. Уже возводили плотину, когда в долинку приехал археолог Геннадий Зданович. Закон обязывал обследовать территорию перед затоплением. Зданович обнаружил земляные руины города возрастом четыре тысячи лет — и стал Шлиманом ХХ века.
Четыре тысячелетия назад была удивительная эпоха. Вилистых долинах междуречья Тигра и Евфрата несметные толпы рабов лепили из глины гигантские ступенчатые башни зиккуратов. На вершины зиккуратов сойдут беспощадные боги месопотамских деспотов. В раскалённых каменоломнях долины Нила египтяне вырубали первые глыбы для первых пирамид. Пирамиды — это каменные звездолёты, которые унесут в вечность фараонов Египта.
А на Урал пришли древние арии. На одном краю земли, в стране, которую потом назовут Британией, страшные дикари волокли по вересковым склонам и вкапывали дыбом кривые мегалиты Стоунхенджа. А на другом краю земли, в джунглях Инда, гудел кирпичный город Мохенджо-Даро — главный мегаполис человечества. От Стоунхенджа до Мохенджо и простиралась ойкумена ариев.
Найденный город археологи назвали Аркаим. И вскоре после его открытия всплыли из земли другие города, получившие фантастические казахские имена: Синташта, Чекотай, Исиней, Берсуат, Журумбай. Всего 21 город. Страна Городов.
Арии прожили на Урале лет
Вот только на чужие богатства арии не зарились. Они поклонялись огню, а в их городах царил культ суровой простоты, даже девушки не имели украшений. Никто ариям не был нужен, да и сами они здесь никому не были нужны. Но Урал продиктовал свои правила: ресурс следует оберегать державой в державе. И арии построили свои бесполезные крепости — Страну Городов. А затем всё сожгли и ушли навсегда. Сорок столетий руины лежали под степным ковылём.
С земли, в общем, и не видно Аркаима: насыпи его валов совсем невысокие. Но с неба город ариев проявляется, как нарисованный. Два концентрических круга толстых стен, и по секторам — жилые помещения. Весь город — одно-единое круглое здание из бревенчатых срубов, толсто обмазанных глиной. В центре — площадь. Она словно ступица колеса, радиальные перегородки — спицы, а стены — обод. Аркаим сориентирован по звёздам. Похоже, что в уральских степях лежит колёсо Зодиака. Вот только откуда оно прикатилось и куда укатилось потом?

Острова архипелага
После Гражданской войны надо было восстанавливать разрушенную страну. Хорошо помог НЭП, но слишком уж он напоминал царскую Россию, и ему быстро скрутили голову. И тогда на Урале из подсознания всплыла Матрица — самый простой и экономичный способ ведения хозяйства. И пускай, что бесчеловечный.
Главный ресурс определил ещё Акинфий Демидов: люди. Формат — неволя. Осталось только совместить детали. Их совместил Рейнгольд Берзин. В 1928 году он возглавил строительство целлюлозно-бумажного комбината на реке Вишере.
Комбинат строили на развалинах французского завода. Французы в 1900 году сумели навербовать рабочих, а Берзин не сумел. И предложил перевести на стройку заключённых Соловецкого лагеря. Так на Урале тюрьма совместилась с производством, и родился ГУЛаг. За три года до Беломорканала.
Для производства бумаги требуется огромное количество древесины. Лес сплавляют по Вишере. Перед комбинатом напротив скалы Ветлан зэки строят огромный рейд: систему плавучих заграждений для отлова и сортировки брёвен.
Плавучие заграждения крепятся к искусственным островам. Их на Вишере возводят около сотни. Каждый остров — высоченный сруб в виде утюга, засыпанный доверху камнем и щебнем. Это первые острова «архипелага ГУЛаг».
Остров похож на бревенчатый крейсер. Крейсер террора. На одном из крейсеров матросом работает зэк, студент возраста Джека Лондона и Александра Грина. Но он не напишет «Морского волка» или «Алых парусов». Зэка зовут Варлам Шаламов. Он напишет «антироман» «Вишера» и «Колымские рассказы».
В страшных «Колымских рассказах» Шаламов поведал миру о маргинальных ценностях — ценностях рабов. Советская власть возрождала на Урале Матрицу, возрождала решительно и быстро. Неволя была основой Матрицы. Но советская власть довела до апофеоза и Матрицу, и неволю. Неволя превратилась в беспросветную каторгу, где рабы могли выжить, только пожирая других рабов. И ценности такой жизни дико изуродовали дух Урала.
Потому что рабов на Урале было не меньше, чем «свободных», да и «свободные» были свободны весьма относительно. В 35 уральских лагерях содержалось больше миллиона зэков. В одном только лагере в Нижнем Тагиле — 400 тысяч. Зэки были всюду, на каждом заводе, на каждой стройке. И «свободные» пропитывались их ценностями. Урал для всех, даже для своих коренных жителей, становился злой, проклятой чужбиной, ненавистной землёй каторги, которую нечего жалеть, с которой надо рваться прочь — сколько есть сил.
А в 1928 году, обретя выход через Матрицу, советской власти осталось решить последнюю проблему ГУЛага: откуда брать невольников?
О книге Алексея Иванова «Хребет России»
Трейлер Первого канала к телепроекту: