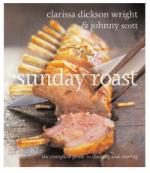Отрывок из романа
О книге Моники Фагерхольм «Американка»
Здесь начинается музыка. Это так просто. Конец 60-х
годов, Кони-Айленд, окраина Нью-Йорка. Здесь есть
пляжи и площадки для пикников, маленький парк аттракционов, несколько ресторанов, забавные игровые
автоматы, все такое. Здесь многолюдно. Она не выделяет себя из толпы. Она молода, пятнадцать или шестнадцать, на ней светлое тонкое платье, волосы светлые и немного взлохмаченные, она не мыла их уже несколько дней. Она приехала из Сан-Франциско, а до
того еще откуда-то. Все ее пожитки уместились в сумке у нее на плече. Сумка с длинным ремешком, синяя,
с надписью «Pan Am».
Она бродит без дела, заговаривает с людьми здесь
и там, отвечает, когда к ней обращаются, и, пожалуй,
немного смахивает на девчонку-хиппушку, но на самом деле она не хиппи. Собственно говоря, она никто. Так просто, разъезжает по свету. Живет чем бог
подаст. Встречается с людьми«.
Do you need a place to crash?
Всегда находится тот, кто спросит об этом.
Вполне сносная жизнь, по крайней мере до поры.
В руке у нее зажато несколько долларов, она их
только что получила. Попросила — и дали; она голодна, ей нужно поесть. Просто голодна, и ничего больше. В остальном она счастлива: такой прекрасный денек за городом. Небо высокое, мир огромный.
Она замечает нескольких подростков — стоят и
пялятся на музыкальный автомат, где каждый может записать свою собственную пластинку. Они теперь повсюду, именно в таких вот местах: «Запиши свою песню на пластинку! И подари кому хочешь. Жене, мужу, другу. Или просто самой себе».
Маленькое веселое воспоминание.
Она забавы ради заходит внутрь. И раз уж у нее
есть монетки в кармане, начинает просто так потчевать ими автомат. Можно подобрать музыку для аккомпанемента, но она этого не делает. Просто нажимает
на «запись» и поет.
Посмотри, мама, они испортили мою песню.
Выходит не очень здорово. Так себе. Ну и пусть.
Посмотри, мама, что они сделали с моей песней.
Слова плохо рифмуются с реальностью. Ведь сегодня такой замечательный день.
Она допевает до конца, ждет и наконец получает
свою пластинку. И тут только вспоминает, что у нее
назначена здесь, в парке, одна встреча.
Она спешит к условленному месту.
Ей надо встретиться с родственницей. Дальней.
Седьмая вода на киселе. Есть одно местечко на другом
краю земли.
Это была девочка, Эдди де Вир. Американка, которую
через несколько лет нашли утонувшей в озере Буле, в
Поселке — на другом краю земли.
Все это произошло у озера Буле в 1969–2008 годах
Это произошло в Поселке у озера Буле. Смерть Эдди.
Она лежала на дне озера. Волосы шевелились вокруг
головы тяжелыми длинными прядями, словно щупальцы каракатиц, глаза и рот широко раскрыты. Он заметил ее со скалы Лоре, где стоял и смотрел на воду, он
увидел неслышный крик, который вылетал из ее открытого рта. Посмотрел ей в глаза, они были пусты. Рыбы проплывали сквозь пустые глазницы и другие отверстия в ее теле. Но это позже, когда прошло время.
Эта картина так и осталась стоять у него перед
глазами.
Что ее засосало, как в Бермудский треугольник?
Теперь она лежала там, и ее было не достать, на
глубине в десятки метров, видная только ему, в этой
мутной и темной воде.
Она, Эдвина де Вир, Эдди. Американка. Как ее
называли в Поселке.
А он — Бенгт. В августе 1969, когда все это случилось,
ему было тринадцать. Ей было девятнадцать, Эдди.
Эдвине де Вир. Странно. Потом, когда он увидел ее
имя в газетах, ему показалось, что речь вовсе не о ней.
«Я чужеземная пташка, Бенгт. Ты тоже?»
«Никто в мире не знает моей розы, кроме меня».
Так она говорила, странными фразами. Чужая
здесь, в Поселке.
Она была американкой. И он, он любил ее.
Это произошло утром после той ночи, когда он совсем не спал. В предрассветных сумерках он бежал через лес и поле, по лугу мимо дома кузин, мимо двух
полуразрушенных амбаров и красной сторожки, где
жили его сестры Рита и Сольвейг. Он перепрыгнул
три глубокие канавы и подошел к сараю, стоявшему
на границе с землями Линдстрёмов.
Вошел в сарай. Сперва он увидел ноги. Они болтались в воздухе. Одни ноги, грязные серые ступни.
Безжизненные. Это было тело Бьёрна, оно висело в
воздухе. Кузен Бьёрн. Ему было всего девятнадцать,
когда он наложил на себя руки.
Их было трое: Эдди, Бенку, Бьёрн. Теперь остался
только он, Бенку, он один остался.
Итак: он стоял и кричал посреди буйной роскошной
природы позднего лета, такой тихой, такой зеленой.
Он кричал солнцу, которое только что скрылось за синей тучей. Нерешительно начался вялый тихий летний
дождь. Кап-кап-кап, и ни ветерка. А Бенку все кричал.
Кричал и кричал, но вдруг у него пропал голос.
Потом он еще долго оставался немым. По-настоящему немым: он-то и прежде был не больно болтлив, но тогда вообще замолк. Клиническая немота, согласно диагнозу; вызванная состоянием шока. Как последствие того, что случилось той ночью.
В то же самое время в Поселке не спал еще один ребенок. Она появлялась здесь и там в любое возможное и невозможное время — где угодно. Это была Дорис, дитя болот, Дорис Флинкенберг, в то время у нее
не было настоящего дома, хотя ей было всего восемь
или девять лет.
Дорис сказала, что слышала крик у сарая — на границе с землями Линдстрёмов.
— Словно резаный ягненок или вроде того, так только Бенку кричит, — объяснила она маме кузин на кухне кузин в доме кузин, где Дорис со временем, после
смерти Бьёрна, сама станет дочерью, полноправной.
— Говорят — «поросенок», — поправила ее мама кузин. — Кричит как резанный поросенок.
— А я имела в виду ягненка, — возразила Дорис. — Потому что Бенку именно так кричит. Как ягненок, которого жалко. Как жертвенный агнец.
У Дорис Флинкенберг была особая манера говорить.
Никогда нельзя было сказать — всерьез она или играет. А если играет, то в какую игру?
«Смерть одного — хлеб для другого», — вздохнула
Дорис Флинкенберг на кухне кузин, блаженствуя
оттого, что наконец-то и у нее появился свой дом,
настоящий. «Смерть одного — хлеб для другого»,
только Дорис Флинкенберг могла сказать это так,
чтобы прозвучало не цинично, а вроде почти нормально.
— Ну-ну, — все же пожурила Дорис мама кузин, —
что ты такое говоришь?
Но в голосе ее прозвучала нежность, вроде как покой и облегчение. Потому что именно Дорис после
смерти Бьёрна, дорогого сыночка, пришла в дом кузин и вернула маме кузин жизнь и надежду.
Разве мог кто тогда предположить, что через несколько лет и Дорис тоже будет мертва.
Это произошло в Поселке у озера Буле. Зачарованность смертью в юности. Была суббота, ноябрь, сумерки постепенно сменялись темнотой; Дорис Флинкенберг, шестнадцати лет, шла по знакомой лесной
тропинке к озеру Буле, быстрыми уверенными шагами; надвигающаяся темнота ее не страшила, глаза ее
успели к ней привыкнуть, да и тропинка была знакома, даже очень.
Была ли это Дорис Ночь или Дорис День, Королева Озера или кто-то другой — одна из тех ролей,
которых она столько переиграла за свою жизнь? Неизвестно. Но это, кажется, уже и не важно.
Потому что у Дорис Флинкенберг был в кармане
пистолет. Настоящий кольт, старый, конечно, но действующий. Единственная стоящая вещь, которую Рита и Сольвейг получили в наследство; какой-то предок, по слухам, купил его в 1902 году в магазине в том
городе у моря.
Потом, после смерти Дорис, Рита станет клясться, что знать не знает, как пистолет, спрятанный в ее с
Сольвейг сторожке, попал в руки Дорис Флинкенберг.
Это не будет явной ложью, но и не вполне правдой не будет тоже.
Дорис пришла к озеру Буле, поднялась на скалу Лоре,
остановилась там и досчитала до десяти. Затем — до
одиннадцати, двенадцати и четырнадцати и до шестнадцати и только тогда собралась с духом, чтобы поднять дуло пистолета к виску и нажать курок.
Она уже не думала ни о чем, но чувства кипели
в голове и во всем теле, повсюду.
Дорис Флинкенберг в пуловере с надписью «Одиночество & Страх». Старом и изношенном. Настоящая половая тряпка: таким он теперь стал.
И все же, в перерыве между двумя числами, к Дорис Флинкенберг вернулась решимость. Она подняла
пистолет к виску и — щелк! — спустила курок. Но
сперва зажмурилась и закричала, закричала, чтобы перекричать саму себя, свой страх и заглушить звук выстрела, который она, впрочем, и так бы не услышала,
так что это было глупо.
Выстрел, мне кажется, я слышала выстрел.
Эхо разнеслось по лесу, повсюду.
Первой выстрел услыхала Рита — сестра Сольвейг —
в красной сторожке в полукилометре от озера Буле.
И удивительное дело, как только она услышала выстрел, сразу догадалась, что случилось. Схватила куртку, выскочила на улицу и бросилась бежать через лес
к озеру, а следом за ней и Сольвейг. Но было поздно.
Когда Рита добежала до скалы Лоре, Дорис уже
была мертва как камень. Она лежала ничком, а голова и волосы свешивались над темной водой. В крови.
У Риты на миг помутился рассудок. Она стала трясти мертвое, но еще теплое тело. Рита пыталась поднять Дорис и, хоть это и не имело смысла, отнести
ее прочь от края.
Перенести Дорис через темные воды.
Сольвейг старалась как могла унять сестру. А потом лес вдруг наполнился другими людьми. Врач, полицейские, «скорая помощь».
Но. Дорис Ночь и Сандра День.
Одна из их игр.
Так что их было двое. Сандра и Дорис, двое.
Дорис День и Сандра Ночь. Та другая девушка, у нее
тоже было много имен, они возникли в их играх; играх, в которые играют с лучшим другом, единственным другом, единственным-преединственным, Дорис
Флинкенберг, на дне плавательного бассейна, куда не
налита вода, пока. Сандра несколько недель не вставала с постели после смерти Дорис, лежала в кровати с
балдахином в доме в самой болотистой части леса, где
она жила. Она лежала, отвернувшись к стене, поджав
колени к животу, ее била лихорадка.
Изношенный заляпанный пуловер. «Одиночество & Страх»: второй экземпляр из тех двух единичных, существовавших в мировой истории, под большой подушкой. Сандра сжала его так, что пальцы побелели.
Стоило ей закрыть глаза, и все вокруг заливала
кровь. Она оказывалась в кровавом лесу, блуждала там,
словно слепая.
Сандра и Дорис: их было двое; лучшие подруги:
Сестра Ночь и Сестра День. Про это знала лишь Сандра Вэрн, больше никто. Это была игра, в которую
они играли. Именно в этой игре она была той девушкой, которая утонула в озере Буле много-много
лет назад. Той, которую звали Эдди де Вир. Американкой.
У игры тоже было свое название. Она называлась
«Таинственная история американки».
У нее была своя собственная песня. Песня Эдди.
Посмотри, мама, они испортили мою песню.
Так там пелось.
И все слова, странные фразы, они тоже относились к
игре.
— Я чужеземная пташка, ты тоже?
— Сердце — бессердечный охотник.
— Никто в мире не знает моей розы, кроме меня.
Но тень встречается с тенью. Там, в темноте, пока
Сандра не выходила из своей комнаты, она все же вылезла из постели и стояла у окна, смотрела на улицу.
Смотрела на болотистый пейзаж за окном, на знакомое плоское озеро, на заросли камышей, но прежде
всего на рощицы по берегам. Именно они притягивали ее взгляд. Именно там всегда стоял он.
Он был там теперь и смотрел на нее. А она — за
занавеской в комнате, где потушен свет. Он снаружи.
Они стояли каждый на своем месте.
Это был тот парень, Бенгт. Теперь он был
намного старше. Сандре Вэрн, как и Дорис, было
шестнадцать.
2008 год. Зимний сад. Юханна входит в Зимний сад.
Там все по-прежнему, как много лет назад.
В Зимнем саду Риты, в парке, в замкнутом мире
уединения, развлечений, колдовства.
Замкнутый мир, для игр, в том числе и взрослых.
А также сложная система территорий, официальные и неофициальные территории, запрещенные и
обычные общедоступные.
Потому что в Зимнем саду было и то, о чем не
говорили, что только чувствовалось. Под землей и на
небе. Потайные комнаты, лабиринт.
И туда можно было спуститься и пережить все,
что угодно.
Потому что в Зимнем саду было все минувшее, весь
Поселок и его история, на свой лад. Как рисунки на
стене, имена и слова, музыка.
Перенеси Дорис через темные воды.
Зачарованность смертью в юности.
Никто в мире не знает моей розы, кроме меня.
Я вышел разок на зеленый лужок.
Выстрел, мне кажется, я слышала выстрел.
Посмотри, мама, они испортили мою песню.
Посреди Зимнего сада есть Капу Кай — запретное море.
Одиночество & Страх.
Дорис Ночь. И Сандра День.
2008 год. Зимний сад. Юханна входит в Зимний сад.
Она теперь тут подрабатывает, после занятий в школе и по выходным.
Когда все в округе закрывается, все идут сюда.
Здесь она может побыть одна, ей нравится здесь.
Ей нравится бродить по Зимнему саду и чувствовать, как в уши вливается музыка. Музыка Королевы
Озера.
Ей семнадцать, это ее пленяет.
А еще она ищет здесь нечто особенное. Ту комнату,
ту красную комнату. Это случилось у озера Буле; это
часть Капу Кай, запретного моря.
Все то, что произошло у озера Буле, оно все там.
Как-то раз она забрела туда по ошибке. Потом искала это место, но так и не нашла. И теперь ей надо
снова попасть туда.
…Это было так, давным-давно, Зимний сад торжественно открыли на Новый год в 2000 году. В ту ночь
восемь лет назад они с братом пошли туда, хотя их мама Сольвейг им это запретила.
Но они все равно прошли лесом, вдвоем, ночью,
и пришли в Зимний сад.
Дети пришли в Зимний сад, который открылся в лесу — там, где начинался Второй мыс. Причудливые
старинные буквы над воротам и отсылали воспоминания к старинному саду в какой-то другой стране,
сфинксы по обе стороны от входа и свет, прежде всего свет. Яркий серебристо-металлический свет слепил
глаза детям, вышедшим из темноты.
Все было так красиво, так величественно.
И пробудило чувства, которых дети прежде не
знали.
Они шли на этот ясный резкий свет, к людям и
празднику, ко всему, что там было.
Поселок
Барон фон Б. любил играть в покер. Ему не всегда везло, но он встречал поражение как подобает мужчине.
Иными словами — не подавая виду, так он говорил.
Итак, в самом начале был Поселок. Второй мыс
и Первый мыс, большие леса и еще кое-что. Вначале
была война, война, которую проиграли.
Победившая держава, огромное государство на
востоке, положило глаз на определенные территории,
где решено было устроить военные базы и все такое
прочее; но страна все же сохраняла свою независимость.
Территории отдали победителю, на время. Именно там и был Поселок. Население быстренько эвакуировали, всех заставили переехать, и в последующие
годы территория была отрезана от внешнего мира.
Именно в эти неспокойные годы барон фон Б.,
который оказался владельцем почти всего Второго мыса, большой части леса и всего прочего, уселся за карточный стол. Играл. И проигрывал. Играл. И проигрывал.
Папе кузин и Танцору; они все выиграли.
Весь Второй мыс, большую часть леса и все прочее.
А еще несколько лет спустя оккупированные территории возвратили, и тогда уже не барон, а папа кузин и Танцор с женой и тремя детьми приехали в Поселок. И поселились здесь. Как настоящий клан.
Такими они и были поначалу. Но вскоре Танцор
и его жена погибли в автомобильной катастрофе, и
трое детей остались сиротами.
Эти трое детей — это были Бенгт и близнецы Рита и Сольвейг.