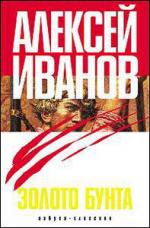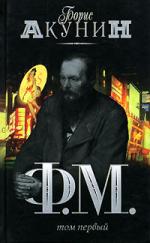Заголовок, конечно, иронический. Но не только. Во-первых, это из Цветаевой:
Полновесным, благосклонным
Яблоком своим имперским,
Как дитя, играешь, август.
Не буду рифмовать с тем, что хочу сказать. Ни «яблоко» (типа раздора), ни «имперским», без чего давно уже не обходятся ни правые, ни левые, ни «дитя», ни «играешь», что не раз использовали для характеристики детского сада Советского Союза. Впрочем, буду, куда же деться? Но не специально. Просто от очевидностей, довольно скучных теперь, никуда не деться.
Да, а во-вторых: август действительно благосклонный. Так воспринимают его те, кто живет более или менее органично, кто не потерял свою гусеничную или, если хотите, духовную связь с природными циклами. «Евгений Онегин» (можно проверить) процентов на пятьдесят состоит из описаний природы и смены времен года. Пейзажный роман. Мы, те, кто питался русской литературой ХIХ века, — все жертвы, герои и любимцы пейзажа. Да и Пушкин не нашел лучшего судьи и соглядатая для своих печальных драм.
Нашим «верхним» эти природные циклы незнакомы. Не только потому, что им некогда выбраться в кремлевский сад, где я когда-то мальчиком воровал яблоки и был пойман бдительной милицией. Они уже мало люди, живут своими, не природными, не лунными, не менструальными, не возрастными — административными циклами. Конечно, самоубийства, убийства, революции погоды не выбирают. Но постановление 46-го года о журналах «Звезда» и «Ленинград» — не этой стихийной природы. Это умозрительное творчество партийных киберов, вернувшихся из отпуска или в него не ушедших. Оно родилось в каких-никаких мозгах, никто не торопил, можно было отложить, например, на ноябрь. Но нет — август. Мертвый запах роз они, допустим, еще знали — похороны, дни рождения, оранжереи. Но запаха укропа или ватного внутри шиповника уже точно не помнили.
В этом смысле ничего не изменилось. Поэтому все снова возможно. Но сначала все же о Постановлении.
* * *
Партия устраивала время от времени порку литературе. Постановление 46-го года запомнилось только благодаря именам Зощенко и Ахматовой. А так-то экзекуция ординарная. Много было таких. Достаточно вспомнить 1932 год, Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций». Тогда разогнали РАПП (Российскую ассоциацию пролетарских писателей), которая чуть было не подменила собой партию. Создали Союз писателей, а также все другие союзы бродяжной интеллигенции — композиторов, художников, архитекторов. Все построились. Вариантов не было.
Это были игры, которые, в отличие от любви, всегда взаимны. Порка — взаимодоговорной жанр. Литераторы эту игру приняли. Они хотели понравиться. Подставляли разные части тела для контакта: губы для поцелуя, задницу для розог. Попробуйте определить, кому принадлежат цитаты, которые сейчас приведу? Скажу заранее: одна поэту, другая двенадцатилетнему школьнику.
Первая:
Кинул взгляд на часового,
Ни словечка не сказал,
Лишь зловеще глянул снова, —
Часовой его связал.
Вторая:
Честь полка он не уронит
И врага не проворонит,
Не допустит до границ
Неприятельских волчиц.
Представьте, школьнику — первая.
А этот восторженный лепет о праздновании 15-й годовщины Октября? «Ребята, забравшиеся на столбы всех мостов, считали лодки и броненосцы, всех восхищала „Аврора“… Набегающие мелкими вспышками огоньки очерчивали орудие и замирали. Пауза, внезапный огонь выстрела. <…> „Аврора“ целилась, „Аврора“ стреляла, „Аврора“ попадала. Пятнадцатилетие начиналось сызнова…» (цитаты привожу по статье Л. Дубшана «Памяти неизвестного журнала» // Петербургский журнал. 1993. № 1-2). Принадлежит этот репортерский ажиотаж автору вполне достойных исторических романов Ольге Форш.
Блистательный Борис Михайлович Эйхенбаум вынужден был лепить на заседании Ленинградского отделения Союза писателей такую чушь, в которой и сегодня, спустя 60 лет, ничего невозможно понять, кроме паники организма и панической же виртуозности интеллекта, который пытается спасти совесть: «Исходя из этого я хочу сказать, что то, что я понял за эти дни, относится к историческим фактам, то, что мы слышали в резолюции ЦК, должно быть воспринято как факт объективного значения, который нужно понять. Это настолько крупный факт в жизни нашего союза, что основное понятие его в политической основе. Понять в обыкновенной политической жизни — это простить, в исторической понять — это „согласиться“, до конца бросить исторический свет на те явления, которые не совсем были поняты. Политический смысл того, что сказано в резолюции ЦК, стал всем ясен на том заседании и в позднейшие дни, которые были отданы на то, чтобы разобраться во всем этом».
Спасти совесть все же не удалось. И отношения с Ахматовой расстроились.
Выбор Зощенко и Ахматовой был делом чистого символизма. Так сентябрьские террористы целились в высотки. Зощенко и Ахматова тоже, конечно, умели прогибаться. Но у них это получалось хуже, чем у остальных. Гений не слишком проворен. Это не его вина. Часто попытка написать «правильно» оборачивалась пародией. Особенно преуспел в этом Пастернак. Единственное, может быть, исключение — Осип Мандельштам, написавший великую оду Сталину. Но тоже не слишком преуспел, заговорил с тираном на равных, что предполагало равновеликость власти поэта и вождя, и был все-таки уничтожен.
Мишенями они стали почти случайно, только в силу литературного роста. Ахматову, с ее «имперским» военным циклом, могли бы и не беспокоить. Зощенко высекли за републикацию из детского журнала. Шили белыми нитками, зная о своей безнаказанности. Не только скучные слуги замышленного, но и очень неопрятные ребята, а секретари и подсекретари — просто халтурщики. Побочный цветок безнаказанности.
Но главное дело сделали, сбили послевоенную эйфорию. Ленинград традиционно и безосновательно подозревался в вынашивании четвертой революции. Ударили по Ленинграду. Журнал «Ленинград» здесь был практически ни при чем. Обыкновенный советский журнал. Как и «Звезда». Тихонов и даже Вишневский пытались «Ленинград» сохранить — все же площадка для публикаций. Сталин ответил, не утруждая себя аргументацией. Может быть, ему так привиделось во сне, или слово «Ленинград» вызывало у него расстройство желудка: «Ленинград останется и без журнала, а пока плохо пишут. Не те люди пишут». Определенно, расстройство. Или грузинский акцент?
Дураки дураками, однако мишени выбрали правильно. Главное ведь было не в том, что Ахматова «пессимистична» и «салонна», но в том, что излишне «субъективна». Субъективность опасна, поскольку может перекинуться на политику, где является уже государственным преступлением. И Зощенко получил справедливо: право на критику осталось за партией. Объективную критику объективного лирического вождя. Сатира и любовь. А что еще в жизни есть?
* * *
Сейчас все пугают друг друга возвращением прежних порядков. Я же думаю, что они, в сущности, не уходили. Наше голосование в конце 90-х за президента, пребывающего в маразме, при всей демократической, почти жертвенной подоплеке, было того же, рабского толка. Теперь только собираем урожай, но уже с молодым, крепким летчиком и подводником. Картинки не совпадают, но сюжет остается без изменений.
Молодой оказался еще обидчивее, чем его седой патрон. Не понравился он себе в образе крошки Цахеса и пустил под откос целый канал ТВ, а Шендерович пробавляется теперь мелкими укусами на радио и зарабатывает мемуарами. Если боржоми можно объявить некондиционным продуктом, увеличить, как во времена Сталина, погранзону до 30-50 километров, запретить слово «нацбол», а также изъять из обращения (словесного, конечно) доллар, то, не сомневаюсь, дойдут и до литературы. Когда спорят о том, какую символику оставить на дубликатах знамени Победы, до аллюзий в искусстве уже рукой подать.
Сейчас литературу спасает только ее маргинальное положение. Никому нет до нее дела. Если так пойдет дальше, то мы и без помощи деспотизма сгинем. Наш литературоцентризм был только его, деспотизма, производным, это, кажется, сейчас всем понятно. Интеллигенция боролась за Пушкина и Достоевского, отстаивая на самом деле свою вполне иллюзорную независимость. Главное, что к этому столь же серьезно относилась и власть.
Юрий Казаков был не в почете только по причине своего чистого, несколько даже старомодного языка, у Трифонова наблюдались признаки совести, в том числе исторической, что само по себе тревожило, Шукшин был нервен и горяч и получил Ленинскую премию посмертно, Битов не потрудился скрыть свой ум, в стихах Кушнера оказалось много неизвестных народу слов, начитанность его походила на вызов. Против Бродского вооружились все первые люди государства, хотя в стихах его не было ни одной антисоветской строчки. Правда, он и не имел это государство в виду. Власть была чутка к синтаксису, интонации, лексике. Такие были времена.
Теперь это поле битвы превратилось в обыкновенную поляну, на которой развлекаются кто как может. Власть здесь, надо заметить, ни при чем. Сами засеяли лютиками и ромашками.
Устиновы и донцовы при любой власти живут денежно, редкие критики их самодовольству ущерба нанести не могут. Пелевин со своим виртуальным аллегоризмом никого не обижает. Стилистические шедевры Шишкина для гурманов. Поэты и вообще пишут как бы под кайфом, услаждая друг друга. «Единой кормушке» нет до них дела. Хруст купюр содержательнее, чем шелест страниц. Но если появится вдруг какой-нибудь новый Войнович и действующий президент поедет у него на белом коне в православно-дзюдоистском уборе, окрик и репрессии неизбежны. Уже начинают потихоньку подкармливать патриотическую литературу, уже создан телеканал «Звезда», где о Ленине и чекистах говорится не иначе, как с глубоким интимным чувством. Где пряник, там и кнут. Но пока, в этом онтологическом беспамятстве, нам, пожалуй, ничего не страшно.