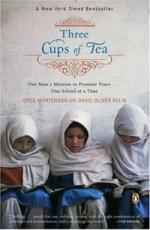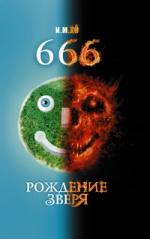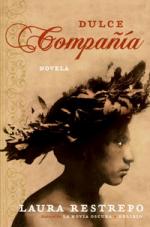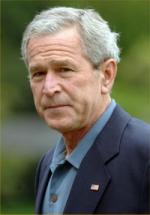Отрывок из романа
О книге Лауры Рестрепо «Ангел из Галилеи»
На выходе из пещеры меня уже поджидал
Орландо, который сообщил, что донья
Ара, мама ангела, хочет показать мне
свои тетради.
— Что за тетради?
— Сами увидите.
Я начала спускаться за Орландо к розовому дому, хотя больше всего желала бы сейчас побыть немного одной
и упорядочить роившиеся в голове мысли. Ангел из Галилеи смутил мою душу.
Это было самое ошеломляющее существо, какое я
Когда-либо видела. В окруженном тайной юноше все было необъяснимо — невероятное спокойствие, светоносный облик. И красота… воистину невыносимая красота.
Скажу без колебаний: сверхъестественная красота.
С другой стороны, в его истории было что-то бесчеловечное, жестокое. Что делало подобное создание в темной ледяной пещере, взаперти, практически без одежды,
во власти сумасшедшей Крусифихи? Моим первым желанием было разыскать телефон, позвонить и попросить у
кого-нибудь помощи, не знаю у кого: у врача, у защитников прав человека, у полиции… Хотя нет, у полиции — в
последнюю очередь, они наверняка развернут такую спасательную операцию, которая закончится гибелью ангела.
А может, юноша и сам был участником мистификации?
Может, он по своей воле согласился играть роль в подобном
спектакле? Только вот непонятно, ради чего. Деньгами тут,
похоже, не пахло, по крайней мере, пока я не видела, чтобы
с пришедших собирали деньги, делались только добровольные подношения, но ведь никто не согласится устраивать такой цирк в обмен на старую курицу и пакет инжира. Скорее всего, юноша искренне убежден, что он ангел.
А может, он и вправду ангел… Почему бы и нет?
Увидев его, легко поверить в такое.
Я слышала, что люди вокруг перешептываются, кажется, они были разочарованы, и я удивилась, узнав, почему остальные не разделяют моих приподнятых чувств.
— Кажется, вы вышли из грота разочарованным, — обратилась я к сеньору, одолжившему мне шляпу.
— На этот раз ангел нас подвел, — смиренно ответил он.
— Но почему, он ведь появился и от него шло сияние?
— Да, но он ничего не сделал.
Думаю, я поняла его объяснение. Мужчины всегда
ждут каких-то действий, только они производят на них
впечатление, тогда как женщины довольствуются созерцанием.
Орландо потащил меня за руку, и я покорно последовала за ним. Когда мы пришли в розовый дом, он ввел
меня в маленькую комнатку, там сидела женщина, которая подбрасывала уголь в печь, а отблески пламени освещали ее красивое лицо. Я заметила, что она чуть ли не одного со мной возраста и что чертами лица она напоминала только что виденного нами ангела. Это, вне всякого
сомнения, была его мать: в жизни не встречала двух более похожих друг на друга людей.
На столе лежала раскрытая тетрадь в клеточку фирмы «Норма», исписанная убористым почерком, каждое
слово заканчивалось задранным вверх причудливым мышиным хвостиком.
— Я заношу сюда все, что он мне диктует, — сказала
Ара, мягкими движениями листая страницы. — Это тетрадь номер пятьдесят три. А вон там я храню остальные
пятьдесят две. — Она указала на большой жестяной
ящик, запертый на висячий замок.
— Вы только поглядите, Монита, там пятьдесят две тетради! Пятьдесят три вместе с этой… — подхватил Орландо, но донья Ара продолжила, не обратив на него внимания:
— Я уже девять лет записываю. Мой сын начал диктовать мне их еще до того, как вернулся.
Хотя я и не просила ее об этом, она начала объяснять. Она потеряла сына, едва успев родить, а вновь обрела только два года назад, спустя семнадцать лет. Я ни о
чем ее не спрашивала, она сама рассказывала, словно ее
преследовало болезненное желание вновь, в тысячный
раз, пережить ту историю, так собака исступленно лижет
рану, которая все никак не заживает.
«Отец моего ребенка был лишь тенью, — сказала
она. — Однажды ночью он явился из темноты, без лица
и без имени, повалил меня на землю, а потом опять испарился. Я только смогла заметить перстень на правой руке
и запомнила запах камфорного масла, исходящий от его
одежды.
Он был со мной недолго — ровно столько, сколько
надо, чтобы сделать ребенка. Мне тогда едва исполнилось
тринадцать, и мой отец уже сговорился отдать меня замуж за богатого человека, немолодого, у которого был
собственный грузовик. А потому отцу совершенно не
понравилась эта новость.
Сначала он захотел, чтобы ребенка не было вовсе, и
отвел меня к женщине, которая дала мне выпить какую-то
горькую настойку, а потом колола мое нутро вязальными
спицами. Меня вырвало, потекла кровь, но ребенок не захотел выходить и продолжал расти, вопреки злобным
угрозам моего отца.
Ребенок рос, это уже становилось заметно, и мой
отец совсем озверел от бешенства. Однажды он, ни слова
не говоря, отвез меня в деревню и оставил там, спрятал,
чтобы я не попалась на глаза жениху. Кто знает, что он
наплел ему, может, что я заболела или что он вернет меня
только в день свадьбы.
Когда ребенок родился, я толком не успела его рассмотреть. Как не рассмотрела его отца. Сын оставался со
мной лишь считаные минуты. У меня тотчас отняли младенца, но я успела заметить его необыкновенную красоту, светящуюся изнутри кожу. И еще у него был глубокий взгляд, проникающий прямо в душу, ибо с самого
начала он много чего знал.
Мне хотелось проверить, не исходит ли от него запах
камфорного масла, потому что, думала я, он должен быть
пропитан им, как и его родитель. Но я чуяла лишь себя,
запах своей крови и свой собственный запах.
Итак, новорожденного сразу же унесли, но мне удалось повесить ему на шею золотой медальон с изображением Пречистой Девы из Виенто, с которым не расставалась всю жизнь. С тех пор я больше не видела своего сына, но каждый день и каждый час спрашивала о нем, пока
наконец моя мать, сжалившись надо мной, не призналась
в том, что произошло.
Она сказала, что отец продал младенца цыганам,
проезжавшим мимо с бродячим цирком, и так началась
его жизнь: лишенный тепла материнских рук, он вынужден был колесить по миру и в одиночку познавать его тяготы. Я много плакала, а мать утешала меня, говоря: «Хватить причитать, если ты не прекратишь, не сможешь выйти замуж».
Но от этого я только сильнее рыдала, потому что мне
не нравился суженый, я лишь хотела видеть своего ребенка и мечтала о доброй цыганке, которая дает ему пососать
свой палец, окунув его в сахар, и заботится, чтобы цирковые животные не напугали его.
Молоко ушло из моей груди, и настал час отдать меня
в руки тому сеньору. Но что случилось, то случилось, а жених, хоть и был старым, мог догадаться, что я потеряла
свою девственность. А он желал взять в жены девушку, которая еще не знала греха, — такое у него было условие. Так
что отец вновь отвел меня к той женщине, и она за полчаса сотворила чудо — я стала девой, хоть и была матерью.
Из паутины и яичного белка она слепила нечто вроде пленки — я вышла от нее вновь невинной. Меня обрядили в белые кружева, и я пошла к алтарю с заплаткой
между ног. Но старик оказался не дураком, едва очутившись со мной в постели, он раскрыл обман и в ту же ночь
вернул меня обратно.
«Так оставайся же ты старой девой!» — кричал отец,
уже в некоторой степени смирившийся с тем, что не станет свекром богача. Моя мать швырнула ему в лицо обвинения, решившись сказать: «У нас, по крайней мере, мог
бы быть внук, а ты его продал, ослепленный мечтами о
грузовике».
Разуверившись в моем будущем, родители отвели
меня к тогдашнему священнику и отдали ему, чтобы я помогала в домашних делах и в церкви. Этот сеньор был
очень старым, и у меня нет причин на него жаловаться,
он хорошо со мной обращался до самой своей смерти,
учил меня читать, петь псалмы и отпускал пораньше, ведь
он знал о моей причуде. Я каждый день покидала квартал
и бродила по городу в поисках сына.
Я останавливалась перед каждым маленьким побирушкой, стараясь распознать в нем своего ребенка, не доверяя
глазам, ведь мой сын мог измениться внешне, а я полагалась на свой нос. Я обнюхивала детей, словно ищейка, уверенная в том, что своего узнаю по запаху. Я прочесывала
сиротские приюты, ярмарочные балаганы, рынки, с каждым днем удаляясь все дальше и дальше, пока не попала на
окраины, где царила полная нищета. С каждым вечером
мои скитания заканчивались все позднее, я видела детей,
которые продают свое тело, и тех, кто встречает рассвет на
мостовой, укрывшись газетами. Перед моими глазами проходили уродливые дети, обгоревшие дети и дети с лицами
стариков. Среди них были чистильщики ботинок, уличные
паяцы и хулиганы. Другие таскали тележки, торговали игрушками вертушками, продавали газеты или пели ранчеры у выхода из кинотеатра. И каждого из них я тщательно
обнюхивала, но ни в одном не узнавала своего запаха.
И как тут не поверить в судьбу, если я нашла его через
семнадцать лет после рождения, стоя на пороге собственного дома. Ни на один день я не переставала искать его,
исключая этот, когда, сломленная усталостью и отчаянием,
я прислонилась к косяку, чтобы перевести дух. Я была там,
когда он медленно подошел ко мне, взрослый юноша с уже
начавшей пробиваться бородкой на детском лице, и у него
были те же глаза, смотрящие в душу, что и в первый день
его жизни. Он был по-прежнему красив, нет, он стал еще
красивее, так что на него было невозможно смотреть, не
лишившись чувств.
Он был кроток и как-то по-особому мягок, подобно
тихим водам огромного озера. Только вот он все время
молчал. Не сказал ни слова ни тогда, ни после. Вернее, он
произносил какие-то слова, но они не складывались в
связную речь, а скорее походили на воркование голубя
или отрывки молитв, выученных, возможно, в дальних
странах. Поэтому он не мог рассказать, где был и что видел, как выжил и нашел меня.
Но это был он, я узнала его по запаху, и он тоже не
сомневался в том, что я — это я, он был рядом и в конце
своего пути пришел туда, куда должен был прийти.
Я не жалела о том, что он не говорит со мной, его
молчание было таким глубоким, а облик таким светлым,
что я поняла: слова здесь излишни, а о тяготах долгой
разлуки лучше не рассказывать. Все случилось так, как и
должно было случиться. И он сполна вознаградил меня
за терпение и со временем дал мне знание.
Cудьбе было угодно, чтобы в последние семь лет перед его возвращением каждую ночь, не пропуская ни одной, я впадала в транс, впрочем, иногда это происходило
утром или вечером. В такие моменты в моей голове вспыхивал яркий луч, и не важно, сколько было времени и чем
я занималась, даже если спала или отдыхала, я должна была хватать тетрадку и начинать писать.
Слова, выходившие из-под моего пера, были голосами ангела, так это определила сестра Мария Крусифиха,
впервые прочитав тетради. Не одного ангела, но многих:
во время каждой вспышки через меня говорили разные
ангелы. И так я исписывала тетради, не зная, кто же мне
на самом деле диктует,
С возвращением моего сына это не прекратилось, даже наоборот, я слышала голоса еще чаще, так что даже начала худеть — столько мне приходилось писать. А дальше
нужно было просто свести концы с концами, сложить два
и два, чтобы понять: в сумме они дают четыре. Сестра
Мария Крусифиха открыла мне глаза на правду, ведь
именно она первой догадалась: те слова, что мой сын не
может произнести вслух, он выводит моей рукой. Он и
был ангелом, диктовавшим мне«.
Меня не было еще вчера, а завтра уже не будет, я есть только в сей бесконечный миг, я — ангел Орифиэль, Престол
Господень, на мне восседает Он, мне даровано вечное счастье терпеть вес Его могучих и непомерных ягодиц. Меня
именуют Престол, потому что на мне надежно и покойно
почивает Всевышний. Меня зовут Колесом и меня зовут
Колесницей, ибо я возница, впряженный в престол Яхве.
Я не признаю материи и не выношу формы, я — чистый взрыв, выброс энергии, ослепительная вспышка
света. У меня нет тела, но есть сотни ног: проворных, как
у молодого бычка, сверкающих, словно отполированная
бронза, искрящихся, словно железо под ударами молота.
Я — огонь, и мое пламя живое, я — колесница и пожираю пространство, я — молния и грохочу на гребне времени. Я швыряю звезды из пропасти в пропасть и несу
сквозь пространство божественного Всадника в его перемещениях по небесным сферам. Сам Бог скачет на моей
спине, вонзает шпоры в мои послушные бока, оставляя
позади раскаленные потоки моей янтарной крови, покорной его священным капризам.
У меня одна-единственная голова, но у нее четыре
лика, один обращен на север, другой на юг, третий на
восток, четвертый на запад, и каждый из них устремлен
вперед. Четыре пары глаз, но я вижу лишь Господа, четыре носа, чтобы вдыхать Его сущность, восемь ушей, чтобы слышать отзвуки Его голоса, четыре рта, которые возносят хвалы имени Его без отдыха и передышки, ночью и
днем до неизмеримого изнеможения: Свят, Свят, Свят!
Свят Господь. Его присутствие сокрушает, всепоглощающий океан Его Любви ошеломляет, захватывает, раздирает, опустошает невыносимым всплеском света.
Слишком много света! Все остальное бледнеет и исчезает. Перед моими глазами, ослепленными Им, мир людей
едва проглядывается за пеленою струящегося стекла.
Слово «Бог» слишком велико для меня. Кто такой я,
Орифиэль, чтобы произносить его? Я ничто, растворенное в ничто, преданный пес, изумленный прислужник,
павший ниц и уткнувшийся в землю всеми своими четырьмя лицами.
Создатель допустил меня ко всем своим благам и райским кущам, ко всей своей благодати и сиянию, мне не
доступно лишь одно, но это основа основ: я не способен
постичь Его. Его тайна так далека от моего понимания,
что любые попытки познать Его без единой надежды на
спасение увлекут меня в грех тщеславия. Мне достаточно — и много более того — видеть Его отражения, нести
на себе Его могучий вес, слышать доносящиеся из Его уст
повеления, которые я раболепно выполняю, до того как
Он успеет досчитать до двух: Возьми в руку раскаленные
угли, Орифиэль, и обрушь на тот город! Или: Ты будешь
называться Меркаба, Орифиэль, и Я взойду на твою колесницу. Или: Принеси мне кусок хлеба, Орифиэль, мне захотелось испытать голод! (Согласно прихоти великого создателя миров и изобретателя имен, сегодня меня зовут
Орифиэль, завтра будут звать Меркаба, вчера звали Метатрон или звали любым другим из моих семидесяти шести
прозвищ.)
Я лишен цельности, как и личности: я не один, меня
легион, меня и нас больше тысячи, одно колесо заключено в другом, и внутри этого еще и другое, и другое внутри следующего — и так насчитывается десять воинств,
которые формируют концентрическую армию Колес и
Тронов. И пусть не пробуют нас удержать, мы неуловимы. Мы горим в лихорадке головокружительной спирали
многоликости, и из наших рук исходят столбы дыма.
Мы так велики, что можем объять галактики, но одновременно мы так малы, что помещаемся в булавочной
головке. Как страшно, как ужасно то немыслимое количество нас, ангелов, помещающихся в булавочной головке!
Наше имя Орифиэль, Трон Господень, отдохновение в Его непомерных трудах. Наше имя Орифиэль, Колесо Господне, помощь в Его бесконечных странствиях.
Наше имя Орифиэль, и благословенны мы среди всех ангелов, потому что лишь нам даровано задыхаться от счастья под розовыми ягодицами Бога.
Купить книгу на Озоне